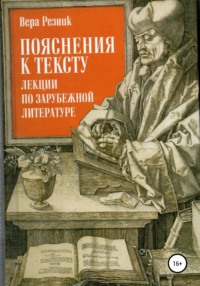
Пояснения к тексту. Лекции по зарубежной литературе
Эпистолярное наследие Манна замечательно, особенно интересна переписка с Генрихом.
Когда в семьдесят лет Томас Манн заболел раком легкого и его прооперировали в швейцарской клинике – ему сказали, что это туберкулезный процесс, но он в общем-то и сам понимал, в чем дело. Впрочем, и тут сказался писатель: он подробнейшим образом описал историю пребывания в клинике и собственной болезни. И это очень увлекательное сочинение. А после удаления легкого Манн прожил еще десять лет, написал в восемьдесят лет, не успев закончить, самый свой веселый роман, «Приключения авантюриста Феликса Круля», очень неудачно экранизированный немцами, и умер от тромбоза бедренной артерии. Ему посвящена бездна исследований и даже есть кинематографические версии его жизни и жизни семьи, американские и немецкие. Кстати, известен был не только несчастный Клаус Манн, другой сын Голо, очень похожий на батюшку, был очень известным историком. Манн – одна из самых монументальных и величественных фигур всей немецкой литературы.
Маленький господин Фридеман
Я еще буду по ходу дела останавливаться на разных биографических подробностях, но сейчас хочу сказать, что первый сборник новелл Томас Манн опубликовал в 1898 году, можете сами посчитать, сколько ему было лет. Как правило, в течение жизни с людьми происходят существенные изменения, связанные с обретением опыта, сменой жизненных вех и т. д., а вот у Манна не было никакой очевидной эволюции. Он не менял ни идеологических (если не считать «Размышлений аполитичного»), ни эстетических убеждений, и уже в двадцать три года фактически стал тем, кем стал. Это не так часто, но бывает. Сборник назывался «Маленький господин Фридеман», и его открывала новелла под одноименным названием. Что же это был за господин, и какова его история?
В небольшом провинциальном немецком городке, в довольно обыкновенном семействе рождается ребенок – мальчик, которому была бы уготована тоже достаточно обыкновенная, одна из сотен таких же, судьба, но не тут-то было… Подвыпившая нянька роняет месячного младенца на пол, предопределяя тем самым все печальные особенности его грядущей жизни… У мальчика начинает расти горб. И это физическое увечье разом вышвыривает его на обочину. Суждена ли ему отныне женская любовь? – Нет. Может ли он сделать большую профессиональную карьеру? – Тоже нет. Маленький господин Фридеман – совладелец небольшой фирмы, и этим его возможности исчерпываются. Он очень уютно устроился в своем доме с небольшим садиком, с аккуратными, посыпанными песком дорожками и благоухающими цветами. Живет он с сестрами, вредными старыми девами. Каждую неделю он посещает местные музыкальные вечера – он большой меломан и даже музицирует, неплохо играет на скрипке. Эта игра на скрипке помогает ему спрятаться от той жизни, которой живут обыватели и которая ему заповедана. Он и вообще эстетически развит и любит изящное, этакий маленький эстет. Надо заметить, к тому же, что он большой щеголь. Он носит обтянутые черным шелком цилиндры, шелковые шейные платки, тонкие перчатки. И когда он важно вышагивает, так тщательно одетый, по главной городской улице – в цилиндре, в перчатках и с тростью, его маленькая фигурка производит комическое и трогательное впечатление. С его скромными возможностями он не так уж плохо устроился в своем оранжерейном мире – этот маленький господин Фридеман. И все бы так и шло, но тут внезапно в городке расквартировывают полк под командованием некоего полковника фон Ринлингена. В провинциальном городке на манер флоберовского это исключительное событие, сопровождаемое шумом и пересудами. Но особое удивление, неодобрительное удивление, вызывает жена полковника Герда фон Ринлинген – прошу обратить внимание, многие женщины такого типа у Манна получают имя Герда.
Это экстравагантная молодая дама, гарцующая в мужском костюме на лошади с папироской в руке. Когда маленький господин Фридеман видит ее мельком впервые на улице, он почему-то странно бледнеет. Поскольку маленький господин Фридеман принадлежит к местной интеллигенции, в его отсутствие госпожа полковница наносит ему визит. Он отдает визит, явившись засвидетельствовать почтение. Его приглашают на обед в честь расквартирования. Госпожа фон Ринлинген, уже и прежде с любопытством приглядывавшаяся к маленькому, уморительно-важному господину, смертельно бледнеющему в ее присутствии, сажает его рядом во время обеда у Ринлингенов, потом приглашает прогуляться по парку к реке и там, выслушав признание в любви, пренебрежительно и брезгливо его от себя отшвыривает. Маленький господин Фридеман, униженный и потрясенный, не поднимаясь с колен, подползает к воде и, опустив голову в воду, больше ее из воды не вынимает.
Если не вся, то, по крайней мере, значительная часть всей последующей манновской проблематики вытекает из этого сюжета. Это капитальная тема Томаса Манна, буквально подчеркивающая следующее: некоторые люди непохожи на других. Они могут страдать физической – и она делает их изгоями общества – или моральной увечностью. Одинокий непохожий увечный человек ищет в жизни счастья и терпит неудачу. «Увечность» побуждает такого человека искать прибежища в искусстве. Пусть у маленького трагического господина Фридемана это еще дилетантская любовь к искусству, но, в основном-то путь нащупан верный. Ведь, как вы помните, я говорила, что искусство двадцатого века интровертно, т. е. обращено исключительно к себе, замкнуто на себе. Оно познает себя и занимается собой, этому искусству все, кроме собственной персоны, надоело. Ведь вот и Пикассо, как приснопамятный советник Креспель из новеллы Гофмана, но с большей удачей, чем тот со своими разанатомированными скрипками, ищет идеи вещей, тот центр, в котором рождается гармония. И новеллы о судьбе искусства, в большей степени о судьбе художника, творящего это искусство, – центральная тема всего того, что вообще написал Манн. Разумеется, несколько мелодраматическая история маленького господина Фридемана это еще в содержательном смысле тропинка, но ей суждено впоследствии сделаться столбовой дорогой.
Тонио Крегер
Одна из двух самых знаменитых новелл на эту тему – «Тонио Крегер». Я проанализирую несколько принципиальных моментов из этой новеллы, не пересказывая подробно ее сюжета, заключающегося в истории взросления некоего подростка из вполне бюргерского семейства, страдающего из-за своего странного для немца имени Тонио и к тому же тоненького и смуглолицего – явная примесь южной крови. Это история выбора жизненного пути. А выбор связан с тем, что Тонио тоже болезненно ощущает свою непохожесть на школьных сверстников. Рассказ начинается со сцены, когда Тонио возвращается из школы в сопровождении соученика по имени Ганс Гансен – эта сцена играет в новелле приблизительно ту же роль, что у Гюго в «Девяносто третьем годе» встреча с Мишель Флешар – это камертон всему будущему рассказу, тональность, в которой оркеструется будущее повествование. Так вот, Тонио хочет дружить, он почти влюблен, как бывает только в юности, в этого ладного белокурого и голубоглазого, ловкого отличника Ганса Гансена. Он просто домогается его симпатии, и Ганс Гансен это чувствует. Он тоже симпатизирует Тонио, не вполне, впрочем, его понимая. И по дороге Тонио увлеченно излагает Гансу, размахивая ранцем, про несчастного короля Филиппа из шиллеровского «Дона Карлоса», книги, которую он только что прочитал. Драма Шиллера потрясла Тонио, особенно страшное одиночество короля Филиппа… и Ганс, которого на самом деле интересуют только лошади, в сущности, неплохой мальчик – слушает из вежливости. Но тут на дороге появляется еще один сверстник. «А вот и…» прерывает Ганс Тонио… Когда они прощаются, Ганс говорит, что, наверное, это интересная история – про плачущего в одиночестве короля. Говорит из сострадания к Тонио.
Этот эпизод задает определенный тон, тему изоляции человека художественного и интеллектуального склада и его противостояния обыденности. Этот горький опыт отчуждения от добропорядочной, нормальной и неинтересной жизни постепенно накапливается. Через два года после пережитого события с голубоглазым и белокурым Гансом Гансеном Тони Крегер влюбляется в белокурую и голубоглазую Ингеборг Хольм, которую он встречает на уроке танцев. Он не добивается ее расположения, как прежде расположения Гансена, он уже знает, что ему не сыскать взаимопонимания с белокурыми и голубоглазыми, добропорядочными, умелыми и складными людьми, живущими в тепле человеческих взаимоотношений и по законам нормы и обыденности. Кстати, именование «белокурые и голубоглазые» из соответствующих текстов Фридриха Ницше.
Первый эпизод прощания с Гансом Гансеном заканчивается словами: «Сердце его в эти минуты жило. Оно было переполнено тоской, грустной завистью и легким презрением…» Во втором эпизоде: «Он стоял одиноко, отчужденно и без надежды…»
Да, Крегер завидует уютному, домашнему, бытовому существованию складных «белокурых и голубоглазых», но и презрение к этим уж слишком незатейливым людям у него тоже нарастает. Тонио Крегер понимает, что он другого сорта, из другого теста, и помимо зависти и презрения он начинает ощущать что-то похожее на гордость избранничества. Он начинает отдавать себе отчет в том, что художник – избранник, что он не знает отчетливо, кем он избран, но избран – это точно.
И вот еще одна важная для понимания авторской точки зрения сцена – сцена на пароходе, когда ночью какой-то добряк-пассажир вылезает на палубу и принимается простодушно восхищаться картиной звездного неба. Слушающий его охи и ахи, стоящий неподалеку Тонио думает о том, как далеко от искусства это простодушное и наивное восхищение.
Дорогие друзья, ваше представление о художнике как об особенно глубоко переживающем субъекте, если следовать Томасу Манну, глубоко неверно, художник не сильнее и глубже чувствует, он лучше различает, лучше видит, точнее замечает, и, главное, он холоднее вас. И еще, конечно, он умеет хорошо, если это писатель, например, расставлять слова по своим местам. Чувство, теплое сердечное чувство, такое, какое испытывает господин на палубе плывущего под ночным небом теплохода, всегда банально и бестолково. Оно пошло в исходном смысле этого слова, т. е. затасканно, много ходило, а не то, что имеете в виду вы, когда употребляете это слово в значении – неприлично. Артистичны только раздражения и холодные экстазы испорченной нервной системы художника. Здоровые сильные чувства – это аксиома – безвкусны. Владение средствами выражения, стилем, формой – это уже предпосылка холодного рассудочного отношения к человеку, а никакой не сердечности. Искусство возникает только в атмосфере холода и подмороженности, так сказать, во или на льду. Сделавшись чувствующим человеком, полагает Манн, художник перестает существовать. Искусство не имеет ничего общего с душегрейным утешением, это – перенапряжение интеллекта и миражи и ознобы разладившейся нервной системы художника. Оно не добро, оно демонично.
Вот эта тема будет звучать во всех произведениях Томаса Манна: нормальные, теплые, человеческие люди не бывают художниками. Художники – люди дегуманизованные в смысле Ортеги, занимающие максимально удаленную позицию по отношению к «человеческому, слишком человеческому», как скажет Ницше, а весь Томас Манн просто пропитан отваром из идей двух великих немецких философов – Шопенгауэра и Ницше.
Третья важная сцена в «Тонио Крегере» – встреча и переписка с приятельницей русской художницей Лизаветой Ивановной и беседа, в которой эти сокровенные мысли об искусстве как раз и высказываются. Кстати, прототип Лизаветы Ивановны – небезызвестная Лу Андреас Саломе, фантастическая женщина из России, подруга двух гениев, Ницше и Рильке, и к тому же впоследствии пользовавшаяся благосклонностью Зигмунда Фрейда. Вообще к русским Манн внимателен, русские появляются, например, в романе «Волшебная гора», в котором один из центральных персонажей – русская женщина по имени Клавдия Шоша. (В санаторной столовой имеется, кстати говоря, «плохой» русский стол, рядом с которым никто не желает садиться из-за ненадлежащего поведения за столом тех, кто за ним сидит). Когда Клавдия Шоша входит в столовую, она непременно резко хлопает дверью, при этом рождаются сквозняки, что-нибудь всенепременно падает со стола и разбивается. Клавдию, женщину во всем прочем очень умную и почти что инфернальную искусительницу, это мало трогает. Русские, по мнению Томаса Манна, народ глубокий и со смыслами, но распущенный, не обладающий формой, пренебрегающий ею. Весьма, впрочем, традиционная точка зрения на русских, которые зачастую этой своей размашистостью кичатся.
В беседе с Лизаветой Ивановной, однако, Тонио утверждает одну важную вещь, что все-таки, оказывается, были такие художники, кому удавалось совмещать красоту выражения и отточенность формы с человеческими чувствами, с острым состраданием и сердечностью… и это русские писатели девятнадцатого века, потому что только великому русскому искусству удалось на каком-то этапе перескочить бездонную пропасть, на одном краю которой располагается добро, а на другом – красота.
И та же Елизавета Ивановна говорит Тонио, что он «заблудший бюргер», и это именование можно приложить к очень многим персонажам Манна; «заблудший бюргер» – это человек, обреченный быть художником, но относящийся к своей склонности к искусству как к позорному пятну и ненормальности. По этому поводу Тонио припоминает слова своего отца, говаривавшего, что де цыгане из табора эти художники… Сказанное, разумеется, не исчерпывает смыслов этой знаменитой новеллы.
Вторая знаменитая новелла о судьбе художника, и о том, какие дороги художник выбирает, а точнее, какой распутицей ему иногда приходится следовать: «Смерть в Венеции». Писал ее Манн значительно позже, в 1911 году.
Смерть в Венеции
Это опошленная временем, в которое мы с вами живем, быть может, самая совершенная вещь у Томаса Манна. Кстати, неудачно, ибо принципиально неверно, с неверными акцентами экранизированная знаменитым итальянским режиссером Лукино Висконти, но об этом позже.
Сюжет вкратце сводится к следующим событиям: некто, очень знаменитый писатель по имени Густав фон Ашенбах, приставку фон получивший за исключительные заслуги перед отечественной литературой, отправляется на одинокую прогулку. Ашенбаху под пятьдесят, он добился в жизни того, чего добивался: он по заслугам признан, он, что называется настоящий мастер. Он написал немало книг, заслуживших высокое одобрение интеллектуальной элиты, отрывки из его стилистически безупречной прозы разнесены по разным хрестоматиям как образцовые. Это строгий, замкнутый и глубоко одинокий человек, живущий только искусством. Живущий абсолютно аскетической и упорядоченной жизнью, всякую прочую жизнь, как выразился, в свое время Борис Пастернак, «отчеркивающий на полях». В жизни он никто, потому что в искусстве он – все, как говаривал другой знаменитый писатель. Заниматься можно чем-то одним, или искусством, или жизнью. Один из знакомых Ашенбаха объясняет, как живет этот писатель при помощи жеста. Он сжимает кулак. Это – символ суровой, аскетической, исполненной самоотречения жизни Ашенбаха. Так живет Ашенбах. А вот так Ашенбах никогда не жил; безжизненная кисть с вяло распущенными пальцами обращена вниз. Это человек, исполненный исключительного и заслуженного чувства собственного достоинства и осознающий свой удел и свои заслуги.
Внезапно на трамвайной остановке возле кладбища Ашенбах вдруг видит странного бродягу-незнакомца в зеленой шляпе, очень странного и неприятного, в упор разглядывающего Ашенбаха. И по какому-то тоже странному стечению обстоятельств, – бывают у нас такие немотивированные ощущения, до корней которых трудно доискаться, – Ашенбаха вдруг посещает неожиданное чувство – он понимает, что устал, и нужно поехать отдохнуть, набраться сил, сменить обстановку, он чувствует истощение и охоту к перемене мест… Короче говоря, он собирается и уезжает отдохнуть в Венецию. Его посещает даже что-то вроде желания бежать. По дороге с ним случается один примечательный эпизод: когда он плывет на пароходе, он замечает очень шумную компанию веселящихся юнцов и один среди них как-то, непонятно почему, привлекает его внимание особенной розовощекостью и оживленной суетливостью. Ашенбах к нему присматривается и вдруг с ужасом понимает, что это не юноша, а увивающийся возле молодежи и особенно шумящий и заливающийся смехом крашеный старичок. Он производит на Ашенбаха ужасное, просто отвратительное впечатление, он смехотворен, он шут гороховый, этакое полное отсутствие чувства собственного достоинства, а чувство собственного достоинства – это то, что так лелеет и чтит в себе Ашенбах. Как бы то ни было, я не буду описывать целый ряд символических неприятностей, случившихся с ним в дороге, он приезжает в феерическую Венецию и располагается в одном из отелей. Спустя несколько дней он замечает в столовой за обедом многочисленное, по-видимому, польское семейство и среди его членов двенадцати-тринадцатилетнего мальчика ослепительной красоты со строго точеными формами лица и тела, этакого юного бога. Ашенбах теряет голову. Он старается держаться, подобные эксцессы для него невозможны, это вам не набоковский Гумберт Гумберт со своими нимфетками, это гордый, исполненный достоинства человек, весьма презрительно относящийся к любого рода распущенности и расслабленности. Но через некоторое время он вынужден, по крайней мере, наедине с собой, наименовать то, что с ним случилось, и наименование это – любовь. Когда ужаснувшийся Ашенбах это осознает, он смиряется, он не в силах совладать с собой, он начинает приходить на пляж, когда там семейство, следовать за мальчишкой по узким улицам Венеции, преследовать его, идя в некотором отдалении.
Между тем в Венеции происходит что-то странное, и постепенно выясняется, что в городе холера, которую скрывают от туристов, чтобы все не разбежались. Ашенбах в отчаянье не знает, что делать, говорить или нет о полученных им сведениях почтенному семейству, и, в конце концов, решает не говорить. Он не хочет, чтобы Тадзио уезжал, его и вообще влечет к гибели. Скитаясь по Венеции, фактически убегая от самого себя, Ашенбах заходит в парикмахерскую и с ужасом видит свой совсем немолодой и несколько безумный лик в зеркале.
Хочу, кстати, сказать, что взятый Висконти на роль Ашенбаха Дирк Боггард в фильме «Смерть в Венеции» никуда решительно не годится, потому что это мелкий суетливый клерк, а не исполненный горделивого достоинства больной орел. Но это к слову.
В ответ услужливый парикмахер предлагает несколько подновить и омолодить его облик, утверждая, что клиент несомненно этого заслуживает… Преображенный, подкрашенный Ашенбах с сумасшедшей надеждой выходит из парикмахерской. Правда, он уже несколько дней себя не совсем хорошо чувствует. Еще через несколько дней он видит внизу в отеле груду чемоданов и, спрашивая о том, кто уезжает, заранее знает ответ. Ему сообщают, что после второго завтрака уезжает польское семейство. Он выходит на пляж, садится с карандашом и бумагой в шезлонг, в котором сидит обычно, видит Тадзио с мальчишками на пляже, даже едва не бросается к нему, чтобы помочь ему в легкой стычке с мальчишками, а когда тот удаляется по пляжу, спустя несколько минут соскальзывает с шезлонга на песок и умирает.
Вообще у этой истории – это выяснилось недавно – была вполне реальная подоплека. О ней поведала Катя Манн, жена Томаса в своих записках. Эпизод имел место в Венеции, когда они с Томасом там отдыхали, и он действительно симпатизировал некоему отпрыску польского семейства. Но реально, как вы понимаете, история, эмоциональный накал был преувеличен, хотя непроросшее зерно действительно было. Спустя много лет один поляк узнал себя в Тадзио и рассказал, что в те времена отдыхал с родителями в Венеции. Вообще, старшая дочь Эрика потому и не хотела публиковать многотомные дневники Томаса, он вел их всю жизнь, что в них имелись литературные грезы гомосексуального порядка, но практикующим гомосексуалистом, в отличие от сына, Томас не был никогда.
Позволю себе заметить, однако, что на эту тему кто только не резвится, сам Манн к своим грезам относился с юмором, изобразив себя в романе «Приключения авантюриста Феликса Круля» в облике, страдающего этой прихотливой особенностью, величественного лорда Килмарнока, безупречного джентльмена с большим оцепенелым носом. Взгляните на фотографии Томаса Манна и вы сразу поймете, с кого писан Килмарнок. Нужно сказать, что писатель своей жене – я о ней буду говорить позже – все рассказывал, повторяю, речь шла о душевных состояниях, а не об актах, и она возмущенно говорила, что не желает ничего знать… но он был безжалостен.
Но нас интересуют все-таки цветы, хотя бы они росли из сора и не ведали при этом стыда: дело обстоит сложнее, намек на такой поворот, на что-то в этом роде был еще в маленьком господине Фридемане, ведь любовь господина Фридемана к Герде фон Ринлинген тоже любовь невозможная. Напоминаю, что произведения эти писались не сейчас, когда возможно все, и оттого все – не катастрофа и не любовь. Хочу напомнить: еще романтизм подчеркивал, что запретное наслаждение – самое острое и запретный плод слаще всего. Позже и Ницше написал такие стихи «Для мук раскаянья мне дайте преступленье, иль я умру при свете темных туч». Запрещенная, не санкционированная общественными устоями любовь наиболее болезненна и катастрофична.
Любовь как роковое наваждение, смятение и унижение – такова она и в «Маленьком господине Фридемане», и в «Смерти в Венеции». Какая, собственно говоря, проблема встает перед Ашенбахом: он уважал и чтил себя, он мастер прекрасной формы, он – человек, отливающий в форму что-то хаотическое, вдруг пасует перед наплывом чувств, перед бурей. Все его ценности, все, что он старательно выращивал в себе и исповедовал, вдруг сметено и сокрушено вторгшимся в его сердце хаосом. Он привык к аскетизму и стойкости, а тут все устои рушит соблазн вакханального счастья.
Темы противостояния хаоса ясной гармонии подхвачены Манном у Фридриха Ницше. У Ницше есть работа, называющаяся «Рождение трагедии из духа музыки». В ней противопоставляются два бога: Аполлон и Дионис. За Аполлоном стоят разум, культура, гуманность, пластические искусства. За Дионисом – хаос, опьянение, «дикие дебри», музыка. Эти боги воплощают контрастные начала человеческой души. При чтении «Смерти в Венеции» обратите внимание на имена богов, вплетаемые в текст – они вплетаются именно в духе Ницше. Греческая тема в повести связана с идеями этой работы Ницше, подхваченными в России Дмитрием Мережковским и Вячеславом Ивановым.
Так в чью пользу решить задачу: прекрасная упорядоченная, исполненная достоинства, возвышенная форма или смятенный хаос переживаний?
Почему я говорю, что Висконти вообще упразднил проблему в «Смерти в Венеции» в угоду своим сексуальным склонностям или убеждениям, это, в конце концов, безразлично. Но ведь у Висконти не так важен эпизод с крашеным старичком в фильме, между тем это принципиально важная фигура, символическая. Когда подкрашенный Ашенбах, выходит из парикмахерской, он вступает на позорный и шутовской путь крашеного старичка. Кроме того, я уже говорила, что Ашенбах мелок, а Тадзио тошнотворно андрогинен. Вообще в фильме все не то, потому что нет манновской проблемы. А любовь живет только там, где есть нравственные проблемы. Там, где их нет, может быть все, что угодно: семейная жизнь, удовлетворение сексуальных потребностей, но, не обольщайтесь, любви там нет. Того, что Платон называл эросом, там тоже нет… Томас Манн как-то раз разбранил в письме к своему брату Генриху его роман, написав ему буквально следующее: сексуальность – это то, голое и не одухотворенное, что можно просто назвать по имени, между тем как эротическое – это поэзия, то, что идет из глубины, то, не поддающееся называнию, что вносит во все на свете трепет, очарование и тайну.
Кстати, когда Манн писал Ашенбаха, он предполагал в своем герое внешнее портретное сходство с одним историческим лицом, на которое в тексте не указал, а портретные черты обрисовал очень приблизительно. Каково было потрясение автора, когда он получил от художника иллюстрации, где был изображен Ашенбах с лицом именно того человека, о котором он при этом думал великого австрийского композитора двадцатого века, он умер в одиннадцатом году, Густава Малера. Кстати, фильм Висконти сопровождает изумительное адажиетто из малеровской пятой симфонии.
Почему Ашенбах остается в пораженной холерой Венеции? Потому что для Ашенбаха, всю жизнь истово служившего богу Аполлону и вдруг предавшегося соблазнам Диониса, нет другого выхода. О какой жизни может идти речь после такой катастрофы, после такого нравственного крушения? Все кончено. Потому он и умирает, что ничего, кроме смерти ему не остается.
«Будденброки» (1901 г.)
При работе над «Будденброками» с Томасом Манном, произошло то, чему суждено было случаться регулярно: в процессе создания произведение переросло замысел, оно просто разрасталось на глазах. В письме к Генриху Томас замечал, что то, что он пишет, это уже не так скромно, как выглядело в начале, «я думаю об этой книге с уважением, у меня просто-таки сердцебиенье начинается». Меж тем задумывалась всего лишь история мальчика Ганно, впечатлительного ребенка, отпрыска угасающего рода, а вышло полотно эпохи, семейный роман, портрет семьи и города. Общество Любека было возмущено, узнав себя. Кстати, от так называемого «дома Будденброков», описанного Манном дома своих деда и прадеда, уцелел ныне только фасад, бывший особенно прочной кладки. Как бы то ни было, тетушке Элизабет пришлось примириться с тем, что она Тони Будденброк; дядя Фридель – «паршивая овца» семейства – возмутился тем, что он Христиан. Кстати сказать, возмущение возмущением, и, тем не менее, все родственники исправно осведомляли Томаса по части фактического материала и отвечали на его устные и письменные расспросы, вероятно, потому что уже отлично понимали, что им сулит упоминание некоторых их характерологических черт в романе. Но Манну случалось проделывать вещи и похуже; он вообще обращался со всеми, как с материалом для своих книг, они были для него всего важнее. Он прекрасно мог повторить вслед за Бальзаком, сказавшим на каком-то приеме человеку, который рассказывал ему о болезни жены: «Вернемся к реальности, поговорим о Рюбампре».

