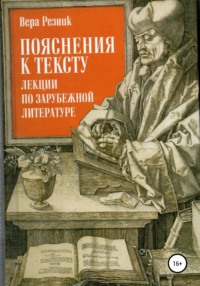
Пояснения к тексту. Лекции по зарубежной литературе
Роман имеет подзаголовок «История гибели одного семейства» и описывает четыре поколения семейства Будденброков. Нужно сказать, что семейная хроника – распространенный жанр, из самых у нас известных переведенных хроник – «Ругон-Макары» Золя, «Сага о Форсайтах» Голсуорси и хроника Роже Мартен дю Гара «Семья Тибо». Но, конечно, эти фолианты не идут в сравнение с Будденброками. Нужно сказать, что господствовавший в конце века натурализм чрезвычайно интересовался вопросами патологической наследственности, характерный пример – ибсеновские «Привидения» с типичной фигурой Освальда, дегенерата, расплачивающегося за грехи отца. В конце века в моде было учение знаменитого французского ученого физиолога Клода Бернара, автора нашумевшего «Введения в экспериментальную медицину». С учением Бернара связывалась необоснованная переоценка роли «среды» и биологических законов наследственности. Если суммировать эти воззрения в поговорке, то это утверждение, что тем или иным образом «яблоко от яблоньки недалеко падает» – допущение, тем или иным образом оправдывавшее личную безответственность и оттого вызывавшее такое возмущение у Достоевского, что он в своих идеологических романах иначе, как «бернары», не говорил. Нужно сказать притом, что сам Томас Манн никогда не становился под знамена какого-либо литературного направления или культурного движения, он учился у всех, у кого можно было учиться, и было чему учиться. Он очень спокойно обходился с чужими достижениями и культурными завоеваниями, не то чтобы присваивая их, но перерабатывая так, что они становились его личными достижениями (так было, например, с музыкальной теорией Шенберга в романе «Доктор Фаустус»). С этим, кстати говоря, связана его огромная переписка с самыми выдающимися умами, учеными первой половины века, философом, социологом и музыковедом Теодором Адорно и мифологом, учеником Юнга, Карлом Кереньи и многими другими. Они были польщены и старательно ему растолковывали свои теории. А для Манна было важно только одно – чтобы пришедший со стороны мотив органично вошел в структуру художественного произведения. Гете однажды сказал: «Все, что у меня – мое, а взял я это из жизни или из книги – не важно. Вопрос лишь в том, хорошо ли это у меня получилось». Владимир Набоков подписался бы под этим высказыванием обеими руками. Манн к этому прибавлял, что не дар изобретательства, а способность одушевлять героев и факты отличает поэта.
Так вот, если возвратиться мыслями к ибсеновским «Привидениям» с их довольно ограниченной трактовкой человека как комплекса по преимуществу биологической наследственности (это просто не так, хотя иногда так бывает, например, наследственная алкоголическая зависимость), то манновская история вырождения семейства связана не столько с биологической, сколько, если можно так выразиться, социальной наследственностью, с совокупностью унаследованной небиологической информации. А это много сложнее прямой и однозначной биологической зависимости. И кстати, больше, чем Ибсен и Золя на Манна в этот период влияли перечитываемые им Толстой, Тургенев и Гончаров. О первоначальных двухстах пятидесяти страницах не могло быть и речи, роман разрастался, и Томас в письме Генриху отпускал шутки насчет фотографии с левой рукой на стопке книг, а правой за бортом жилета. (У нынешних авторов нет такого чувства юмора и самоиронии: один из известных переводчиков именно в такой позе сфотографировался.) Но обратимся к сюжету и соответственно к генеалогическому древу рода Будденброков, богатых коммерсантов из города Любека.
Без второстепенных фигур оно таково:
1) Старики: Иоганн Будденброк и его вторая жена
2) Сын: консул Иоганн Будденброк и консульша
3) Дети: Томас, Христиан, Тони, Клара, жена Томаса Герда
4) Ганно (сын Томаса и Герды)
Вообще фирма «Будденброк и сыновья» началась с того, что как говорит внук Томас «мой дед в пудреном парике и туфлях сделался поставщиком прусской армии и заработал уйму денег». Это человек, исколесивший в своем экипаже все поле военных действий и основавший хлеботорговую фирму. Состояние, которое он оставляет, намного больше первоначального. Обратите внимание на описываемый вначале романа обед в доме старого Будденброка, родоначальника фирмы и на него самого. Дело происходит в первой четверти девятнадцатого века, но старый Иоганн Будденброк – типичный человек века восемнадцатого, он жизнерадостный скептик, с вечными игривыми французскими стишками на устах, вольтерьянец и, в сущности, безбожник, человек совершенно посюсторонний, такой несколько французистый немец. И обед, описанный Манном, это какой-то фламандский натюрморт, такой, каким нам позволяет увидеть его временная дистанция, картина ностальгически-упоительная и ироничная: «Свечи медленно догорали и время от времени, когда струя клонила вбок их огоньки, распространяли над длинным столом чуть слышный запах воска». Гости и хозяева сидели на тяжелых стульях с высокими спинками, ели тяжелыми серебряными вилками тяжелые добротные кушанья, запивали их густым добротным вином и не спеша перебрасывались словами. Мадам Крегер дает рецепт приготовления рыбы. На двух больших хрустальных блюдах вносят плетен-пудинг, и Иоганн Будденброк посылает в погреб за бутылками, приносят запыленные бутылки… потом следует кофе, потом сигары… Все это сопровождают немудреные, домашнего приготовления стихи, их читает местный поэт Гофштеде. Потом следует третья бутылка мальвазии… Весь этот обед с родственниками и друзьями происходит в атмосфере добротности и добропорядочности, истинной респектабельности, это хороший дом, хозяин вправе гордиться нажитым (здесь нет, например, внутренней истерии, сопровождающей русское пьянство), здесь все чинно, добротно, плотно, вещественно. Конечно, это люди, не хватающие звезд с неба, но они умеют делать свое дело, богатеть, умеренно радоваться жизни и при этом не ходят по трупам. И когда старый Иоганн Буденброк умирает, он умирает легкой смертью. Его сын, консул, стремится сохранить все эти традиции. Он цепкий и осмотрительный делец, вот только рисковать боится, в результате чего ему приходится вписывать в гроссбух больше убытков, чем прибылей. И еще… в отличие от вольтерьянца и насмешника отца, он религиозен и в доме все чаще появляется пастор, в нем нет жизнестойкости. И если старые Иоганн Будденброк и его жена умирают естественной тихой смертью с чувством исполненного долга и добротно прожитой жизни, то консула смерть застает рано и неожиданно. Его вдруг постигает удар, и в этом уже есть признаки какого-то увядания. Вообще с этого времени Будденброки начинают умирать рано и болезни все больше занимают места в их мыслях и чувствованиях. И второй глава фирмы, второй Иоганн Будденброк умирает так, словно что-то его подточило. Но больше всего места в романе уделяется третьему поколению, детям консула Будденброка, особенно Томасу. При Томасе, становящемся сенатором (высшее звание, доступное купцу), фирма балансирует словно на гребне волны, и при том, что у самого Томаса в городе такой авторитет, почет и престиж, каких не было доселе ни у одного из Будденброков, дело обстоит вовсе не так просто. Я позволю себе не останавливаться на истории с девушкой-цветочницей и женитьбе на Герде Арнольдсен, браке, к которому Томаса побудило высокомерие и желание вырваться из круга купеческих интересов. Жена Томаса женщина с темными кругами под глазами, ненавидящая как раз те самые семейные обеды музыкантша – чужда обстановке и духу дома. Томас понимает, что он не совсем подходящая пара для своей жены, это его унижает. Брак далеко не безоблачен, Манн недаром вводит эпизод с лейтенантом фон Трота, партнером Герды по музыкальным дуэтам. Если припомните, сходный эпизод есть в толстовской «Крейцеровой сонате». Томас Будденброк, как Позднышев из «Крейцеровой сонаты», тоже больше всего прислушивается к паузам в дуэте жены и скрипача. Впрочем, Томас Будденброк вполне западный человек, ему не приходит в голову бросаться на предполагаемых любовников своей жены с ножом. Он и вообще, этот Томас Будденброк, очень аккуратный человек и щеголь, но постепенно его тщательность перерождается в манию, и озабоченность репутацией прямо пропорциональна внутреннему распаду. У него сын, на которого он никогда не сможет положиться, он не станет продолжателем его дела, зато это очень душевно тонкий ребенок, есть вещи, которые ему не надо объяснять – «Папа пишет завещание» – объясняет Ганно, преграждая путь в отцовский кабинет, между тем как отец всего только просил, чтобы ему не мешали.
Тони Будденброк со своими мужьями, с мошенником и с пивным бочонком, и со своей смехотворной чванливостью и барской спесью (ведь мы не какие-нибудь выскочки Хагенштремы…). Но пришло другое время и верх берут как раз Хагенштремы, потому что выскочки, потому что нечистоплотны и ничем не брезгуют. Шут гороховый притом, что небесталанный, Христиан с его неврастенией, фиглярством и вечным припевом: «У меня мука вступила в левую ногу». Еще мальчиком Христиан вдруг кладет надкусанный персик назад на тарелку и объявляет, что отныне никогда персиков есть не будет: «А вдруг я по нечаянности проглочу эту здоровенную косточку, а она застрянет у меня в глотке… я начинаю задыхаться, я вскакиваю, меня душит, вы тоже вскакиваете»… и у Христиана вырывался жалобный стон. «Господи Боже, но ты ведь ее не проглотил» – говорила консульша». «А что было бы если бы я ее проглотил?» – говорил Христиан. Консул бледнел от испуга, а дед начинал громко браниться и кричать, что не потерпит дурацких выходок, но Христиан действительно долго не ест персиков.
Христиан вообще-то говоря, находится где-то на полдороге меж бюргером и артистом. Он принципиально не коммерсант (его фраза приводит в бешенство Томаса: «Все коммерсанты, по правде говоря, мошенники»). Благоверная, согласия на брак с которой Христиан так долго добивался, упекает его в психиатрическую лечебницу.
На этих людей Томасу не опереться. Опустошенный Томас живет со стоицизмом приснопамятного оловянного солдатика из сказки Андерсена. Разница в том, что Томас психологически очень далек от оловянного солдатика. Это сложный человек, не довольствующийся тем, чем принято довольствоваться в его кругах и поэтому-то на него и производит такое ошеломляющее впечатление случайно найденная книга, название которой в тексте не приводится, но совершенно очевидно, что это «Мир как воля и представление» Артура Шопенгауэра. Но потом следует первая в жизни сомнительная сделка с закупкой не выращенного урожая… и смерть из-за больного зуба. Смерть дикая и нелепая: от больных зубов не умирают. Герда больше всего потрясена видом измазанного грязью тела. Последняя ипостась смерти – умирающий от тифа очень талантливый, но нежизнеспособный Ганно Будденброк, Ганно, проведший черту в семейной книге и сказавший, что больше ничего не будет. И больше действительно ничего нет. Гете говорил, что если бы дети росли в соответствии с тем, что они обещают, то вырастали бы одни гении. Вот пятнадцатилетний Ганно Буденброк, этот наследный принц уходящей династии (настает время Хагенштремов), растворяется как облачко в небе, как музыкальный мотив, ведь унаследовав от Арнольдсенов одержимость музыкой, он не унаследовал ни от кого жизненной крепости – у сенатора Томаса ее не было.
Здесь тоже проглядывается шопенгауэровский мотив: жизнь – непрерывное страдание, искуплением жизни может быть только ее отмена, наша жизнь – мнимость, вечная иллюзия, покрывало майя, сон. На самом деле существует только неумолимо разрастающаяся слепая воля. Биологическое увядание, ослабление жизненных сил и одновременно восхождение к духовности (каждый последующий Будденброк интеллектуально и духовно значительнее предыдущего). Будденброки становятся сложнее и изысканнее, одновременно они утрачивают силу. Мне не хотелось бы снижать в конце рассказа об этом великом трагическом романе впечатление, но я все же позволю себе привести дополнение, сделанное поэтом Иртеньевым, к известной поговорке о том, что «в здоровом теле здоровый дух»: – «На самом деле одно из двух». И это – лемма Томаса Манна вслед за Шопенгауэром и Ницше: вкус и сила несовместимы. Восхождение это или нисхождение решать должны вы сами в соответствии с вашими собственными жизненными установками. Я только прошу вас внимательно прочитать эту замечательную книгу.
Роман «Королевское высочество»
А теперь поговорим о небольшом оптимистическом романе, которым обычно пренебрегают, я имею в виду «Королевское высочество» (1906 г.) «Болван-чурбан упал с лестницы и все-таки получил в жены принцессу. А я, черт побери, я больше, чем болван-чурбан», – написал как-то тридцатилетний Томас брату Генриху, сравнивая себя с героем этого романа. На дворе стоял февраль 1904 г., в воздухе пахло свадьбой: Томас настойчиво домогался руки Кати Прингсхейм, девицы, с которой он познакомился как-то раз в трамвае, когда указанная девица, между прочим, студентка математического факультета университета, категорически отказывалась на каких-то основаниях заплатить за билетик, и Томас за нее заплатил. Катя была дочерью математика, профессора Мюнхенского университета Альфреда Прингсхейма – весьма состоятельного человека, и поклонника изящных искусств, послужившего позже прототипом богача Самуэля Шпельмана из «Королевского высочества». Манн никогда не делал секрета из того, что в основе сюжета «Королевского высочества» лежала история его собственного сватовства – напротив, ему всегда нравилось извлекать на свет Божий и анализировать истоки собственных вдохновений, ведь и свою личную жизнь – я уже об этом говорила – он рассматривал как высокую игру и хотел быть хорошим игроком. Но, ясное дело, воспроизведена была психологическая атмосфера, а персонажи и весь антураж жениховства сказочно преобразились. Они преобразились настолько, что Манну пришлось объяснять непонятливым, что его роман не «реалистическое» произведение, а поэтическая сказка и аллегория.
И все же, какое жанровое определение ни давать этому произведению, оно оказалось типичным манновским романом, добротным, крепко сшитым и стянувшим в узел несколько характерно манновских духовных проблем. Тем не менее, глубокомысленная немецкая критика, привыкшая к фундаментальной серьезности и трагическим интонациям Томаса, дружно осудила роман, найдя его легковесным и неприлично благополучным. Они даже едва не переубедили самого Томаса Манна в его отношении к роману, потому что позже он написал Генриху: «А ведь Юбербейн, конечно, прав». Кто, однако, такой этот доктор Рауль Юбербейн, отчего он прав и что происходит в романе?
В некоем заштатном и захудалом, неуклонно беднеющем, вполне феодальном немецком княжестве рождается наследник престола – сухорукий принц Клаус-Генрих. Судьба этого принца составляет сюжет романа-сказки, ибо, в конце концов, бедняк принц женится на своей богачке принцессе, которая вовсе не принцесса, и все же в некоем высшем смысле – принцесса, княжество оживает в связи с неизбежными денежными вливаниями в разваливающуюся экономику, и легендарный розовый куст, похоже, в соответствии с легендой начинает источать аромат. Но по сути это канва, по которой вышиты весьма непростые, типично манновские проблемы. Речь идет об избранничестве как некоей жизненной отмеченности, особости. Обязывающей того, кто избран, к особому жизненному поведению. Быть избранным значит суметь расслышать зов и узреть перст судьбы, суметь распознать свое предназначение. Это значит ощутить одновременно свою непохожесть и провиденциальность собственного предназначения.
Конечно, это предполагает обязанность и необходимость не мерить себя всеобщей меркой и не оборачиваться на пресловутых «всех». Избранный – и это главное – требует от себя гораздо больше того, что предустановлено стандартом, чего требуют от себя обычные люди. Это человек, предъявляющий требования не к другим, а к себе.
Человеческая воля не в силах изменить или переиначить жизненный проект, но можно уклониться от судьбы и тем самым фальсифицировать собственное предназначение. Предопределение, строго говоря, осуществляется, только если ему навстречу стремится самосозидание. И поэтому-то не избранных, как вы понимаете, нет, но несть числа тем, кто не расслышал горний призыв. Иногда возложенная на себя ноша оказывается непосильной, но именно трудности будят силы и способности, ведь сказал же философ (я имею в виду Ортегу-и-Гассета), что человеческая жизнь расцветает только там, где ее растущие возможности уравновешиваются физическими и духовными трудностями. В этом смысле большинство манновских романов – романы об избранниках. (Иосиф Благословенный из романа «Иосиф и его братья», Грегориус из «Избранника», принц Клаус-Генрих, всем им выпало пройти через тяжкие испытания и заполучить благоденствие и счастье в самом что ни на есть житейском и одновременно высоком смыслах.) Но это Божьи избранники, а еще у Манна есть и другие, непонятно чьи избранники, все эти шпинели, крегеры, ашенбахи, леверкюны, бесприютные гордецы и заблудшие бюргеры, отвернувшиеся от жизни во имя созидания на бумаге или холсте, «отчеркивающие жизнь на полях» (Пастернак). Выше я в двух словах изложила сюжетную линию «Королевского высочества», а теперь, опасаясь, что вы пока роман не прочитали, хочу рассказать один немаловажный эпизод из него. Ну, вы себе представляете, как учится в школе подросток, если он вот-вот великий герцог? Никто двоек ему ставить не отваживается, и суждено ему судьбой невежество по всем параметрам. Соученики дать ему по шее тоже не могут, отчего затаивают злобу и в один прекрасный день на школьном празднике, теша свою душеньку, отыгрываются. Юный наследный принц в отсутствие наставника доктора Юбербейна перебирает на школьном вечере глинтвейна, и праздник превращается в вакханалию, ибо сорвавшиеся с привязи юнцы, воспользовавшись беспомощным состоянием Клауса-Генриха, позабыв о какой бы то ни было субординации, втыкают в петлицу костюма принца петрушку, а на голову ему надевают крышку от крюшонницы. И только стремительно ворвавшийся наставник принца доктор Юбербейн, склонившись в преувеличенно низком поклоне перед Клаусом-Генрихом со словами: «Ваше Высочество, соизвольте следовать за мной», кладет конец позору. Историю эту все старательно забывают и только принцев наставник разрешает себе позже сказать высокородному ученику (но это особая, совсем особая ситуации): «Что Клаус-Генрих, тебе снова захотелось получить на голову крюшонницу?»
Так вот, отчего я остановилась на этом эпизоде? Дело в том, что из романа «Королевское высочество» следует, что такая тяжкая участь не только у этих заблудших бюргеров – художников, но и у государей, если, конечно, это настоящие государи, а не те, кто готов скинуть запросто пиджак и поиграть с обывателем в кегли. Но это наставник высокородного принца Клауса-Генриха, которого зовут доктор Юбербейн, и при этом он – зеленолицый и прошедший огонь, воду и медные трубы (повторяющаяся систематически в романе характеристика), это он утверждает, что вот так запросто поиграть с обывателем может только государь, не сознающий своего предназначения, фальсифицирующий свое призвание, ибо, парадоксальным образом, что дозволено быку, не дозволено Юпитеру (история с президентом Клинтоном – яркий тому пример). Вообще зеленолицый доктор Юбербейн не жалует пошлой и жиденькой демократии. По его мнению, этикет, выдержка, долг, самообладание – те избранные и обособленные формы существования, которые нуждаются в попечении и заботе, ибо представительное существование – это жертва. А какое избранничество может быть без жертвы? Для доктора Юбербейна государь не должен нисходить к обывателю, государь больше, чем человек. Юбербейн совершенно презирает обывателей, заурядных людей, живущих обыкновенной жизнью, все эти непосредственность, тепло, открытость – «прямые навыки жизни», естественные и оттого вульгарные. Он любит необыкновенное и терпеть не может заурядное. Как может он, поклонник духовного аристократизма, сочувствовать браку Клауса-Генриха и Иммы Шпельман? Он горько комментирует, решение соблазненного обыкновенным житейским счастьем принца, говоря, что два исключительных случая превращаются в один – обыденный. Юбербейн категорически против такого банального выбора, тут-то он и сулит Клаусу-Генриху снова крюшонницу на голову. (Кстати, после женитьбы Манн разразился письмом брату Генриху, в котором жаловался на то, что брак и дети ему мешают, но это было только раз. Большей частью он говорил, что счастье это вовсе не что-то легкое и веселое, довольно часто все «счастье» сводится к необходимости сжать зубы.) Томас Манн, однако, при всем артистизме был устойчивым бюргером, с хорошими корнями, и он с этими трудностями справился. Юбербейн с его идеями кончает в романе самоубийством как раз из-за краха его педагогической практики. Ясное дело, что еще остается учителю, если он настоящий учитель и его ученик, единственное его дитя, намеревается пойти не по той дорожке… Что же касается философского источника воззрений наставника Его высочества, вполне очевидно, что это идеи Фридриха Ницше – помните: «Не реагируй на раздражитель сразу же… пошлость не может не следовать первому побуждению»?
Между прочим, оказывается, что вопрос о том, как следует вести себя заштатному принцу вообще вопрос принципиальный, на который разные культуры отвечают по-разному. Вот доктор Юбербейн превозносит стойкость и жертвенность представительского существования, существования формального, но именно в русской культуре оно было сокрушительно и яростно осмеяно Толстым при изображении салона Анны Павловны Шерер. Между прочим, эти салоны в тогдашней Россини были источником высокой культуры (об этом писал Юрий Михайлович Лотман), культуры как игры по правилам, предполагающей соблюдение этикета, четкость формальных установлений. Но Толстой любил «непосредственных» и не выносил «опосредованных», т. е. культурных, он действительно «срывал все и всяческие маски», а маски зачастую были ликами культуры, приобщающими природного индивида к преемственности и постоянству памяти. Толстой полагал, что между «быть» и «казаться» пропасть, но ведь может быть, что это грани одного и того же. Маска, думал Толстой, непременно искажает целомудренное и благообразное естественное лицо (Руссо), но некоторые думают по-другому: за разоблачением, высвобождением из культурных одежд начинается «натиск леса» (Ортега). Что же касается «благообразного естественного лица», то не у сегодняшних дикарей, а у дикарей настоящих было по-другому. Подумайте, ведь даже обычное переживание может вызвать утрату сознательности. Сознание вообще начинается с ощущения сопротивления первоначальному непроизвольному душевному порыву по тому или иному поводу. Первобытные племена очень строго хранили разработанные формы вежливости, складывали на землю оружие, говорили приглушенным голосом, припадали к земле, склоняли головы, показывали раскрытые ладони рук, стараясь избежать всевозможных психических опасностей. Когда мы желаем друг другу доброго дня, мы стараемся умилостивить судьбу, левую руку нехорошо держать в кармане или за спиной, когда пожимаешь правой рукой руку другого человека. Когда мы перед уважаемыми людьми снимаем шляпу, мы предлагаем им свою голову без защиты, чтобы умилостивить сильного. Это ограждение себя от беззаконных действий сверхъестественных сил с помощью определенных ритуалов и законов, система самозащиты. Грубо говоря, когда вы здороваетесь со мной в коридоре – это надетая вами маска вежливости и этикета, она вовсе не выражает вашего истинного отношения ко мне, исторически это ритуал самозащиты от неожиданного психического срыва. Толстой, при том что он был весьма светский человек, к нормам светского общества, а именно светское культурное воспитанное общество в своем соблюдении ритуалов ближе всего к дикарям, относился с большим осуждением из-за своего стремления к пресловутой правде… Но вопрос о «правде» весьма сложен. Давайте не будем его так с маху решать.
И вот еще один характерный эпизод из «Королевского высочества»: «Великий герцог Иоганн-Альбрехт умирал от страшной болезни, в ней было что-то обнаженное, что-то абстрактное, определить ее можно только одним словом – смерть». Знакомая интонация, не правда ли? Вне всякого сомнения при написании страниц, посвященных смерти Иоганна-Альбрехта Манн держал в памяти как смерть старого графа Безухова, так и смерть судейского чиновника Ивана Ильича Головина. Как у Ивана Ильича от слабости обмолвившегося и вместо последнего «прости» сказавшего «пропусти» (вот такие находки в литературе делают гениев!), так и у Иоганна-Альбрехта с последними словами выходит недоразумение: он бормочет, припоминая названия разных тканей, пока не выясняется, что имеет он в виду не ткань, а доктора со странной фамилией Плюш (кстати, приятеля доктора Юбербейна, тоже прошедшего огонь, воду и медные трубы). И так же, как в сцене агонии графа Безухова, Манн вполне в толстовских традициях описывает «человеческую комедию», ритуальный спектакль, сопровождающий процесс физического ухода. В последние минуты бесконечно уставший от великогерцогской жизни великий герцог, «которому все, ну решительно все опостылело», с затверженным искусством режиссирует собственную смерть, жалуя отличия и внося коррективы в расстановку присутствующих, автоматически изображая милостивую улыбку. Он стоит до конца этот стойкий оловянный солдатик. В итоге он умирает так, как надлежит, по его понятиям, умирать великому герцогу. В тоне, избранном Манном, нет сарказма, это тон мягкой иронии, и то сказать, здесь никто не получает выгод, в отличие от смерти графа Безухова. Все участники этого спектакля до тонкости знают ритуал и до последнего вздоха исполняют формальности.

