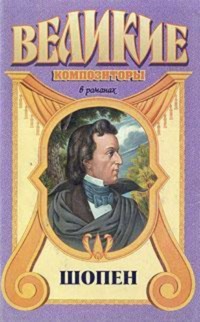
Шопен
Фридерик проводил Эльснера до кулис, а сам спустился в фойе. Он был весь под впечатлением игры и не хотел видеть измученного человека, который с трудом теперь спускается с высот на землю и говорит разный вздор, ибо о чем можно говорить с толпой, набившейся к нему в артистическую? И что он может сказать после того, что высказал на эстраде? Жестокое это обыкновение навещать музыкантов в антракте!
Фридерик охотно остался бы один, но это было невозможно. В фойе толпился народ, все говорили о Паганини. И никто, ни один человек, не мог оказать, что же именно потрясает в его игре. Музыканты употребляли специальные термины, и со стороны можно было подумать, что игра Паганини их совсем не волнует. А не музыканты произносили пылкие слова: «Неподражаемо!», «Божественно!», «Бесподобно» – и это звучало фальшиво и холодно. А между тем и те и другие были глубоко взволнованы.
Сам Фридерик чувствовал себя немым. Единственный человек, который был ему сейчас приятен, – Тит Войцеховский стоял где-то в другом конце, среди студентов-любителей. К Фридерику подошел Марцелл Целиньский. – Что скажешь? – спросил он с насмешливым удивлением, – на какой скрипке играет этот злодей? Клянусь, я готов поверить, что эту скрипку подарил ему черт, а струны закляла ведьма! – Фридерик натянуто улыбнулся. Опять черти и ведьмы – постоянные атрибуты ходячих легенд о Паганини! Целиньский повторял уже по инерции то, что говорили другие. – У него в руках очень хороший Гварнери, – сказал Фридерик, – остальное – дело его мастерства! – «Как сухо и холодно я говорю об этом!» – подумал он тут же. Целиньский насупился: – Конечно, эти россказни несерьезны. Я просто думаю, что обе руки у него одинаково развиты, да и, наверное, работает, как… черт! Вот видишь, без черта не обойтись! – Он засмеялся и пошел дальше.
Фридерика нагнал Ясь Матушиньский. Он тоже был взволнован и даже потрясен. – Знаешь, что я тебе скажу, – начал он с видом человека, сделавшего важное открытие, – талант – талантом, а у него все дело в особом строении мышц – Ясь уже целый год учился на медицинском факультете и судил о вещах по-своему.
– Ну и что же? – сказал Фридерик рассеянно. – Разве в этом дело? Впрочем, не слушай меня, я сегодня глуп.
Его нервы были напряжены, и он все ждал чего-то, не меньшего, чем игра Паганини. Он взял Яся об руку, чтобы загладить свою неприветливость.
В буфете за одним из столиков он увидел свою старшую сестру и молодого юриста Каласанти Ен-жеевича. Людвика издали поманила брата. Она была очень хороша, об этом можно было догадаться и не глядя на нее, достаточно было взглянуть на Енджеевича. Этот высокий, широкоплечий и серьезный юноша всецело зависел от Людвики, и хоть он что-то объяснял ей, а она внимательно слушала, этот разговор был для него гораздо важнее, чем для нее. И Фридерик при его нервном, напряженном состоянии заметил это. Впрочем, Каласанти был его приятелем, и кое о чем Фридерик уже догадывался.
– Что касается меня, – сказал Енджеевич, продолжая разговор с Людвикой, но кивнув в сторону Шопена и Яся, – то я окончательно убедился: в музыке началась новая эпоха. Мы ее предчувствовали – и вот: Паганини открыл ее в звуках скрипки!
– Теперь остается только ждать преобразователя фортепиано, – и Каласанти посмотрел на Шопена.
– В чем же заключается это новое? – спросил Матушиньский.
– Раньше, как мне кажется, композиторы больше увлекались общими идеями. Теперь они начинают интересоваться подробностями нашей внутренней жизни. Подробностями-вот в чем дело!
– Но тогда уместнее обратиться к оркестру! – заметила Людвика, – инструменты разнообразны – вот и подробности!
– Нет, – оказал Енджеевич, обратив на нее сияющие глаза. – Не все музыканты умеют извлекать из своих инструментов заключенные в них богатства. Паганини показал нам сегодня, что такое скрипка. До сих пор мы не имели представления о ней.
Все это было верно и умно, но и это не выражала полностью мысли Каласанти. У него было более верное мнение, но он хранил его про себя. Он должен был бы сказать: до сегодняшнего вечера я любил Людвику, но еще не знал ни ее, ни глубины своего чувства. А Паганини показал мне, как она прекрасна и как я предан и верен ей!
И если бы Паганини услыхал подобный отзыв о своей музыке, выраженный именно так, то это порадовало бы его больше, чем все неопределенные похвалы почитателей и пространные описания рецензентов.
Так думал Фридерик, возвращаясь на свое место. Уже кончился антракт, люди спешили на свои места. Кто-то торопливо пробежал мимо, задев Фридерика. Две хорошенькие девушки спешили к своему месту. Одна из них сказала:-Ах, боже мой, нас могут не пустить, а ведь каждый звук дорог!
Но панны благополучно уселись на свои места, а Шопен чуть не опоздал вернуться в ложу. Панна, которая боялась пропустить хоть единый звук музыки Паганини, была одета в черное шелковое платье, и, это чудесно оттеняло ослепительную белизну ее лица и шеи. Глаза у нее были большие и синие, черты лица тонкие и нежные, голос необыкновенно музыкальный. И вообще трудно было предположить, что она родилась от женщины. Вторую панну он почти не заметил.
И пока Паганини не появился вновь на сцене, Фридерик не спускал глаз с девушки в черном. Она сидела в шестом ряду, и из ложи ее было хорошо видно. Вот она повернулась в его сторону. Шопен все еще глядел на нее. Но Паганини уже показался из-за кулис, встреченный оглушительными рукоплесканиями.
Через несколько дней Фридерик принес Эльснеру фортепианный этюд и сыграл его. Этюд вполне отвечал своему назначению – укреплять беглость пальцев. – Ну-ка, повтори! – потребовал Эльснер. – Чудесно! Звуки сыплются, как из рукава. Но скажи однако: когда ты его сочинял, ты имел в виду только беглость? – Как? – спросил Шопен и почему-то сильно покраснел. Эльснер зорко посмотрел на него. – Конечно, это гораздо больше, чем этюд. Это самостоятельная картинка, и очень поэтичная, очень! Я назвал бы ее «Видение». Подходит? Одним словом, поздравляю тебя: ты здесь нащупал новую жилу!
Эльснер разговорился о том, как одна и та же форма обновляется благодаря новому содержанию.
– Да, Паганини, Паганини! – вздохнул он. – Здесь у тебя несомненно его влияние. Но – в самом лучшем, в самом благородном смысле! Не подражатель, а последователь… Я вижу, тебя не надо трогать: ты безошибочно выбираешь то, что тебе нужно!
Бог знает, что он хотел сказать. Но в первый раз за полгода он не напомнил Фридерику об его главном долге – об опере.
У выхода Шопен встретил Целиньского, они пошли вместе. У Марцелла был таинственный вид.
– Знаешь, о чем поговаривают? К нам должна приехать Генриетта Зонтаг.
– Давно пора!
– Да. Но после Паганини, я думаю, никто не будет иметь такого успеха… Есть и еще новости.
– Какие?
– Фридерик Шопен едет за границу!
– Вот уж действительно новость… для Шопена!
– Нет, правда, ты едешь: это решено!
– Кем решено?
– Всем синклитом. Пан Эльснер сказал вчера, что тебе пора выйти в большой мир. И теперь будут просить царя, чтобы выдал тебе деньги на дорогу.
– Может быть, я уже уехал? Где я сейчас? В Италии? Или в Париже?
– Сначала ты поедешь в Вену, – невозмутимо отозвался Целиньский, – а там посмотрим!
Навстречу им шла девушка со свертком нот в руках. Целиньский поклонился ей, как кланяются хорошо знакомым. Она ответила легким наклонением головы.
– Кто это? – спросил Фридерик и остановился.
– Наша консерваторская знаменитость, Констанция Гладковская. Поет как ангел! Неужели ты не слыхал о ней?
– Слыхал. Так это она?
– Вот что значит замкнуться в творчестве! Ты ее, наверное, десятки раз видел! И в концерте Паганини она была…
– В черном платье?
– Вот этого уж, признаться, не помню. Что же ты стоишь? Идем!
– Значит, она хорошо поет?
– Прелестно! То есть петь она еще не умеет. Но голос-божественный! У нашего Соливы в классе только две таких – она и Волкова. Хочешь, познакомлю?
– С кем? С панной Волковой?
– Нет, с Гладковской.
– Очень хочу. Только знаешь что? Не надо!
– Как это похоже на тебя! – сказал Целиньский.
Глава шестая
Профессор Карло Солива, итальянец по происхождению, считался лучшим преподавателем пения в Варшаве. Когда-то давно он будто бы узнал секрет знаменитого певца Томазини, который перед своей кончиной открыл его Соливе. Узнанный секрет Солива хранил про себя. Его ученики никогда не могли сказать, в чем заключается метод их учителя. Но им все завидовали, так как попасть к Соливе было чрезвычайно трудно.
Хорошо поставить голос умели только считанные педагоги: достаточно было слуха о таком преподавателе– и к нему устремлялись толпы певцов, и начинающих и даже известных. Не было большей тайны в музыкальном искусстве, чем приемы постановки голоса.
В Варшаве в середине двадцатых годов жил некто пан Леонгард Жегмонт, музыкальный критик из средних. Его рецензии о певцах не производили особенного впечатления даже на самих певцов. Вскоре он перестал печататься, и о нем совершенно забыли.
Но не прошло и полугода, как он выплыл, и на этот раз о нем заговорил весь варшавский музыкальный мир. Одна из оперных певиц сообщила кому-то, что пан Жегмонт обладает удивительным искусством ставить голоса и в особенности обновлять их. В доказательство она ссылалась на себя: в последнее время она редко появлялась на сцене, ее голос уже не обладал прежней гибкостью, но после нескольких уроков у пана Жегмона произошло чудо, и теперь она легко и свободно поет арию Розины.
В Варшаве начался ажиотаж. Все бросились к пану Жегмонту, как неизлечимые больные к гомеопату. Все, и знаменитые и начинающие, осаждали новоявленного кудесника и требовали, просили, умоляли заняться ими. Они точно никогда не знали прежнего пана Жегмонта, критика, с которым никто не считался. Это был новый пан Жегмонт, единственный и могущественный спаситель!
Целый год продолжалось его царствование в вокальном мире Варшавы. Певцы учились, переучивались и ждали благодетельных результатов. У некоторых голоса как будто окрепли, потом стали звучать хуже. Кудесник уверял, что так и должно быть. Затем у певцов появилась хрипота в голосе. Пан поздравил их с этим как е явным признаком улучшения. Это был, по его словам, последний этап на их ученическом пути, после чего начнется великолепное обновление голосов и небывалая слава. «Последний этап» еще продолжался, когда пан Жегмонт внезапно и тайно уехал из Варшавы. Шли разные слухи. Объяснения ошеломленных учеников были противоречивы: одни уверяли, что пана неожиданно вызвали в Италию для какой-то консультации в Миланской опере, другие говорили, что против него было начато судебное дело и Жегмонт поспешил скрыться, предупрежденный кем-то из своих друзей.
Как бы то ни было, он исчез. Его обманутые и сильно пострадавшие ученики бросились за помощью к пану Соливе. «То была отсибка, а теперь ксебка!»– шутил по этому поводу Живный. Но Солива был беспощаден: – У меня не больница, – говорил он каждому просителю, – к тому же нельзя поправить непоправимое! Вот только молодость жалко!
Он имел в виду двух юных девочек, которые начали учиться у Жегмонта; шарлатан не успел окончательно испортить их прекрасные голоса, и Солива взял их к себе в консерваторию. На третьем году обучения директор оперного театра, который не раз слушал обеих девочек на ученических вечерах, сказал пану Соливе, что его две воспитанницы могут рассчитывать на дебют. Он предпочитал младшую, Волкову, но отдавал должное и Гладковской.
Дочь мелкого русского чиновника, Анна Волкова в свои девятнадцать лет считала себя совсем взрослой. Всякий, увидав ее впервые, догадывался, что она актриса. Хороший рост, круглое широкое лицо, большие глаза, крупный рот и ровные, тоже крупные белые зубы делали ее заметной, эффектной. Густые рыжеватые волосы также обращали на себя внимание» тем более что панна Анетта всегда умела украсить их цветком, изящной шляпкой или эгреткой. Бойкая, острая на язык, она могла постоять за себя в обществе поклонников – русских офицеров, которые полагали, что с будущими актрисами можно позволить себе вольные шуточки и анекдоты, не предназначенные для ушей пани. На шутку Волкова отвечала шуткой далеко не поощрительного свойства, и ее кавалеры либо вовсе отходили от нее, обидевшись, либо в ее присутствии внимательно следили за собой. Иллюзий, у нее не было никаких, и вся жизненная программа заранее предначертана.
Гладковская была другого склада. Она держала себя холодно и неприступно и одним только гордым молчанием отражала нескромные попытки понравиться ей. Ее русые волосы были гладко причесаны, а синие глаза обычно опущены. Когда же она поднимала их с молчаливым и строгим упреком, любой самоуверенный щеголь, встретив этот взгляд, смущался и умолкал. Гладковская жила в маленькой комнатке в консерваторском пансионе. Ее отец был интендантом в Радоме; мать присылала оттуда добротные старомодные туалеты, которые Констанция с большим вкусом переделывала сама.
Пан Солива гордился своими ученицами. У Волковой был сильный, красивый голос, правда, немного визгливый в верхних нотах. Она умела держаться на сцене и в оперных отрывках, которые исполнялись на вечерах в консерватории, отлично зарекомендовала себя.
Гладковская была слишком тонка и хрупка, чтобы вполне удовлетворить требованиям сцены, и, может быть, директор оперы был до некоторой степени прав, когда утверждал, что прелесть молодой актрисы может остаться в театре незамеченной. – Актриса должна напоминать… театральные декорации, – шутил он в кружке приятелей, но это была не шутка, а его твердое убеждение. – Тонкости и всякие там детали необязательны! Все должно быть ярко, массивно и, если хотите, огромно! Широкое лицо предпочтительнее узкого, а что касается роста и сложения, то женщина должна походить… на кариатиду.
Но Гладковская не походила на кариатиду. Она была среднего роста, почти худая, с тонким станом и девически незавершенными линиями плеч и груди. Прелесть ее лица была в нежном румянце, в ослепительно белой коже, во взгляде и улыбке, которые меняли ее лицо до неузнаваемости – оно хорошело и светлело… Но что значили все эти тонкости в театре, если даже сидевшие в первых рядах не в состоянии их увидеть и оценить? Не говоря уже о гриме, который стирает естественное выражение и превращает лицо актера в маску! Тем не менее директор решил взять к себе в театр Гладковскую – из-за голоса. У Волковой голос был сильнее, но если принять во внимание, что в театре бывают и знатоки, то для них следовало бы выпускать Гладковскую. Ее голос был трогательно прекрасен, а музыкальность покоряла даже тех, кто приходил в оперу смотреть, а не слушать. Гладковская заставляла слушать себя. Но кого бы она ни изображала – пока еще только на вечерах в консерватории, – бедную ли Нину из «Сороки-воровки» или Агату Вебера, в ней всегда оставалось что-то от гордой Констанции, от существа, которому не совсем уютно на земле. Один из варшавских поэтов написал ей в альбом:
Ты тоскуешь в нашем мире,Ты сродни иным мирам…Не звезда ль, упавши с неба,На земле сияет нам?И дальше в таком же роде…
Глава седьмая
Книги, книги, в которых написано про любовь, как много значили вы для юноши в те годы, когда сам он еще не любит и не знает любви! Воображает себя кем угодно: Керубино – в шестнадцать лет, потом, становясь старше, – Вертером или Карлом Моором. Не знает, на ком остановиться и мечтает о новой, еще не написанной книге, в которой герой еще более совершенен и близок ему!
Потом появляется прекрасная девушка, похожая на героиню романа. Ей посвящается прочитанное, она одобряет это и продолжает увлекательную игру, как это было с Александриной де Мориоль. Но как это далеко от подлинного чувства!
Теперь же Фридерик был незащищен, беспомощен и желал бы скрыться куда-нибудь подальше от людей. Он забыл все, что читал о любви, а если помнил, то все монологи и признания, которые прежде так нравились и пленяли, теперь только раздражали его. Он не был больше ни Керубино, ни Вертером, ни Карлом Моором, он был равный им и не похожий на них, Фридерик Шопен, влюбленный в Констанцию.
Он не остерегся, и теперь ему приходилось приспособляться к новой, непривычно сложной жизни, которая и в романах казалась запутанной, а в действительности была полна трудностей. Он скрывал свое увлечение от других и от нее самой и упорно не хотел знакомиться с ней, хотя поводов для этого было не мало. Он и сам не сознавал, что удерживало его: какая-то странная робость, боязнь уронить себя в ее глазах. Ведь она идеал, высшее существо, далекое от всего земного. Но надежды слепы и оттого забредают туда, где им быть, не полагается. Зрячий разум хорошо сознает всю зыбкость упований, но он же и придумывает почти невероятные ходы, чтобы превратить надежды в уверенность.
Родители догадывались о состоянии Шопена. Но приписывали это влиянию панны Мориоль. Они думали, что его полудетская привязанность перешла в более серьезное чувство. И Людвика уже беспокоилась: до нее дошли слухи о близкой помолвке панны Мориоль с молодым блестящим офицером, сыном князя Замойского. Она осторожно осведомилась у брата, не будет ли он страдать, если потеряет Мориолку. – Нисколько! – отвечал он, захваченный врасплох, но тут же спохватился: – А что? – Да, видишь ли, ее отец никогда не согласится! – Что ж делать? Грустно, конечно! – Впервые в жизни он обманывал родных, наводил их на ложный след.
На одном из городских балов он встретил панну Мориоль. Она танцевала полонез с отцом, важным седоусым генералом. Полонез считался коньком графа де Мориоля. Он выступал по-старинному, с большим достоинством, закинув голову и покручивая усы. Правой рукой он делал такой жест, точно откидывает рукав кунтуша, и довольно ловко становился на одно колено во время вставной мазурки, в то время как его прекрасная партнерша порхала вокруг него. Правда, подниматься с колен было для него затруднительно, но он, в общем не отставал от других кавалеров.
Отец и дочь проходили через длинную анфиладу комнат. Полонез уже кончился, и теперь, лишенный молодцеватости танцора, генерал казался особенно суровым и важным рядом с юной дочерью. Но и сама Мориолка была в тот вечер невесела. Все ее знакомые, и Шопен также, думали, что отец Мориоль исполняет все прихоти любимой дочери, а она вертит им, как хочет. Но это было не так. Пан Мориоль позволял Александрине чудить, но лишь в тех пределах, которые не считал опасными. Ему нравилось, что она; не похожа на других, вялых девушек, и смотрел сквозь пальцы на ее проказы: в них чувствовались самобытность, энергия. Нравом она походила на отца; он был самодур, она – своенравная причудница. Но он был уверен, что сумеет уследить за той гранью, которая отделяет забавные выдумки от предосудительных поступков. В эту зиму Александрина чудила более, чем всегда: ее последним капризом была четырнадцатилетняя арапка, которую она взяла к себе в камеристки, баловала, наряжала, как куклу, обучала французскому языку и музыке. Граф не протестовал. Но когда Александрина внезапно охладела к арапке, стала задумываться и на длительное время отказалась от причуд, отец решил, что пришло время вмешаться в жизнь дочери и выдать ее замуж.
Это было тем более необходимо, что сын великого князя Павел, которого воспитывал граф Мориоль, начал с некоторых пор умильно поглядывать на свою подругу детства. Мориолю было хорошо известно, что юноши из царского дома женятся на девицах царского же происхождения. Таким образом, по мнению отца, Александрина находилась как бы между двух огней, с одной стороны, лестное, но опасное внимание сына наместника, с другой – искания молодого артиста, «учительского» сына. Между тем князь Замойский считался одним из самых блестящих женихов сезона. Он был недурен собой, имел успех в свете, слыл храбрым малым, но внутренне был ленив и мягок, – из тех, кто, осев в деревне, охотно облачается в халат и подолгу не снимает его. Это не совсем годилось для Александрины, но ждать и подыскивать нового кандидата не стоило: по многим признакам дочка не сегодня-завтра начнет отбиваться от рук.
Проходя через зал и заметив Шопена, который стоял в кружке приятелей, чему-то смеясь, пан Мориоль покосился на дочь и сказал с неудовольствием:
– Я вижу, пора уже разогнать этот ваш… клуб! А то многие сюда затесались!
Александрина скоро смешалась с толпой подруг, потом, отделившись от них, приблизилась к Шопену и дала ему знак следовать за собой. По дороге она шепнула ему, что должна сообщить важную новость. Она почти бежала. В маленькой проходной гостиной, разделяющей два бальных зала, она уселась в глубокой нише у окна.
– Посмотрите, как красиво! – сказала она, указав на окно. – Снег совсем голубой в лунном свете! Можно подумать, что это последняя лунная ночь в нашей жизни! Ведь все последнее бывает прекрасно!
И она замолчала.
– Какая же новость? – спросил Шопен.
Она посмотрела на него. – Ах, да! Говорят, я выхожу замуж! – И, не дав ему выразить сожаление, прибавила: – И боюсь, что эти слухи справедливы!
С ней он не мог лицемерить и только спросил ее, отчего она боится. Разве ей не нравится жених?
– Ничего, нравится, – ответила Мориолка со свойственной ей беспечной небрежностью, – нравится, пока он жених. Но как только он станет мужем, то сделается придирчивым, забудет всю светскость, станет с пыхтеньем курить трубку в моем присутствии я время от времени распевать:
Эй вы, кони удалые,Уносите вдаль меня!Где вы, радости былые,Юность резвая моя?Любезно, не правда ли?
– Но вы сможете запретить это! – сказал Шопен, поддаваясь ее тону.
– Тогда это будет началом несчастливого брака…
– Ведь вам все удается, панна Александрина!
– Все ли? Ох, нет! Но, однако, вы больше не называете меня Олесей!
Один только раз он назвал ее так, и то по ее требованию. Это было давно, когда он вручал ей свое, рондо. И зачем француженке польское имя?
Александрина вздохнула.
– Да! «Где вы, радости былые?» – скажу только не при муже, конечно! Все проходит, пан Фридерик! И не будем мы больше прятаться за колоннами и оттуда передразнивать взрослых! Теперь мы уже сами взрослые! Поздравляю вас с этим, но сама поздравлений не принимаю!
Мориолка говорила, как всегда, шутливо, но глаза у нее были пытливые и тревожные. Она словно ждала от него возражений, а сама болтала без умолку, не давая ему говорить.
И он был ей благодарен за это.
Не видеть ежедневно Констанцию Гладковскую – значило прозябать. Говорили, что профессор Солива не допускает посторонних на свои уроки, но Шопен все-таки попал туда благодаря хитрости. Он уверил Соливу, что ему, как композитору, необходимо познакомиться с тайнами вокала: ведь он собирается написать оперу. И Солива разрешил ему присутствовать в классе. Вскоре, однако, выяснилось, что Фридерик не единственный Линдор, проникший в крепость варшавского Бартоло. Несмотря на протесты Эльснера, победительный офицер Безобразов, любимец светских пани, также появился в классе Соливы – в качестве вольнослушателя. У него был неплохой голос, и он распевал дуэты с Волковой и Гладковской попеременно. Только неизвестно было, какая из двоих его особенно занимает. Он держал себя так, что даже проницательный и ревнивый Шопен, к своей досаде, не мог ничего заметить.
Если Гладковская не пела, она сидела тут же, неподалеку, и Фридерик мог смотреть на нее, загородившись нотами, чтобы не навлечь подозрений. Цепенея от радости и все же испытывая муку, он мысленно обращался к ней с длинными, бессвязными монологами. Он говорил ей о том, как неотразимо прекрасно ее лицо с прямыми темными бровями, розово-прозрачной кожей и губами, чуть тронутыми усмешкой. Он заклинал ее: – Ну, подними же свои опушенные глаза! Взгляни на меня! Хоть сердито, но взгляни! И я увижу, какие они синие! Синие, с большими зрачками! – Она никогда не поднимала глаз, – стало быть, отлично все замечала!
Увы! Как только он переставал ее видеть, ее образ ускользал из памяти. Другие лица, на которые он почти не смотрел, запоминались отчетливо, а черты Констанции расплывались.
Между тем день его отъезда приближался. И Эльснер, и Живный, и все родные и друзья решили, что медлить больше невозможно. Варшава все-таки провинция! Хоть здесь и любят музыку, а имени себе не создашь! Настоящая известность приобретается в Париже, в Риме, в крайнем случае, в Вене. Еще лучше показать себя в этих трех городах!
Снарядить путника в такое путешествие – совсем нелегко для семьи скромного преподавателя! Пан Шопен при содействии князя Радзивилла обратился в министерство, просвещения с просьбой о субсидии. Ответ был отрицательный, а форма ответа грубая. Министр писал, что государственные суммы «не могут быть предназначаемы на поездки такого рода». Чиновники даже не потрудились переписать бумагу, и слово «предназначаемы» было написано над другим, слабо зачеркнутым и более выразительным словом: «расточаемы»! Не могут быть расточаемы! И это писал тот самый пан Мостовский, в доме у которого Шопен часто играл! Пан Миколай оскорбился. Эльснер собирался писать в Петербург, царю, но вся семья Шопена воопротивилась этому: отказ неизбежен, к чему еще лишние унижения? – В таком случае, – сказал Эльснер, – попробуем обойтись без них!
Вы ознакомились с фрагментом книги.