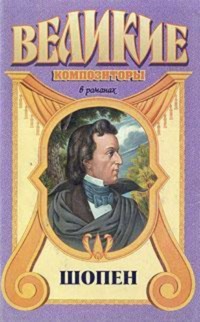
Шопен
В противоположность Бетховену, Шупанциг мрачно смотрел на жизнь. Он был уверен, что, даже «схватив судьбу за глотку», человек все равно остается побежденным, а не победителем. Жизнь Бетховена – самый разительный пример! Ни проблеска, ни одного не только счастливого, но даже спокойного дня! До самого конца он был одинок, и смерть его была мучительна! А то, что творения Бетховена остались жить, так это не его счастливая судьба, а других людей, оставшихся после него! Они наслаждаются его музыкой, для них он трудился и жил, а для него счастье так и не блеснуло!
– Простите, – осмелился возразить Фридерик, – но в чем же тогда счастье художника, как не в сознании, что он доставил радость своим потомкам?
Шупанциг затряс седой гривой.
– Откуда же возьмется это сознание, если человек одинок, разобщен со всем миром и находит сочувствие только у отдельных личностей? Пусть не нажил богатства, как ваши модные виртуозы, но взаимность, черт возьми, любовь тех, кому отдал всего себя, – вправе он рассчитывать на это еще при жизни? А сказать себе: – Это придет потом, когда меня не будет, – не велико утешение! Да и откуда он знал, что придет?
– Думаю, что знал, – ответил Шопен, – гений всегда знает!
– Гм! Я хорошо изучил этот мир… Иногда славу и создают… тому, кто не заслужил ее!
В присутствии Леопольдины Шупанциг смягчился. Приезд Шопена внес большое оживление в его жизнь. Давно он не разговаривал так охотно, даже с музыкантами. Но воспоминания о Бетховене постоянно задевали в нем какую-то натянутую струну.
– Конечно, жизнь хороша! – соглашался он ворчливо, – Посмотрите, как прекрасна природа! Но люди все портят!
– А искусство? – спросила Благетка. – Разве не люди создают его?
Этого было достаточно, чтобы вызвать возмущение Шупанцига.
– Одни его создают, а другие топчут в грязь. Скажите мне, отчего это творцы великого знают бедность, нужду и прочее, а те, кто ходит вокруг них, живут припеваючи? Вечный вопрос! Почему граф Галленберг и ему подобные чувствуют себя гораздо удобнее и легче, чем Бетховен, хотя все эти дельцы недостойны его мизинца? Несчастные композиторы! Издатель наживается на них, меценат управляет их судьбой, директор театра помыкает ими, так же как и артистами, хотя сам ни играть, ни сочинять не умеет, а музыкальный критик произносит суд над их музыкой, которую не понимает!
Леопольдина прикусила губу. Шупанциг не имел намерения уколоть ее намеком на отца, но в своем желании справедливости он порой и сам бывал не справедлив: так, он ненавидел превосходного музыканта Черни и даже рассердился на Шопена, который называл этюды Черни мелодичными и изящными…
Наконец он успокоился и уже другим тоном оказал Шопену:
– Рад, что узнал вас! Давно не слыхал такой игры на фортепиано! Да и сами композиции прекрасны!
– Говорят, звук слабый, – сказал Шопен.
– Это потому, что привыкли к стукотне! Вздор! Звук полный, серебристый! Так и должно быть! Игра наших виртуозов напоминает мне попытки грешников попасть в рай. Но как ни стучись, все равно не попадешь. А вы, должно быть, праведник: только коснулись райских дверей – и они отворяются!
– Но Бетховен, кажется, не любил такой игры? – заметила Леопольдина.
– Вздор! И это вздор! Кто это вам сказал? Черни? Я мог бы и про него кое-что порассказать! Бетховен играл так, как требовало чувство: он слышал в природе и гром и шелест, умел и успокаивать и устрашать.
– А я слыхала, что он называл фортепиано «оплотом силы и мужества», конечно имея в виду его звук.
– Ага! Это вам передавал Черни! Но я знаю и другие слова Бетховена: – Сильный человек – не тот, кто всегда рычит! Доброта – это тоже сила!
Благетка не стала возражать.
– Я только хотел вам сказать, дорогой Фридерик, что вы как раз напомнили мне Бетховена – той мягкостью и певучестью, которую я заметил в вашей музыке. Вы романтик, но ведь романтизм не сегодня родился!
Все это было очень лестно. Смутившись, Фридерик спросил:
– Значит, вы полагаете, что Бетховен был первым романтиком в музыке?
– Нет, дитя мое, не стану забираться в очень далекие времена, но думаю, что первым романтиком в музыке был Иоганн-Себастьян Бах.
Моцарта в Вене помнили только старики. Но их рассказы, хоть и весьма подробные, были сбивчивы и противоречивы.
Они говорили о Моцарте как о непостижимом явлении, называли не просто по имени, а с прибавлением: «великий», «незабвенный», «волшебный». Но как только начинали описывать его жизнь и характер, Фридерик видел перед собой маленького человечка, не слишком аккуратного в быту, не особенно умного и склонного к разгулу. Выходило так, что гений Моцарта был чем-то отделимым от его человеческой сущности. Вдохновение настигало его внезапно и полновластно, и тогда он становился богом. А в обычное время был такой же, как и все, ничуть не лучше.
Рассказывали и о том, как Моцарту трудно жилось, особенно с тех пор, как он расстался со своим покровителем, архиепископом зальцбургским. Фридерик удивлялся стойкости и гордости художника, который пожелал быть свободным, зная, что его ждет нужда. Но тут современники Моцарта начинали доказывать, что лишения не были для него чувствительны: вряд ли он глубоко страдал, так как отличался удивительным легкомыслием и беспечностью.
Эти слухи о Моцарте в свое время распространял Сальери.
Но Шупанциг, который был уже достаточно взрослым, когда познакомился с Моцартом, говорил другое. По его словам, Моцарт был очень образованным человеком и большим тружеником. Шупанциг видел, как он работал над «Волшебной флейтой». Уже смертельно больной, Моцарт не давал себе отдыха. Несомненно, он был просвещенный музыкант. А если судить по музыке, то всеобъемлющий. Что же касается бессознательного творчества, то это могут говорить люди, совершенно чуждые искусству. А кто хоть немного причастен к нему, тот знает, каких трудов и напряжения стоит каждый шаг.
Леопольдина так же, как и Шупанциг, решительно отвергла легенду о «двух Моцартах». Она замечала, что сплетникам даже доставляет удовольствие принизить Моцарта и повторять измышления его врага. Но она сказала Шопену:
– Не удивительно, что он легко переносил лишения: с ним была его Констанция!
– Кто?
– Да ведь жену Моцарта звали Констанция!
– Неужели?
– Что ж особенного? Не в имени дело! Но это была трогательная история. Моцарт сначала любил ее старшую сестру, Алоизию, знаменитую певицу. Но она не сумела оценить его!
– А Констанция? – Боже, как давно он не произносил вслух это имя.
– Она была почти ребенком. Но знала и чувствовала, кто такой Моцарт. Разумеется, он откликнулся на ее любовь. И они были очень счастливы.
Леопольдина не могла понять, отчего после этого разговора Шопен стал отдаляться от нее. Он был по-прежнему внимателен, но что-то неуловимо перервалось в их дружбе, исчезла сердечность, появился оттенок официальности. Леопольдина остро почувствовала перемену. Не в ее натуре было долго огорчаться, но она опечалилась…
А его мучило раскаяние, он укорял себя за измену идеалу. Опять он стал плохо спать по ночам, как в Варшаве, ему наскучили новый город и новые знакомые. И все почему? Потому, что он узнал, как звали подругу Моцарта!
Но та, в Варшаве, была совсем не такая! Она скорее походила на высокомерную Алоизию, чем на ее скромную сестру! Она умеет лишь наносить раны, но не врачевать их. Она скажет: «Как это вам в голову пришло?»
Иногда он осторожно наводил Целиньского на разговор о Гладковской.
– Она слишком красива, чтобы любить, – говорил Целиньский. – Это идеальная вдохновительница. Как муза она может принести счастье, как возлюбленная– одни только страдания!
Однажды Фридерик спросил Леопольдину, известно ли ей что-нибудь о вдове Моцарта, как жила она после его смерти. – Вышла замуж за другого! – весело ответила Леопольдина. – «Costi vav tutti»[6] – все они таковы!
И все пошло по-старому.
Второй концерт в Вене прошел еще удачнее, чем первый. Фридерик повторил вариации и сыграл новое рондо – «Краковяк». На этот раз зал был полон. Приятелям Шопена не пришлось волноваться. «Ученых и чувствительных я расположил в свою пользу», – писал Фридерик родным, и это было точное определение его успеха.
Приятели торжествовали, но Шопен более трезво оценивал свое положение. Он понравился «ученым и чувствительным», то есть музыкантам и любителям музыки, оттого его приняли и остальные. Если бы в Вене знали, что он впервые выехал из родного города, чтобы дать бесплатные концерты, им восхищались бы меньше. А музыканты? Многие хвалили его и хорошо принимали-именно потому, что он появился. Среди них не как гастролер, на равных с ними правах, а как талантливый, но бедный мальчик, неизвестный и нуждающийся в поощрении. Но, думал он, если из двухсот человек только двадцать оценят его так, как Шупанциг, то и этому можно порадоваться!
На другой день после концерта он покидал великолепную Вену. День прошел в прощальных визитах. Его приглашали вернуться, как можно скорее. – Приеду учиться, – отвечал он. – В таком случае незачем приезжать, – серьезно сказал Шупанциг.
Критик Благетка был другого мнения. – Подумать только! В таком захолустье, как Варшава, – и вырос подобный музыкант! Чем же стал бы он в Вене или в Париже? – Слегка обиженный за своих учителей, Фридерик сказал, что надо знать Эльснера и Живного: у них и посредственный музыкант многому научится… Леопольдина потом довольно резко выговаривала отцу за его бестактность.
Прощаясь с Шопеном, она подарила ему тетрадь своих этюдов с нежной надписью и сказала при этом: – Я не сомневаюсь, что ты вернешься! – По венскому обычаю, многие артисты говорили друг другу «ты», и она мило воспользовалась этим, чего не сделала бы полька. – Вена обладает притягательной силой, – сказал Фридерик, – и те, кто живет в ней, также!.. – Она засмеялась. – Да, здесь довольно весело! Но как бы то ни было, ты теперь знаменитость, и я рада, что это случилось у нас!
Они были одни в маленьком зале у Благетки, где Леопольдина обычно играла для гостей. Она волновалась, видно было, что ей хочется еще что-то сказать на прощанье. Наконец она набралась решимости: – Так как сейчас придет весь город проводить тебя, – начала она прерывающимся голосом, – то я советую поцеловать меня до этого нашествия! – И она подошла совсем близко. Растерявшись, Фридерик приложился к румяной щеке. – Вы уже любите кого-нибудь? – тихо спросила Леопольдина. – Не знаю, – ответил он совершенно искренне. Она стояла перед ним красивая, непривычно смущенная, Церлина или, пожалуй, Сюзанна… Через мгновение он нашел, что она немного напоминает Конст… ну, одним словом, возлюбленную Моцарта. Очарованный, он потянулся поцеловать ее снова, теперь уже не в щеку. Но тут за дверью послышался шум и явился весь город, то есть около десятка музыкантов. Опять начались поздравления и пожелания. В девять часов вечера четверо приятелей уселись в дилижанс. В последний раз перед ними мелькнула башня святого Стефана, которой они всегда любовались.
После Вены три дня пробыли в Праге. Там Шопен не играл, а только знакомился с музыкантами и много гулял, восхищаясь памятниками старины. Он отдыхал после Вены. Играть пришлось в одном княжеском замке, очень похожем на поместье Водзиньских. И все было так, как в Служеве: нарядные женщины, портреты предков на стенах, восхищение пианистом и удивление по поводу его молодости. Не было только маленькой Марыни. Зато образ Леопольдины все время сопровождал его – и чем дальше, тем неотступнее. Он запомнил ее такой, какой она была в день прощания: взволнованной, смущенной и очень близкой к нему. Он чувствовал ее теплоту… А та, другая, уже становилась воспоминанием, и он радовался этому.
Потом он отправился в Дрезден. Денег у него почти не осталось, надо было спешить. По дороге из Теплица напала сильная тоска по дому. Поэтому он не задержался в Дрездене И даже не воспользовался рекомендательными письмами венских музыкантов. Впечатлений было слишком много: то, что теперь попадалось на пути, он почти не воспринимал. Здания, лица только мелькали перед глазами. Путешествие было закончено, а все города после Вены – это только путь домой.
В Дрездене Фридерик успел побывать в театре и посмотреть «Фауста» в день восьмидесятилетия Гёте. Прославленная трагедия, сопровождаемая специально написанной музыкой Шпора, произвела сильное и мрачное впечатление. Но Фридерик был слишком молод, чтобы проникнуться идеями «Фауста». Музыка Шпора показалась ему странной и нечеловечески унылой.
В последний день перед отъездом из Дрездена, все в том же состоянии спешки, он отправился в картинную галерею. Он собирался внимательно осмотреть хотя бы главные экспонаты, но пришел слишком поздно. В картины Рубенса не успел вглядеться. «Диана на охоте» показалась ему слишком толстой и какой-то немолодой. Излишество красок, румяные плоды, мясо, кровь были ему неприятны. Он даже поспешил отвернуться от другой картины Рубенса, в которой торжество плоти было слишком уж вызывающим.
Рембрандт поразил Фридерика, и он дал себе слово, осмотрев другие картины, вернуться в этот зал и остаться здесь до конца. Но вернуться ему не удалось, потому что он увидал Сикстинскую мадонну Рафаэля и все оставшееся время простоял перед ней.
Ничто не волновало его так, как искусство классиков, – может быть, потому, что Войцех Живный рано внушил ему любовь к Баху, а затем к Моцарту. Но классическое искусство не подавляло Шопена: он не понимал людей, чувствующих "свою ничтожность перед красотой. Напротив, вблизи классиков он как будто лучше понимал себя и начинал в себя верить…
В зале, где находилось изображение Сикстинской мадонны, он увидал ее издали. И его охватила дрожь.
Вначале ему показалось, что женщина с ребенком на руках отделилась от стены и издалека несется к нему навстречу. Этот обман зрения скоро рассеялся. Фридерик отошел немного назад. Гиду, предложившему свои услуги, он сказал, что хотел бы сперва составить свое собственное впечатление.
Пленительная, совершенная гармония линий и красок возбудила в нем такое же чувство отрады, покоя и благодарности, с каким он слушал музыку Моцарта и Баха. Эта юная мать так бережно, нежно, по-человечески заботливо прижимала к себе сына, а он так безмятежно, истинно по-детски, покоился в ее надежных объятиях! В нем не было розовой пухлости и белокурого блеска счастливых сыновей богородицы, известных Шопену по другим картинам. Худенький, он был завернут во что-то темное. Но глаза младенца были не такие, как у других детей. Фридерик увидел острый, мудрый, всепроникающий взгляд провидца, который измерил все муки, ожидающие человечество, Он знал и предвидел слишком много, никакая надежда, никакая иллюзия не коснулась его души. Он знал то, чего другие еще не знают, и оттого трудно было выдержать его взгляд.
Но в смиренной простоте Мадонны и ее сына таилась какая-то высокая правда, влекущая к себе сердца. Мадонна и младенец составляли одно целое, дополняли друг друга так же, как и другие атрибуты картины. Гармония была во всем – она-то и приносила утешение.
Фридерик не отрываясь смотрел на эту группу, и чем дальше, тем прекраснее, одухотвореннее становилось лицо мадонны. Ему показалось, что нежные щеки этой молодой женщины, почти девочки, окрасились слабым румянцем и глаза, подобных которым больше нет на свете, обратились к нему и остановились на его лице. И тогда он понял, что значит этот всеобъемлющий взгляд матери, мягкий, любовный, полный печали– не только за своего сына, но и за всех детей на земле. Она скорбела и о Фридерике, о его неизвестном будущем. Но ее глубокий взгляд не был мрачен: мать никогда не теряет надежды.
Почему в этот миг ему вспомнилась Польша? Отчего тоска по родине, по матери охватила его с небывалой силой? И почему его сердце сжалось, словно в предчувствии неотвратимой скорби? И все же он черпал силы в этом созерцании, и ему была дорога его тревога.
Кто-то коснулся его плеча. – Уже поздно, – сказал дежурный, – галерея закрывается! – А завтра? – Завтра воскресенье! – Фридерик вышел и побрел наугад. Лишь в гостинице он пришел в себя.
До вечера у него звучала в ушах музыка-то звуки органа, то оркестр. Начало реквиема Моцарта и оратории Перголезе, которую исполняли в Вене. Не было ничего заманчивее, как написать что-нибудь под этим влиянием и назвать написанное «Перед картиной Рафаэля» или даже «Портрет мадонны». Но Фридерик знал, что нужно еще немало пострадать, чтобы довести до конца такой огромный замысел. Сикстинская мадонна! Может быть, для этого еще придет пора… Теперь же он был слишком молод и слишком счастлив.
Часть третья
Глава первая
Стоит хотя бы на время покинуть родительский дом, чтобы испытать радость возвращения. Ночь. Уже второй час. За окном шумный дождь. Стол весь уставлен, свечи зажжены. Никто не ложится.
Сестры смеются по всякому поводу. Отец останавливает их и переспрашивает Фридерика: – Что же сказал Гировец? Ведь это тот самый концерт, который ты когда-то играл? Смотри-ка! А Черни? Он был доволен? Каков он вообще?
Миколаю Шопену кажется: Черни – великий музыкант, оттого что он учился у Бетховена.
– Да как сказать… Он неплохой человек. И хороший музыкант.
– Просто хороший?
Опять смех сестер… – Ну, как же так?! – восклицает пан Миколай. Он разочарован: человек, достойно оценивший его сына, не гений, а просто хороший музыкант!
А дождь за окном все не проходит, говорливый летний дождь.
Фридерик сидит рядом с матерью, которая не спускает с него глаз. Она ни о чем не расспрашивает и только слушает, время от времени придвигая к нему то одно, то другое блюдо…
Тита и Яся Матушиньского Фридерик не застал в городе. А сама Варшава после Вены показалась ему неуютной, неприбранной и какой-то чужой. На тротуаре остались лужи после вчерашнего дождя, небо хмуро, и все прохожие выглядят угрюмыми…
Фридерик направился к Эльснеру и застал его сидящим в глубоком кресле. Эльснер кутался в плюшевый халат-ему нездоровилось. Перед ним лежали газеты. Фридерику бросились в глаза частые красные полосы: это Эльснер подчеркивал все, что относилось к концертам Шопена в Вене. Были здесь и венские газеты и «Курьер варшавский». Фридерик узнал заметку грозного критика Бейерле. Заметка была снисходительная, но так как Бейерле имел привычку всех бранить, то его полупохвалы можно было считать признанием.
Благетка писал более подробно и очень благожелательно. Умный карандаш Леопольдины прошелся по этим строкам. Там писалось, что у Шопена живой, остроумный и глубокий талант. В варшавских газетах повторялось то же, что было напечатано в венских. В «Курьере варшавском» описывалось, как венцы обрадовались импровизации на польскую тему «Хмель».
Эльснер был чрезвычайно доволен. Он потирал руки, обнимал Фридерика и снова перечитывал рецензии. Было даже странно видеть его таким! Противник всяческой рекламы, не веривший отзывам об игре Паганини, пока сам не услыхал ее, он на этот раз придавал значение каждой строчке, посвященной его любимцу.
– Теперь, сынок, мы покажем Варшаве, кто ты такой! Эти отзывы и слухи о твоих успехах сделают свое дело! Я имею в виду платные концерты, мой милый! Ты уже не просто маленький баловень Варшавы.
Ты – знаменитость, признанная за границей! Это не шутка! Весь город придет, вот увидишь! Особенно я надеюсь на статью этого Благетки!
Фридерик улыбнулся: – Помилуйте, пан Юзеф, неужели статья неизвестного здесь рецензента может произвести такое сильное действие? У меня есть подозрение, что это писала девушка восемнадцати лет!
– Неважно, кто писал! Никому нет дела! Ты мог и сам написать – под чужим именем! Говорят, во Франции и так делается! Вся штука в том, что про тебя на-пи-са-но, и благожелательно. А совесть у на: чиста: мы-то знаем тебе цену! Поиграешь здесь, а потом снова в широкий мир! На этот раз обязательно во Францию или в Италию! Ну, рассказывай!
…В самом деле, – думал Фридерик, возвращаясь от Эльснера, – что мне делать в Варшаве после окончания училища? Давать уроки? Аккомпанировать певцам в опере? Выступать иногда с собственными концертами… в промежутке между наездами иностранных гастролеров? И – потом: я еще ничего не видал. Если час, проведенный перед картиной Рафаэля, дал мне так много, что же будет, если я еще увижу, собор святого Петра, картины Леонардо? И когда это все узнать, если не в молодости?
Мечтая таким образом, он свернул на площадь и вдруг в нескольких шагах от себя увидел Констанцию Гладковскую. Она шла навстречу со сложенным зонтиком в руке. Ее светло-серый бурнус был полурасстегнут, синее платье оттеняло белизну тонкой шеи и золотую цепочку на ней. Констанция похудела и казалась утомленной. Ее глаза были светлее, прозрачнее, голубее, чем всегда.
Кровь прилила к его сердцу. Констанция медленно удалялась. Он остановился, глядя ей вслед. Любовь снова напомнила о себе – и с какой силой! Она вошла в него, как хозяин в покинутое жилище, для того чтобы остаться уже надолго, навсегда. Констанция скрылась, а Фридерик все еще стоял на площади. Сквозь тучи выглянуло солнце и осветило высокий костел, здание лицея, всю улицу. И он узнал свою Варшаву, от которой никуда не уйти!
Глава вторая
Знакомые встретили Шопена так, словно он несколько лет отсутствовал и за это время разбогател или приобрел титул. Еще два месяца тому назад он был «Шопенек», на которого возлагают надежды. Теперь графиня Сапега составляет список приглашенных на званый вечер, который устраивается в честь Шопена. И хоть он играет то, что здесь уже слыхали, и так же, как прежде, гости находят, что он стал играть гораздо лучше, и даже пытаются объяснить, в чем именно он подвинулся вперед.
Так как сам Шопен не распространяется о своих успехах, а только коротко отвечает на вопросы, графиня рассказывает об этом сама, прибавляя с три короба и ставя Шопена в неловкое положение. Не сказать же во всеуслышание: «Извините, графиня, ничего подобного не было: публика в зале вовсе не подпевала, а князь Лихновский и не думал говорить, что я напоминаю ему Бетховена!»
– Как они, однако, оживились, эти меценаты! – сказал Живный, когда они с Фридериком возвращались домой. – Твоя поездка за границу сильно подогрела их остывающий жар! Ведь детские успехи скоро забываются! Вспомним Моцарта!
И Живный рассказал случай, неизвестный Фридерику.
Когда двадцатилетний Моцарт прибыл в Париж искать счастья, одна из графинь, присутствовавшая в зале, где играл Моцарт, с удивлением сказала соседу:
– Как можно верить слухам! Мне говорили, что этот Моцарт-чудо!
– Разве это не так? – переспросил сосед.
– Да ведь это взрослый мужчина. Что ж удивительного, если он играет на клавесине?
В консерватории, среди учеников, поездка Шопена также произвела впечатление. На первых порах даже исчезла прежняя простота отношений, тем более что Целиньский распространял разные слухи, ничего не придумывая, но страшно преувеличивая. Анетта Волкова издали указывала на Шопена подружкам, которые смотрели на него испуганно и восторженно. Гладковской среди них не было.
В эти дни Фридерик был сильно занят: он писал фортепианный концерт. Первой части еще не было, он начал со второй – ларжетто.[7] То был образ девушки, медленно проходящей мимо него в дождливой дымке варшавского утра, нечаянный взгляд ее посветлевших глаз и чувство возвращения к ней-и к родине.
Тит Войцеховский первый услыхал это ларжетто. Сам он уже играл плохо, давно не занимался, но был необыкновенно музыкален. Фридерик считался с ним не меньше, чем с Живным и Эльснером, и показывал ему свои сочинения раньше, чем им. И критика Тита была пробным камнем. Впрочем, Эльснер чаще всего подтверждал мнение Тита.
Как и в детстве, Тит стыдился «громких» слов и свою любовь к другу высказывал скупо. Он объяснял это так: – Ты можешь клясться в любви, расточать ласки, произносить самые пылкие речи – и это тебе простится, потому что ты художник, артист, богатая, яркая натура! Сколько бы ты ни наговорил, в душе у тебя еще больше прекрасных чувств, ты можешь быть щедр, как всякий богач! А таким, как я, обыкновенным людям, следует быть сдержанными!
Фридерик горячо доказывал Титу, что он ошибается, считая себя обыкновенным человеком, но Тит переменил разговор. Прослушав ларжетто, он поднял на Фридерика свои темные, серьезные глаза.
– Это лучшее из всего, что ты написал до сих пор, – сказал он. – Здесь вся твоя душа! И это останется!
– Ты думаешь? – задумчиво спросил Фридерик.
– Что тут думать? Через сто лет в этом убедятся счастливые потомки. А то, что нас при этом не будет, право, не имеет значения!
Благословение музыке! Но бывали дни немоты, когда Фридерик страдал под тяжестью невысказанного. В такие дни, проходя мимо класса Соливы, он останавливался и ждал – никакая сила не сдвинула бы его с места! И когда наконец его познакомили с Гладковской, у него не хватило сил выдержать роль независимого, равнодушного человека. Он смотрел на нее горячим, благодарным взглядом и окончательно выдал себя дрожанием губ и сказанными невпопад словами.
Вы ознакомились с фрагментом книги.