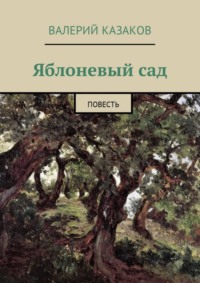
Яблоневый сад. Повесть
– Вы извините меня, но я уже сплю, – сказала она виновато, протягивая ему верхнюю одежду. Он с печальным видом принял синий плащ летчика и, ничего не сказав, отвернулся. Видимо, не ожидал такого быстрого финала, не предвидел его.
Ночь была удивительно тихой и лунной. Серебристый свет струился по снегам и проталинам. Улица была неподвижна и холодна. Часть её оставалась в тени, а другая часть была залита, затоплена до краев ночным синеватым сиянием. Глаза у Павла Александровича, кажется, тоже блестели.
– Вы, вы не знаете, как мне здесь одиноко, – вдруг со слезой в голосе признался он, набрасывая плащ на плечи. – Жить не хочется, Людмила Николаевна, жить не хочется!
В это время он повернулся к ней лицом, и она увидела в его тёмных глазах влажный блеск. Обними он её сейчас – она бы ничего не смогла с собой поделать – отдалась бы ему… Но он нахлобучил меховую шапку на голову, сердито повернулся на одном месте, так что её обдало легким ветерком и зашагал прочь. Потом скрипнул подошвами у калитки и пообещал зайти завтра. Она ответила:
– Да-да, заходите.
Холод охватил её плечи мягкими лапами, потом сдавил так, что сошлись лопатки, и ей показалось, что нет ничего на свете сильнее этого холода.
***
Утром, в учительской, к Людмиле Николаевне подошла Клавдия Петровна – высокая слегка полноватая молодая женщина с глазами, красными от слез.
– Ну, как вчера спалось? – спросила, глядя в сторону.
– Хорошо, а что? – простодушно ответила Людмила.
– Знаю, что хорошо… Отец у моего Игоря пожаловал.
– Павел Александрович? – изумленно произнесла Людмила Николаевна.
– Он самый… Только не Павел Александрович, как вы выразились, а Пашка Хват… Даже не зайдет, даже не посмотрит на свое творение. И как только у него сердце устроено?
Клавдия Петровна, не стыдясь, смахнула со щеки крупную слезу.
– Ты, Люда, с ним не связывайся. Это не тот человек, который тебе нужен. Он тебя обманет, как меня обманул.
Людмила Николаевна почувствовала себя виноватой перед Клавдией Петровной. Оказывается, она чуть было не стала очередной любовницей этого сельского проходимца. Хотя, если честно сказать, он сразу ей не понравился, не заинтересовал. При всем его щегольстве из него выпирал обыкновенный сельский парень, который, скорее всего, за всю свою жизнь ни одной книги не прочитал, не посетил ни одной художественной выставки. К тому же перед глазами Людмилы стоял образ милого глазастого мальчугана, которого уже много лет воспитывала Клавдия Петровна в полном одиночестве. То, что Игорь сын этого человека имело сейчас решающее значение. Мальчик чем-то походил на отца. Обидеть этого маленького человека было бы преступлением. Он этого не заслужил, и Клава этого не заслужила. Она всё ещё любит своего бесшабашного летчика, всё ещё мечтает о встрече с ним, на что-то надеется.
***
Вечером Людмила Николаевна написала большое и обстоятельное письмо своему бывшему ленинградскому возлюбленному Борису Борисовичу Волнухину. В письме поведала ему о той обстановке, которая окружает её в диком вятском захолустье. О том, что от плохого питания она неожиданно стала полнеть и забывать лучшие четверостишия из прекрасных стихов Пастернака. Что ей больше не снятся белые ночи, Нева и шпиль Петропавловской крепости. От былой романтичности в её душе не осталось и следа. Хотя иногда ей очень хочется попасть на Невский проспект, где всегда многолюдно, хочется побеседовать с кем-нибудь на отвлеченную философскую тему. Хочется надеть что-нибудь модное и пройтись по аллее Александровского садика, шокируя встречных прохожих своим экстравагантным видом, потому что настоящая женщина обязана восхищать. Но здесь ей не до этого. Здесь вокруг такая дикость, такое убожество, что справлять нужду за кустами сирени возле школы считается чуть ли не нормой.
Перечитывая письмо, она то смеялась, то плакала, и думала о том, что этот год в провинции для неё – самое тяжелое испытание. Вот проживет этот год и почувствует себя сильной.
Когда письмо было написано, она вышла на улицу, чтобы отдохнуть от нахлынувших чувств. Там в вершинах школьного парка протяжно гудел ветер. Он налетал откуда-то с юга мощными порывами, принося то капли дождя, то мелкие снежинки. В темных гнездах на вершинах сосен громко каркали грачи. Небо было цвета молочной сыворотки. Где-то на западе тонкой розоватой полоской угадывался догорающий закат. Людмила Николаевна прошлась до конца темной аллеи и, почувствовав озноб, решила повернула обратно.
***
Постепенно в школе Людмила Николаевна стала завоевывать авторитет. Дети перестали её бояться, привыкли к ней, и от этого на уроках биологии стали много шуметь. Но всё равно, когда она входила в класс, сердце у неё замирало от какого-то странного беспокойства. Ей казалось, что она делает что-то не так, что она забывает об основных правилах педагогики, не учитывает детскую психологию, не сразу видит их способности и недостатки. Порой она слишком открыта перед своими учениками, порой излишне строга. Им сложно её понять.
Хотя где-то в глубине души она стала гордиться своими успехами, своим терпением, своей способностью переносить лишения и невзгод. Но иногда эта гордость как-то подозрительно быстро оказывалась погребенной под лавиной новых проблем. В какой-то момент она перестала считать свою молодость потерянной напрасно. Она делает и может сделать ещё очень много хорошего в полном одиночестве, превозмогая житейские трудности и неудачи. Она несет свой крест и будет нести его дальше, только для этого надо работать так, чтобы не хватало времени на серую и пустую меланхолию.
Временами Людмила всеми силами старалась взрастить в себе оптимистку, говорила сама себе, что она сильная, она всё может перенести, со всем справиться. И несколько дней ей удавалось быть бодрой, отзывчивой и спокойной. Но иногда сырой ветреный вечер вдруг пробуждал в ней депрессию, которая то накатывалась, то отступала, как порывы ветра, сминая первые робкие ростки оптимизма.
Она пробовала вставать в семь часов утра и бегать в шерстяном, спортивном костюме по гулкому весеннему саду, пока её щеки не станут румяными, пока не появится во всем теле необыкновенная птичья легкость. Порой в такие минуты ей казалось, что всё у неё хорошо, она прекрасно выглядит, её лицо молодо и свежо, тело послушно, сердце бьется ровно и легко. Что же ещё ей в таком случае нужно? Прерывая бег, она неожиданно останавливалась где-нибудь в самом заветном уголке яблоневого сада и глубоко дышала, впитывала в себя восторженно просыпающуюся природу вместе с утренней прохладой. Голова у неё начинала слегка кружиться, а на губах появлялась улыбка. Утро начиналось с хороших мыслей, с алой полоски зари вдоль горизонта, приплюснутой с боков случайными облаками, с прилива сил, с приступа молодой беспричинной веселости.

Но проходил яркий день, заполненный неотложными школьными заботами, домашними делами и случайными обидами, вслед за ним наступал вечер, – и снова откуда-то из глубины сада подкрадывалась к Людмиле грусть. Людмила пробовала убежать от неё, спасаясь у Клавы, но странный упадок сил настигал её и там. Тоска садилась рядом и не уходила, приглашая к тяжелому разговору с внутренним «я». От скуки Людмила стала много есть мучного, полюбила сладкое. За чаем у Клавы пробовала весело и умно говорить, но сбивалась, теряла тему и понимала, что подруга толком не слушает ее, только делает вид. У неё в голове были свои проблемы.
Иногда вместе с Клавой они начинали мечтать о чем-нибудь хорошем, но вместо красивого будущего почему-то все чаще говорили о красивых и сильных мужчинах, которых встречали когда-то на своем пути. При этом Людмила вспоминала Федора – своего первого мужа, а Клава Павла. И обе после этого как-то неожиданно понимали, что встретить здесь такого мужчину не удастся. Чтобы случилось нечто подобное надо ехать в большой город или на юг. Здесь все стоящие мужчины давно живут со своими женами. Они уже не вспоминали ни Ахматову, ни Есенина, не старались вслух перечитывать волшебную прозу Набокова. Читать толстые современные журналы им стало неинтересно, углубляться в сложные литературные и философские вопросы – лень. Поэтому всё чаще целыми вечерами они с Клавой говорили о дефиците колбасы и масла в перестроечной России, о том, что в городе жить интереснее и проще, особенно если сможешь заработать там хорошие деньги.
Иногда в разговоре перемывали кости директору школы, представляя его то хитрым жуком, то болтуном. Рассказывали смешные истории о его скупости и глупых выходках. Потом вдруг начинали говорить о глобальных проблемах современного мира, о стирании границ между народами, о пугающем одиночестве России средь этой всеобъемлющей гущи. Делали вид, что интересуются мировыми проблемами, а на самом деле жили только своими маленькими заботами. В такие минуты Людмиле Николаевне казалось, что блестящее образование для неё, как для сельского жителя, это очень дорогая плата за пожизненное раздражение в будущем, когда большие знания никак не стыкуются с примитивным образом жизни, допотопной техникой и дикими нравами провинции. Человек с большими знаниями здесь оказывается выбитым из колеи. Он ищет себе что-то подходящее, что-то соответствующее его интеллекту и не может найти, и от этого чувствует себя ещё более одиноким.
***
Между тем народ в Журавлях настолько привык к Людмиле Николаевне, что один из представителей этого народа, Боря Мамонт, стал заходить к Людмиле за деньгами, когда ему не хватало на пиво или водку. Мамонт был черен, широк в плечах и тяжеловесен, как дубовый кряж. После тюрьмы он нигде не работал. Если честно признаться, Людмила Николаевна немного побаивалась этого человека и поэтому всякий раз давала ему денег, зная, что тот, скорее всего, не вернет. Однажды она попробовала денег не дать, чтобы избавиться от неприятных визитов этого человека, но Мамонт почему-то не ушел. Он сел в кухне на стул и стал ждать, когда она передумает. Потом с сердитым видом повертел большой головой, нахмурил брови и громко сказал, так, что Людмила Николаевна заметно вздрогнула:
– Может, пузырек какой найдешь… тогда?
– Какой ещё пузырек? – не поняла Людмила.
– Ну, с пустырником или валерьянкой, – уточнил тот. – Валерьянку-то перед сном пьешь, небось, толстушка?
– Нет, – растерянно ответила она и захотела сейчас же посмотреть на себя в зеркало. «Неужели правда уже заметно»?
– Ну, рубль хоть дай тогда. С получки отдам, раз фунфырика никакого у тебя нету.
Она смущенно протянула ему рубль, забыв застегнуть кошелек. Мамонт заметил, что в кошельке ещё остались деньги, и нагло спросил:
– Дак уж дай буди трёшник. Чего скупишься. С получки верну.
Людмила Николаевна покорно отдала еще три рубля и отвернулась.
– Благодарю, толстушка. Век не забуду.
Когда Боря Мамонт ушел, она торопливо заперла за ним дверь, подошла к большому зеркалу на стене, задернула занавески на окнах и разделась до сорочки. Придирчиво стала разглядывать свое отражение в зеркале. Решила, что она вовсе даже не толстая, только подбородок в последнее время стал чуточку больше и плечи округлились. Ну, может быть, бедра выглядят чуть полнее, чем прежде, да слегка выступает живот, но сбоку это смотрится даже красиво, женственно. Почему же этот наглый пьяница решил, что она толстушка? Даже странно. Нет никакого повода так считать.
Людмила Николаевна снова стала бегать по утрам, старалась глубоко дышать, делать специальные физические упражнения. Но вскоре вынуждена была признать, что это не помогает. После утренней пробежки у нее появлялся хороший аппетит, во все щеки горел румянец, а вес между тем оставался прежним. В сердцах она подумала было, что ей, вероятно, необходим мужчина, но тут же постаралась отогнать от себя эту мысль. Это не логическое заключение. Это какой-то нелепый посторонний порыв. Иметь хорошего, достойного ее мужчину здесь – это роскошь, это мечта, которую почти невозможно осуществить.
***
После введения талонов на вино в Журавлях появились первые проблески надежды на трезвую жизнь. Но вместе с этими надеждами появились и покойники – доверчивые люди, отравившиеся кустарными заменителями спиртного. Людмила Николаевна заметила, что люди в Журавлях стали пить все, имеющее в своем составе спирт. Этот список начинался с духов, а кончался политурой. Многие жители села занялись производством спиртных напитков на дому. А Боря Мамонт стал заходить к Людмиле Николаевне в начале каждого месяца, чтобы выпросить (или, как он выражался, «вымолотить» у сельской учительницы) положенный ей «талон на вино». Всё равно ей этот талон ни к чему. Такие, как она водку не употребляют.
В общем, вскоре Людмила Николаевна с удивлением обнаружила, что те люди, которые крепко выпивали до принятия строгих мер, пить вовсе не перестали, только слегка перестроились. Они начали терроризировать местных старух и стариков, вынуждая их отдать им водочные талоны.
Трезвые жители в Журавлях по инерции всё ещё старались рубить новые дома, ремонтировать заборы, копать колодцы, но хмельная масса забулдыг смотрела на это занятие косо, как бы давая понять, что не стоит много горбатиться, пока о них заботится государство. Наверное, поэтому Журавли потихоньку ветшали и в раннюю весеннюю пору имели весьма неказистый или, как сейчас говорят, непрезентабельный вид. Повсюду в Журавлях до половины лета стояли обширные лужи, из которых по привычке пил домашний скот, а напротив сельского Совета даже выросли высоченные камыши, в которых плодились и вырастали дикие утки, так как лужа там постепенно превратилась в болото и стала привлекать к себе разную одичавшую живность. Председатель сельского Совета с открытием охоты начинал палить по уткам прямо из окон административного здания и говорил всем, что это доставляет ему истинное удовольствие, которое даже сравнить не с чем.
Обветшалых домов в Журавлях с каждым годом становилось всё больше. В некоторых из них жили пенсионеры, а в некоторых поселились огромные серые крысы. Так что если местные жители по своей инициативе начинали травить крыс в одном конце села, то крысы тут же перебирались в другую его часть, – то есть попросту меняли место проживания. А когда гонения на крыс прекращались, они тут же возвращались обратно. По старой традиции крыс тут называли «хомяками» и говорили, что они умнее всех животных на свете. Утверждалось так же, что если в селе водится много крыс, то значит, это село зажиточное и в нем обязательно должен проживать крысиный король – огромная крыса черной масти, у которой на груди белое пятно в виде ромба. А если есть крысиный король, то где-то должен быть его дом, где-то должна проживать его свита, его слуги и подданные. Говорилось так же, что с обыкновенными крысами можно делать всё, что угодно, но крысиного короля трогать нельзя. Ибо если король умрет, то на сельских жителей могут обрушиться все возможные на земле несчастья, начиная от голода и кончая страшными болезнями.
Замок крысиного короля – это пустующий дом где-нибудь на сельской окраине, куда лет десять уже никто не заглядывал. Инстинктивно люди боятся этих домов и не решаются в них заходить. Дети в этих домах начинают плакать. Даже кошки обходят их стороной, и только лесные бесстрашные ежи иногда заглядывают в такие дома, чтобы принести крысиному королю подношение – сушеный гриб или спелое яблоко.
***
Первая зима, которая казалась Людмиле Николаевне бесконечной, похожей на бескрайнее белое поле, наконец, закончилась. За ней пришла яркая, но прохладная и тягучая весна, продуваемая иногда резкими северными ветрами. А вслед за весной появилось на горизонте пышущее жаром, желто-зелёное деревенское лето, от которого хотелось получить чего-то необыкновенного, заманчивого и нового. Парилась, просыхая, оттаявшая земля, искрилась мутная вода на речке Журавихе, медовым цветом озарились ивы. Мать-мачеха зацвела мелкими желтыми цветочками. В лесу распустились анемоны, и проклюнулся, потянулся к солнцу узколистый иван-чай, обрамляя пышной зеленой зарослью лесные опушки.
Мужики посадили картошку на своих обширных огородах, и сами спокойно селись отдыхать на первых солнечных припеках с огромными бутылями мутноватой браги. Пили и беседовали о будущем урожае, о сенокосе и заготовке дров, о том, чего им ожидать от начавшихся в стране передряг, которые умные люди в правительстве называли перестройкой.
Пчелы стали летать над лугами с тонким угрожающим жужжанием, как пули. Пастух Абросим, собирая по селу скотину, стал каждое утро кричать где-то в конце Кооперативной улицы на отборном русском эсперанто: «Я вам, б……! Куда они, суки такие лезут»! И получила Людмила Николаевна свой первый долгожданный отпуск, который её захотелось прожить так, как подскажет сердце. Не оглядываясь на прошлое, не учитывая нравственные догмы и рамки приличия. Чтобы встречный ветер бил лицо, солнце ярко светило над непокрытой головой и ничего её не ограничивало, ничего ей не мешало.
Она стала собираться домой, складывала в чемодан вещи и пела. Сердце у неё радостно колотилось, в голове был туман. Наконец-то она свободна. Она может поехать туда, где её знают и любят, считают своей.
Через два дня она взяла билет до Кирова. Сто девяносто третий поезд уходил из Кирова в Ленинград утром. Она не спала всю ночь и всё старалась представить себе, как она пройдет по Невскому проспекту, как выйдет на набережную Мойки, а потом к Неве. Как увидит высокий золоченый шпиль Петропавловской крепости, и слезы радости появятся у нее на глазах. Она дома. Она смогла преодолеть все трудности, она вынесла, она победила, и сейчас она может вновь оказаться в стране вечной молодости, в сумраке любви, в спокойных берегах реки желаний. Там, где сможет, наконец, стать сама собой.
***
Уже при появлении первых новостроек Ленинграда она не смогла сдержать слез радости. Стояла в проходе между двумя испуганными провинциалками и тихонько шмыгала носом, часто промокая глаза скомканным носовым платком.
Домой от Московского вокзала Людмила ехала на такси и всё смотрела по сторонам счастливыми глазами. Яркие летние улицы её завораживали, они утопали в густой, волнистой зелени. В некоторых с детства знакомых местах Людмиле хотелось остановиться, выйти из машины и вдоволь насладиться красивым видом сквера или канала, попутно удивляясь тому новому, что возникло уже после её отъезда, но было неудобно просить об этом шофера.
На Таллиннской машина свернула во двор, проехала тёмную арку и остановилась возле детской песочницы. Людмила рассчиталась с водителем и пошла по тенистому дворику мимо огромных каштанов к знакомому подъезду. Ощущение было такое, будто она никуда отсюда не уезжала, потому что здесь ничего не изменилось без нее, даже обветшавший грибок меж детских качелей стоит так же косо, как раньше. Те же машины во дворе, те же скамейки в сквере.
Мать, увидев ее за дверью, всплеснула руками, расплакалась, расцеловала в обе щеки. Начала расспрашивать.
– Ну как ты там, на новом месте? Давай рассказывай скорее. А то я из писем твоих ничего толком не поняла. Федя твой два раза приходил, адрес спрашивал. Я не дала, хотя жаль мужика… Квартира-то у него хорошая.
Людмила Николаевна привычно села на кресло в гостиной, стала рассказывать о своей деревенской жизни, и когда в разговоре дошла до эпизода личной встречи с Борей Мамонтом – мать от души рассмеялась.
– Надо же, как народ распустился!
– Да таких, как он, немного. Остальные люди в деревне много работают, а выпивают, чтобы отдохнуть. Мне так кажется. Им одних дров на зиму надо заготовить гору, да ещё сад, да сено ещё, да картошка. Летом там люди работают от зари до зари, без выходных.
– Да и здесь ведь тоже без дела-то никто не сидит. Наш сосед, Всеволод Станиславович, докторскую защитил. Ездил в Германию опыта набираться. Дочка у него в медицинском институте учится, сын в училище имени Серова поступил. Живописью занимается.
– А Кира Соломоновна?
– Она в нашей поликлинике на приёме работает. Хорошая женщина, обходительная. Я её очень уважаю. Мы когда с ней на улице встречаемся – она всегда о моем здоровье спрашивает, советы разные дает по народной медицине. Тут у нас мода пошла травами лечиться.
Мать неожиданно замолчала, взглянув на усталое лицо дочери. Потом спохватилась:
– Что это я всё говорю да говорю. Ты, небось, есть хочешь с дороги. Давай, приходи ко мне на кухню, там и поговорим. У меня раньше после длинной дороги спина болела. А у тебя, как? Не болит?
– Нет, не болит пока, – ответила Людмила с улыбкой.
– Ну и, слава Богу.
Мать направилась на кухню. Людмила пошла было за ней, но по пути зашла в ванную, вымыла лицо и руки, и, взглянув на свое отражение в зеркале, спросила через открытую дверь:
– Мам?
– Да, дочка.
– А Борис не звонил?
– Нет, – ответила Маргарита Валерьевна после непродолжительной паузы, – как ты уехала – так больше не звонил ни разу. И, слава Богу.
– Ну, мама…
– Да уж не буду. Не понимаю я его. Мне Федора твоего жаль. Такой видный мужчина. На висках седина. Видимо, переживает. До сих пор не могу понять, почему ты с ним так обошлась? Ведь этот Борис Борисович-то в подметки ему не годится.
– Мама!
– Да чего там! Я Федора сердцем чувствовала. Он человек хороший. А этот, писатель-то твой, говорит со мной и в глаза не смотрит. Неудобно ему, что ли? При живой жене вторую бабу завел. Усищи как у таракана, и лицо всегда блестит, как будто жиром намазано.
– Ха-ха-ха! – тихонько хохотнула дочь.
– А чего. Мать зря не скажет. Мать сердцем чувствует, где твое счастье.
– А Наташка Семенова, как? Моя лучшая подружка.
– О, она совсем с пути сбилась. Про нее такое говорят.
– Что? – заинтересовалась Людмила.
– Ну, будто она с криминальным бизнесом связалась, и что-то там такое организовала для них непотребное. Вроде дома свиданий.
– Да что ты!
– Я сама точно не знаю, но люди говорят. У Марии Игнатьевны сын сейчас в милиции работает, так вот она мне рассказала по секрету… Жуть что в России творится сейчас. Жуть и срам.
После завтрака почти до обеда мать и дочь снова говорили, только сейчас вопросы задавала мать, а дочь отвечала. И во время этого спокойного разговора Людмила не заметила в матери никаких признаков старения, скорее, наоборот – увидела юный задор в глазах, спокойную размеренность в движениях. Мать явно не собиралась сдаваться.
Вечером Людмила решила пройтись по городу. Она с детства любила это время медлительных летних сумерек, когда оранжевый закат заливает мягким светом вершины высоких зданий, а все остальное вместе с деревьями и людьми начинает тонуть в синеве, в призрачной дымке. В это время город начинает зажигать огни, становясь при этом ещё более ярким и манящим, ещё более обольстительным. На многолюдном Невском в это время нарядная молодежь гуляет парами, у Гостиного двора влюблённые назначают свидания, и на набережной Невы тоже не пусто, только ветер, всё ещё резкий и холодный, гонит от Финского залива крутую волну.
На перекрестке, возле знакомого с детских лет гастронома, Людмила остановилась и, после короткого раздумья, подошла к телефонному автомату, который был сейчас в тени от зелёного облака липы и выглядел очень уютно. Набирая номер Бориса Борисовича, она неожиданно разволновалась, боясь, что его нет дома, что трубку возьмет его жена, и тогда придется говорить что-нибудь совершенно нелепое, лгать, ища выход, объяснять, что случайно не туда попала. Но трубку, к счастью, поднял Борис, она поняла это по его дыханию.
– Алло! Я слушаю вас, говорите, пожалуйста.
– Боря! – не проговорила, а прошептала она.
В трубке всё стихло.
– Боря, ты слышишь меня?
– Это ты, Людмила? – спросил Борис.
– Да.
– Здравствуй, милая! Здравствуй, дорогая! Я так по тебе соскучился. Когда ты приехала, на сколько?
– Вчера.
– Нам надо сейчас же встретиться. Так хочется поговорить с тобой. Ты не представляешь. Весь год я прожил тут без тебя, как в клетке, как в неволе.
– А почему так редко писал?
– Не люблю писать писем, не умею. Ведь в письмах и десятой доли не передашь от того, что чувствуешь.
– Я тебе не верю.
– Это правда. Без тебя я остро чувствую свое душевное одиночество, – стал оправдываться Борис Борисович. – Мыслями своими, самыми сокровенными, поделиться не с кем. Это хуже всего.
– Я понимаю. Но…
– Тогда я заеду за тобой… через полчаса. Идет?
– Да.
– Ну, пока!
***
Через сорок минут синий «москвич» Бориса Борисовича стоял внутри двора на Таллиннской. Около него неспешно выхаживал, разминая ноги, высокий мужчина в сером костюме. Это был Борис Борисович Волнухин, человек с густыми усами и каким-то особым, неизменно свежим лицом. По правде сказать, его внушительные усы выглядели сейчас излишне тяжеловесно, но дурного впечатления не производили, так как были тщательно прибраны, промыты и уложены. Это лицо украшали очки в безукоризненно темной оправе. Он был коротко пострижен, надушен и держал в руке свежую газету, на ходу проглядывая какую-то статейку в ней.