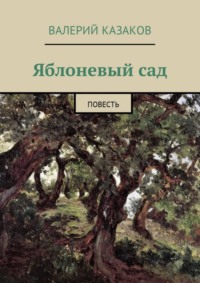
Яблоневый сад. Повесть
Через какое-то время к нему во двор спустилась Людмила в потертой джинсовой юбке и желтой кофточке с перламутровыми пуговицами. Он наклонился к дверце машины и достал из салона букет цветов. Людмила, искренне радуясь, приняла красные гвоздики, поднесла их к лицу, вдохнула, закрыла глаза, и сделала вид, будто у неё кругом пошла голова. Потом поцеловала Бориса в гладко выбритую щеку и деловито села в машину. Машина завелась, плавно сдвинулась с места и покатилась по двору, описывая эллипс возле детской песочницы. Немного позднее нырнула под арку и скрылась из вида.
Вскоре Борис и Людмила уже были в Озерках на даче у давнего друга Бориса Борисовича, военного моряка-подводника Михаила Крашенинникова, который серьёзно увлекался живописью. Это было видно по картинам, которые украшали стены дачи, по запущенному, но удивительно красивому саду, где вперемешку росли яблони и ели, клены и груши, по тому особенному запаху, который издают только что написанные маслом этюды и натюрморты.
Людмила принялась готовить ужин, а Борис Борисович стоял у неё за спиной и шутил, рассказывал занимательные истории из городской жизни. Иногда он обнимал ее за талию и пробовал поцеловать в шею. Она нехотя останавливала его. Ещё не выпив ни грамма спиртного, он уже чувствовал себя хмельным и счастливым, помолодевшим на несколько лет. Потом вдруг посерьёзнел, сел на стул в углу и долго молчал, следя за ловкими руками Людмилы и одновременно думая о чем-то своем. Наконец решился, кашлянул и сказал:
– А знаешь, Люда, я этой зимой несколько ночей не мог глаза сомкнуть.
– Почему? – шутливо переспросила она.
– Вот сейчас, если ты не против, принесу листок бумаги и объясню всё. Это очень интересная теория, знаешь ли. Очень.
– Философское что-нибудь? – спросила Людмила без особой заинтересованности.
– Да, чисто теоретическое. Я бы сказал, абстрактное даже.
Он долго искал листок бумаги и ручку в соседней комнате. Наконец нашел всё, что нужно, и подсел к столу рядом с Людмилой.
– Я когда начинаю об этом с женой разговаривать – она меня не понимает, друзья – тоже. Вся надежда на тебя, ты всегда была умницей. Вот посмотри.
Он положил перед собой листок бумаги и приготовился что-то нарисовать на нем.
– Ты знаешь, что древние философы бесконечность когда-то изображали восьмеркой, лежащей на боку?
– Ну, допустим. И что из этого следует?
– Так вот, мне всегда представлялось, что бесконечность – это круг, который увеличивается в размерах. А у них почему-то восьмерка.
– Ну?
– Ты не догадываешься, почему?
– Нет, – чистосердечно ответила Людмила.
– А я задумался, и знаешь, к какому выводу пришел?
– К какому?
– Я понял, что та точка, где два эллипса, образующие восьмёрку, соприкасаются между собой, – не что иное, как логический фокус Вселенной.
– А что такое, логический фокус? – удивилась Людмила.
– Дело в том, что вся вселенная состоит как бы из одинаковых частей, только одни из этих частей очень большие, а другие очень маленькие. Ну, например, строение атома чем-то напоминает строение Солнечной системы. Протон – это Солнце, электроны – планеты. То есть структура построения и взаимодействия в микромире почти тождественна структуре космической. И между ними есть связующее звено – это логический фокус… А что может быть логическим фокусом? Только разум, осознающий симметрию, только общечеловеческое сознание с его возможностью накапливать знания.
– Но, почему именно фокус? – переспросила Людмила.
– Потому что человеческий разум может смотреть в обе стороны бесконечности одновременно. В бесконечно малое и бесконечно большое.
Он ловко нарисовал на листе бумаги внушительную по размерам восьмерку.
– И что из этого следует? – снова задала вопрос Людмила, глядя на странный рисунок и не понимая до конца, как можно объединить бесконечно малое и бесконечно большое.
– Так Бог хочет познать самого себя, – вкрадчивым голосом проговорил Борис. – Ведь он создал человека по образу и подобию своему.
– Бог, – удивленно повторила она.
– Да. Создав человека, Бог получил возможность видеть себя со стороны. Наши глазами он смотрит на Вселенную, которая вокруг нас. С нашей помощью он старается понять тот мир, который когда-то создал.
– Твои рассуждения озадачивают, – после недолгого молчания призналась Людмила.
– Меня к таким выводам подтолкнули стихи Блока. У него в стихах особая гармония, рассчитанная на отклик души. На что-то тайное, о существовании чего мы даже не догадывались.
– А кстати. Блок свою незнакомку здесь написал, в Озерках, – вставила свою реплику Людмила.
– У него в стихах больше музыки, чем здравого смысла, – продолжил Борис.
Ужин был готов. Людмила и Борис удобно разместились возле стола, на котором особенно привлекательно выглядел салат из свежих помидоров. И тут Борис о чем-то вспомнил, вышел к машине в сад и вернулся с бутылкой марочного, с запахом влажного вечера и с непокорно поднявшейся прядью на лбу. Людмила внимательно посмотрела на него и спросила по-домашнему спокойно:
– На улице ветер?
– Да. Наверное, будет дождь.
Она перевела взгляд на окно и увидела там плотное кружево листвы, расплывчато блестящее на фоне восковых сумерек. Ей нравилась тёплая тягучесть июньских вечеров, бархатные тени от деревьев, стрекот кузнечиков и та полупрозрачная череда облаков, которая не затеняет ни земли, ни неба.
Людмила была снова в той атмосфере культурного общения, к которой привыкла, и даже ученические картины на стенах дачи, яркие как цветочная клумба, не раздражали её. Борис заговорил о поэзии, и ей было приятно слушать его, хотя уже не так интересно, как год назад, в пору их знакомства. Кое в чем он повторялся, но это не портило общего впечатления. И говорил он увлеченно, потому что сам иногда пописывал стихи… А может быть, и не иногда. Кто его знает.
После двух рюмок ароматного вина ноги у Людмилы Николаевны сделались невесомыми, и вся она немного поплыла вместе со стулом куда-то назад, к настенному шкафу. Она почувствовала, что щеки у неё горят, а пальцы сделались непривычно тёплыми. Если выпить ещё одну рюмку этого восхитительного вина, она или уснет или взлетит в небо. Тень сна уже витает над ней, давит на ресницы. Она уже ни о чем не способна думать. Совершенно ни о чем. Она только смотрит перед собой и слушает своего собеседника, да иногда поворачивает лицо к окну, если там начинает шуметь ветер, слегка изгибая тёмные ветви яблонь.
– А вот и дождь пошел, – вдруг произнес Борис из темноты, от окна. Она открыла глаза и удивилась, что решительно не понимает, как он там оказался. «Неужели заснула?» И с улыбкой призналась сама себе, что такое вполне может быть, потому что устала в дороге, потому что выпила, потому что успокоилась. Её сон мог продолжаться всего несколько минут или несколько мгновений. Так с ней уже было когда-то.
– Может быть, приляжешь, – посоветовал ей Борис каким-то неуверенно вкрадчивым голосом.
И Людмила с приятным томлением подумала о том, что уснуть ей не удастся ещё долго. Он непременно придет к ней взволнованный, часто дышащий. Тихо ляжет рядом, и тёплые руки его обнимут её талию, потом отправятся в путешествие по всему её телу, заскользят, заиграют. Их тела сблизятся, сольются и начнут неистово проникать друг в друга, всё ярче вспыхивая в радуге долгожданных чувств, как вспыхивает и звучит волшебная музыка до той последней ноты, которая кажется самой желанной, потому что эта нота завершающая.
Но на этот раз всё было немного не так, как предполагала Людмила. На этот раз он как-то томительно долго обнажал её молодое тело, а потом вдруг стал целовать всю от пяток до волос, жадно, ласково, но не спеша, как будто старался насладиться этой минутой как можно дольше. И когда его губы прильнули к её губам, а потом с поцелуями стали опускаться всё ниже по груди и теплому животу, – она вдруг почувствовала, что тайно ждала от него именно этого проявления нежности. Сейчас у неё было сладкое чувство безвыходности происходящего, потому что она вся была в его власти, в пагубной неволе любви. Наконец она не выдержала этой сладостной муки, и каким-то не своим, хрипловатым голосом простонала: «Иди же ко мне. Иди!»
Потом опьянение чувством прошло, прошел туман сладкой, затмевающей здравый рассудок муки, и от этого, а может быть отчего-то ещё, возникло в душе неприятное, отрезвляющее чувство стыда. Она увидела себя со стороны. Вот она лежит на кровати рядом с мужчиной, у неё ярко горит на щеках румянец, волосы её веером разметаны по подушке. И вся она совсем не такая, какой должна быть настоящая Людмила Николаевна. Ведь на самом-то деле она совсем другая. Она чище, интереснее, возвышеннее… Хотя, может быть, всё наоборот. По-настоящему она именно такая, какой была несколько минут назад. И это понимание её вовсе не огорчило, в конечном счете, она женщина, она хочет любить и быть любимой.
***
Утром Борис проснулся первым. Ему было приятно увидеть рядом с собой Людмилу. Особенно хороши сейчас были её русые волосы, веером лежащие на подушке, и слегка позолоченные солнечными лучами. Её загорелое лицо, с полными щеками, как у ребенка, веки с густыми ресницами, полуоткрытый рот с маленькой круглой родинкой над верхней губой умиляли его. Улыбаясь, чему-то своему он повернулся к отпотевшему за ночь окну, за которым неподвижно блестели листья яблонь с матовой изнанкой и подумал о том, что мог бы пролежать вот так до вечера. Потом осторожно встал с постели и оделся, стараясь не разбудить Людмилу. Но она неожиданно скоро проснулась, повернула к нему лицо и спросила:
– Ты куда собираешься, Боря? Разве мы не останемся здесь еще на день?
– Да-да, непременно останемся, – ответил он, – только мне надо съездить в город часа на два. Ещё вчера в издательство заказывали. На обратном пути я провизии захвачу… Ты не возражаешь?
– Нет. Только не езди долго, не забывай про меня.
– Не забуду. Спи.
Он направился к выходу, но у двери приостановился.
– Если хочешь – в саду погуляй. Купаться не предлагаю. Вода холодная.
После его ухода Людмила Николаевна ещё долго лежала в кровати, наслаждаясь тёплым спокойствием своего тела, которое отдыхало от ласк, измученное и счастливое. «Он уехал, чтобы всё объяснить жене, – без тени обиды подумала она. – Он всегда так делает, потому что боится её потерять». Она перевернулась на другой бок, чтобы видеть зелень за окном. «И всё-таки хорошо быть одной. Семейная жизнь меня тяготила бы, – родилось в её голове. – Там каждый имеет свои обязанности, исполняет свою роль, а у нас с Борей полная свобода. Свобода без границ. Вот захочу – и уйду от него к маме».
Через час она встала с постели и прошлась по даче, на ходу расчесывая волосы. Дача ей понравилась, она состояла из двух светлых комнат и кухни. Обе комнаты смотрели окнами в сад, а сад располагался с южной стороны, поэтому в комнатах было много сухого уютного тепла, которое присутствует в деревянных зданиях, построенных из свежего леса. Здесь хорошо дышалось и думалось, запах смолы каким-то образом успокаивал, рождал светлые мысли.
Миновав невысокое крыльцо с желтыми деревянными ступеньками, она спустилась в сад и, уже шагая по узкой тропинке между деревьями, подумала, что Борис вчера с серьезным видом излагал ей какую-то странную теорию, а она толком не могла понять, для чего он это делает. Он всегда ищет чему-нибудь оправдание, объяснение. Увлекается отвлеченными идеями, суть которых без подготовки, без определённого рода заинтересованности воспринимается с трудом.
Под ее ногами зашуршала сухая прошлогодняя листва. Это Людмила свернула с тропки в сторону, и шуршание листвы, делающее её шаги мягкими и как бы чуточку медлительными, стало приятным. Так она дошла до плотной изгороди окружающей дачу, нашла в одной из досок круглую дырку от выпавшего сучка, и, слегка наклонившись, посмотрела за ограду. Увидела там овраг, густо заросший можжевельником, несколько сумрачных елей в отдалении, кучу какого-то хлама, вперемежку с битым стеклом, ржавые трубы возле соседнего забора. Потом выпрямилась и пошла обратно, срывая на ходу мелкие невзрачные цветы. И уже заходя на крыльцо, неожиданно решила: «Всё-таки уеду. Сейчас же».
***
Вечером позвонил по телефону Борис, озабоченно спросил, что с ней случилось? Она ответила, что ничего не случилось, просто стало скучно одной. Объяснила ему, что одиночество в Озерках и одиночество в Журавлях почти ничем не отличаются. Он стал извиняться, объяснять, что его задержали в редакции «Нового времени», где будет напечатана его статья «Инерция переселений».
– Это что еще за трактат? – удивилась Людмила. – Примерно то же самое, что теория логического фокуса?
Он засмеялся в трубку. Ответил, что это серьёзная, аргументированная статья на социально значимую тему. Что там нет ничего умозрительного, ничего похожего на философскую теорию.
– В ней я рассуждаю о некоторых сторонах русского характера. Это довольно интересно… Так свои мысли я ещё нигде не излагал, – пояснил в трубку Борис.
Людмила Николаевна сделала вид, что заинтересовалась статьей, и попросила прислать ей статью для ознакомления. Борис удовлетворенно согласился. На этом и закончился разговор. Она облегченно вздохнула, и когда вешала трубку – вдруг отчетливо поняла, что не хочет его видеть сегодня. Так ей будет легче, потому что есть во всем его шике и блеске какая-то явная несостоятельность, неопределённость, которая раздражает. Когда она была студенткой, а он её преподавателем, она этого не замечала, но сейчас это почему-то остро чувствуется. В их нынешнем союзе он вовсе не опора ей. Он такой же, как все. К тому же, она с трудом его понимает.
Вечером друг Бориса по фамилии Депрейс привез в тёмном конверте обещанную статью. Людмила Николаевна проводила его до машины, быстро вернулась и стала читать небольшую по объему работу, тут и там исправленную хорошо отточенным карандашом. Начиналась она словами:
«По моему мнению, коммунизм в России был обречен потому, что идеологические его представители пытались создать общественный идеал в противовес идеалу религиозному. А такое строительство, в конечном счете, всегда было насилием над личностью, потому что на свете существует только один нравственный идеал, который у каждого человека в душе, и легче всего этот идеал воспринимается вместе с Богом – его идеальным носителем. К тому же Бог по законам теологии может контролировать наши чувства: он вездесущ, всезнающ и всемогущ. Правда, контроль этот только на уровне душевной открытости, свободы выбора: верить – не верить, – то есть на уровне вечной очистительной работы души. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Ленин, – эта святая коммунистическая троица изначально не могла заменить настоящей Святой Троицы, которой тысячу лет поклонялся русский народ и в которую тысячу лет верил. Собственно философская мысль в России всегда была мыслью христианской, схоластической, и в этом нет никакой беды, потому что она гораздо ближе русскому сознанию, чем коммунистическая идея, она гораздо более человечна, раскованна и патриотична, чем обезличенное учение о борьбе классов.
Однако попробуем заглянуть, что же происходило в истории России с чисто эмпирических позиций. Изначально наше государство – это суша, не имеющая четких границ на востоке. На западе эта граница были всегда. То есть – это огромный простор – равнина без конца. Этот простор долгое время позволял нашим предкам экспериментировать, уходить в неизведанное, чтобы найти там правильную и счастливую жизнь. Переехал на новое место, ушел от прежнего хозяина – и зажил по-новому, не так, как прежде… Это российское кочевье происходило веками, оно у людей в крови. Не зря же в России всегда было много бродяг и романтиков. Сначала люди переселялись на пал, в леса, на новое место. Потом – в города. И по своей психологии были готовы переселиться в коммунизм. В этом смысле первыми коммунистами были Болотников, Разин и Пугачев.
Но вот поиски земли обетованной завершились трагедией для всего народа. Новый предводитель переселенцев, товарищ Ленин, решил переменить не только государственную систему, но ещё по-новому устроить человеческую душу: склад ума, образ чувств, мыслей, что с точки зрения здравого смысла, вообще-то, невозможно. Получилась трагедия. Образовалось кровавое пятно на общественном идеале. Из-за этого пятна были обречены все потуги Михаила Горбачева возродить учение Ленина. К сожалению, оно навсегда в кровавом сталинском одеянии. Может повториться террор, большая уравниловка, бунт, хаос, но коммунистическая идея уже давно умерла. Поэтому, когда Михаил Сергеевич вновь обратился к Ленину, на этого странного человека многие стали смотреть с недоумением.
Но дело, в конечном счете, даже не в прошлом. Сейчас речь идет о будущем переселении в капитализм. Нужно ли это переселение российскому народу именно сейчас? И должно ли оно быть таким стремительным? С теоретической точки зрения – да, с нравственной и психологической – нет. В этом смысле я согласен с Валентином Распутиным, который убеждает, что за семьдесят лет правления большевиков многое изменилось, да и само учение о коммунизме приобрело иные черты: стало более человечным, лояльным, трезвым. Собственно, в последние двадцать лет мы не столько строили социализм, сколько примеряли на других его идеологическое одеяние, – сами же при этом давно уже жили в каком-то ином измерении, потому что давно забыли не только идеал общественный, но и нравственный идеал. Я бы не называл этот период застоем. Это был период явного разделения страны на два безболезненно существующие класса. Класс руководящих работников от партии и класс тружеников. Очень часто это разделение шло по семейному признаку: муж – рабочий, жена – управленец. С точки зрения стабильности – это была самая надежная система сосуществования классов. Да и с нравственной точки зрения это не так уж плохо. Но мина компромата, заложенная Сталиным, сработала. И надо сказать откровенно, что журналисты и писатели этому сильно помогли. Да, был альтернативный путь врастания в мировую экономику постепенно, по китайскому образцу, но с мутного дна перестройки поднялось столько «карасей-идеалистов», что они убедили весь российский народ в благопристойности «щуки капитализма», которая слегка насытится мелкой рыбалкой, но основной массе собственников обязательно будет послабление. Они смогут развиваться и расти.
И что же мы видим сейчас. Бунтари-идеалисты постепенно трезвеют, а некоторые даже уходят в оппозицию – поближе к толпе, к любимой стихии. Но уходят, опять же, только для того, чтобы при первом удобном случае оседлать стихийное возмущение и на волне этого возмущения прийти к власти. И все же самое страшное не в этом. Самое страшное – в упрямой надежде всех бунтарей-идеалистов на чудо некой известной только им экономической теории, следуя которой можно за год или два всю Россию преобразить в цветущий сад…»
И так далее, ещё на пяти машинописных листах.
Закончив читать статью, Людмила надолго задумалась. На её красивом матовом лбу поселились две еле приметные морщинки, которые не старили, а скорее украшали её. «Это не так глупо, как теория логического фокуса, – решила она и с облегчением отложила рукопись в сторону. – Надо сказать Борису об этом».
***
Весь следующий день она бродила по Ленинграду, наслаждаясь его спокойной красотой. На ней было белое легкое платье и модные туфли с блестящими застежками. Хорошо промытые волосы Людмилы струящимися волнами отлетали назад при каждом порыве ветра. При этом она чувствовала их ласковую тяжесть. Впервые, после долгих месяцев жизни в провинции, она стала обращать внимание на то, какие наряды носят сейчас молодые женщины. Заметила, что в сочетании охряных домов и синего неба есть какая-то неуловимая гармония, которой раньше она не замечала.
По старой привычке и с тайной надеждой увидеть что-нибудь новое, она зашла в Эрмитаж, нашла там зал Рубенса на втором этаже и долго гуляла по этому залу, медленно переходя от картины к картине. Почему-то именно Рубенс сейчас манил её больше всего. Картины Рубенса она видела даже во сне. Нарисованные удивительно сочными красками мощные мужские и женские тела завораживали ее своей внутренней экспрессией и силой, каким-то жгучим и радостным жизнелюбием. На этот раз она долго простояла перед его «Венерой и Адонисом». Борис однажды сказал, что Людмила очень походит на Венеру с этой картины Рубенса. Она решила рассмотреть Венеру получше, и чем дольше рассматривала – тем всё больше убеждалась, что Волнухин был прав. Пышнотелая (кровь с молоком), Венера, действительно чем-то напоминала Людмилу, только волосы на голове у Венеры казались Людмиле непривычно золотистыми. И ещё почему-то смущало копье в руке Адониса. Зачем ему копье в такую минуту? И для чего понадобились художнику тяжеловесные морды собак на переднем плане картины? Что они олицетворяют, о чем говорят? Если это фон – то весьма неудачный. Для нужного фона хватило бы, кажется, одного розовощекого амура и пары лебедей.
Из зала Рубенса её потянуло к скульптурным композициям Родена. Когда ещё девочкой она увидела эти скульптуры впервые – сердце у неё томительно сладко забылось, а щеки предательски зарделись. Все композиции Родена были о влюблённых, все были выполнены из белого мрамора, до блеска отполированного, и каждая скульптурная композиция была как книга, которую можно листать и листать, подходя с разных сторон к центральной теме. В слитках сплетенных тел угадывалось совершенство. Это была поэма о любви, реальная и романтическая одновременно.
После Родена был зал французских импрессионистов. И это тоже увлекло Людмилу, потому что «Париж в дожде» выглядел почти так же, как Ленинград в дожде, как любой южный город в летнюю пору. Вот только Пикассо, как она ни напрягалась к его картинам, чтобы что-то понять, ничего ей не сказал. Все его серые маски, желтые шахматы, треугольники и ромбы, на сером фоне холста, тушили в ней всякое стремление восторгаться и понимать. Всё в картинах Пикассо казалось ей безжизненным, как бетонная стена.

Из Эрмитажа она вышла на Мойку, остановилась напротив музея Пушкина, облокотилась на мраморный парапет и долго стояла так, наблюдая в воде сонные отражения соседних домов. И ей показалось, что нет ничего на свете дороже спокойствия, тепла и этого вот восторженного созерцания окружающей тебя жизни, куда не вписывается ни теория логического фокуса, ни диалектический материализм. Потому что всё в этом мире просто, как дважды два, и человек может быть счастлив всего лишь тем, что не лишен возможности видеть, слышать и понимать окружающую его жизнь.
Дома она с удовольствием раскрыла том Ивана Бунина и прочитала небольшой рассказ под названием «Благосклонное участие». Удивилась тому, как точно Бунин смог подметить в женщинах столько присущих им черт. Принялась было за «Дело корнета Елагина», но в тёмном коридоре зазвонил телефон, и мать каким-то металлическим голосом глухо позвала её, мелькнув в просвете двери оголенной по локоть рукой.
– Твой опять звонит. Говорит, срочно.
– Что срочно? – переспросила Людмила.
– Не знаю, – ответила мать.
Людмила взяла тёплую трубку из руки матери и услышала только одно слово: «Приезжай». Сказано это было таким тоном, каким никогда Борис с ней не говорил. И она вынуждена была поехать к нему на съемную квартиру, потеряв всякий интерес к Бунину, готовому обеду и солнечной домашней тишине…
Нашла Бориса возле горящего камина, среди бесформенной груды книг, в рубахе, расстегнутой до пояса, мятых брюках и без очков. Он разрезал шпагат на новеньких упаковках книг и бросал эти книги в огонь.
– Что ты делаешь? – спросила она удивленно, увидев его за этим странным занятием.
– Они отказались от моих стихов. От всего тиража, – проговорил он обреченно, не поднимая на неё глаз.
– Кто они? – не поняла Людмила.
– Торговые работники. Эта новая мафия. Все мне отказались… Я пробовал продавать книги сам. Ставил автографы. Три часа простоял на станции метро Площадь мира… И ничего не продал. Ничего! Поэзия сейчас никому не нужна. И это в России, в самой читающей стране! Представь себе.
– Но.
– Страна торгашей и пьяниц! Мы живем в стране торгашей и пьяниц! – зло хрипел Борис.
– Может быть, увезти их куда-нибудь в провинцию. Там ещё есть романтики, которые интересуются поэзией, – невпопад проговорила Людмила.
– Глупости! Не надо себе лгать. Не надо меня успокаивать. Я знал, что стихи сейчас никому не нужны, и всё-таки пробил эту книгу в издательстве. Нашел спонсоров. Договорился с редакцией. Договор заключил. Сейчас все эти деньги нужно возвращать.
В его глазах появились слезы, горький отсвет огня, бушующего в душе.
– Брошу всё! Брошу, Людмила! Стану, как все. Буду преподавать. Хватит глупостей. Время иллюзий прошло… Моя жена, к сожалению, оказалась права. Она никогда не воспринимала мои увлечения серьёзно. Смотрела на меня с иронией, этак снисходительно. И вот она снова оказалась права. Права, понимаешь. Сейчас на многое можно так смотреть. На всё, что не приносит прибыли сию же минуту.