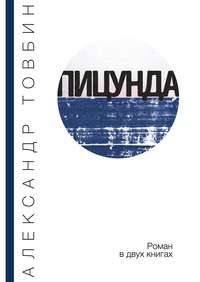
Пицунда
Роман с первого взгляда не получился.
4
– В трёх километрах южнее Питиунта располагалось небольшое винодельческое поселение Лдзава…
А Лидзава, утопающая в садах Лидзава, прибежище анахоретов, благороднейших психов, разномастных романтиков, всех, кто не от мира сего и потому уже украшает своей исключительностью передаваемые из уст в уста – теперь можно сказать: из поколения в поколение – героико-занимательные истории, обходилась без Брода с музыкальными шкатулками, танцульками. Её клубом был пляж: выползает из-за мохнатых Мюссерских холмов соглядатайка-луна, взлетают к небу искры костров, тут и там жарится мясо, рыба, шумно опорожняются трёхлитровые, из-под кабачковой икры, банки местного вина – Изабеллы, Цоликаури… О, такие ночи – испытанный катализатор невероятного, и хотя лидзавский фольклор Митя знает лишь понаслышке, главные руны, ставшие духовным достоянием всего мыса, он с певучим упоением пересказывает из года в год, например впечатления безвестных свидетелей ночного переполоха, который наделала выходка тбилисского десятиклассника, проводившего в Лидзаве летние каникулы, тайно влюблённого в прекрасную Нану. По ней, впрочем, вздыхает весь пляж. Однако же соперничество всего пляжа ошалелый молокосос достойно сносит, когда же появляется единоличный счастливец – родовитый интеллигентный красавчик Звияд, отпрыск знаменитого тбилисского писателя, заполучающий, как кажется, ключи от Наниного недоступного сердца, уязвлённый гордец, отчаявшись – тут и луну под похоронное настроение заслонила туча, – уплывает в кромешную тьму, чтобы свести счёты с жизнью. На беду, в ту ночь штормит, никто не купается, но, само собой, все накачиваются вином, тары-бары, смех, песни, и хотя луны нет, сохраняется обычный градус веселья… В общем, исчезновения юного ревнивца не замечают, а когда спохватываются, и начинается тот самый легендарный переполох. Но не дано отвергнутому влюблённому утонуть, далеко в открытом море, откуда не видны даже огни костров – у Мити, благодарного справедливой судьбе, вздрагивает от волнения подбородок, – пловца-самоубийцу на исходе сил его вопреки жестоким законам мелодрамы готовится подобрать иностранный корабль. Но это ещё не счастливый конец – в операцию спасения на водах вмешивается пограничный патрульный катер…
Теперь-то и мне ничего другого не остаётся, как прибегать к жалким уловкам, чтобы вернуться на тот мыс.
Вот открытое, частично плющом занавешенное кафе вблизи пристани, где я частенько посиживаю, вот прихваченный клейким пластырем к стеклу сувенирного магазинчика шикарный интуристовский фотоплакат – завлекательнейшая глянцевая сине-зелёная панорама мыса, заснятая с вертолёта на импортную плёнку.
Откинувшись на спинку пластмассового ажурного креслица, я мысленно сметаю с плаката торчки панельных корпусов, плашку курзала, прочий коробчато-модерновый сор – всё сметаю, вплоть до пляжных парусиновых зонтиков, лежаков и теннисистов, скачущих по кортам, как белые блошки. Всё-всё сметаю прочь, пока не возникает желанное видение первозданности, которым столетиями владели, паря в восходящих потоках воздуха, одни лишь зоркие птицы.
Всё чудесно меняется, когда смотрю издали!
И – в данном случае – сверху!
Теперь-то я вижу остриё, похожее на нос брига, зарывшегося в пенный бурун.
Вижу бескрайнюю искрящуюся стихию – пронзительно синюю, слепяще-синюю: лазурь, кобальт, ультрамарин, перетекая, смешиваясь, поигрывая переливами, бликами, слегка пушатся у горизонта, нежным сиянием касаясь небесной голубизны.
И мягко чернеет роща – выброшенная на берег морем исполинская губка.
Я и сам меняюсь, когда смотрю издали и сверху, когда осознаю, сколько лет заслоняют время, которое хочу разглядеть.
Смотрю, постигаю эффект дальней оптики.
Смотрю, удивляюсь и умиляюсь, не спеша отделять цвета предметов от окраски переживаний.
И не стыжусь, если сбиваюсь на плаксивую интонацию.
Иным слёзы туманят взгляд.
Мне – это действительно так! – служат увеличивающими линзами.
5
– Политическое влияние Рима усилилось в первом веке, когда Нерон про возгласил Питиунт провинцией империи и ввёл сюда оккупационные войска. Сорок военных кораблей – по свидетельству Иосифа Флавия – поддерживали мир на несудоходном прежде и суровом море. В стратегическом отношении Питиунт становится самым важным и удобным для Рима опорным пунктом в Колхиде…
Какое многолюдье, даже осенью – многолюдье! Мода ли, соображения престижа сюда в октябре окультуренный плебс сгоняют. Не протолкнуться, а когда-то ставил палатку вблизи устья Кипарисовой аллеи, под четырёхсотлетней сосной, и – никого, ни-ко-го. Лишь разок ещё выпадало потом такое ошеломительное одинокое счастье, в благословенный холерный год, – Митя хлещет рукою воздух, да так сильно, что, теряя координацию, разворачивается к озлобленно гудящему у кассового павильона рою авиапассажиров, домогающихся обратных, домой, в холода и слякоть, билетов, к нервным очередям к таксофонным кабинкам с вечно барахлящими, заглатывая серебро, аппаратами, к мельканиям в небесных витринных отблесках собранных под общую крышу торговых точек знакомых и незнакомых фигур, поглощённых суетой курортных забот. Описав замысловатую дугу корпусом, Митя обретает всё-таки равновесие и обращает внимание Ильи на припаркованную у внешне прескромной конторы «Интуриста» итальянскую, похожую на платиновую ракету гоночную машину Элябрика. Да вот и сам Элябрик, как по заказу, – с пучком шампуров направляется к своему колёсному сокровищу; наверное, пикник для важных гостей готовится… «А-а-а, юноша бледный со взором горящим! – кричит с другой стороны улицы Воля и в приветственный замок сцепляет руки над головой, и сразу, – капитан, капитан улыбнитесь!» – ну да, Тима-капитан вышагивает вразвалочку. «А вот гипнотизёр Шпильман с бутылкой мацони, а ещё, – говорит Митя, – мисс-мыс объявилась после нескольких лет отсутствия, помнишь её?» Но тут же Митя натыкается ищуще-жадным взглядом на новую достопримечательность и энергично машет, машет рукой, приветствуя довольно славненькую, коротко стриженную особу в ярчайшей пышно-оборчатой юбке. Особа, дабы заклеить конверт, старательно слюнявит пальчик за стеклом почты, но всё же удостаивает Митю кивком с улыбкой. «Это Любочка, сенсация нынешнего сезона, – забыв об упрёках столпотворению, возвещает Митя с растущим энтузиазмом. – Язычок у неё подлиннее и поострее Волиного, да, да, невероятно, но факт: Волька был вынужден признать своё поражение и сказал гениально, что Любочку лучше один раз услышать, чем сто раз… – на полуслове Митю передёргивает судорога. – Ну-у, парад-алле!» Надвигается Ожохин – задубело-плотный, вытесанный из коричневого кряжа обрюзглый идол в мешковатом тренировочном костюме светло-голубой ворсистой фланели с белыми лампасами на рукавах и штанинах. Он тащит тяжеленный баул с теннисной амуницией, на локте его висит тощая кривоногая птичка и всё залетает-заскакивает вперёд, чтобы заглянуть в толстые очки покровителя преданными бесцветными глазками. Залетает-заскакивает и щебечет, щебечет про неберущийся закрученный удар справа, а Ожохин хмуро непроницаем, ступает, как монумент. «Очередная клюнула, с неделю уже никак не расцепятся, браво, браво, рекорд постоянства», – ухмыляется Митя, замолкает и смотрит вслед. Могучие оплывшие плечи стареющего атлета, чуть сбоку – перисто-лёгкая плиссировочка вспархивает над щуплыми ягодицами, и клочок холёного газона, поодаль – ротонда храма, оцинкованный куполок, а на сутуловатой спине птички вздувается тонюсенькая, будто бы из смятой папиросной бумаги, фирменная серебристая курточка, информирующая эмблемой с красно-синей гарнитурой, что теннис is aua geim, и белёсо-нитяной след в небе едва различимого самолётика, облако, бодающее ультрамариновую гору… А чуть пониже овальной эмблемы на курточке выписано мелкими буковками: cap of Devis.
Ностальгию нередко объясняют неким химико-биологическим мороком индивида, сроднившегося с окружающими ландшафтами, а вынужденно покинув их, эти ландшафты – природные, городские, – испытывающего гнёт разлуки и потребность восстановить контакты с привычной средой.
Другими словами, вину за смутные томления души частенько сваливают на так и не раскрытый наукой, но всесильный химизм, на неведомую пока, но приковывающую организм к месту и поддерживающую внутреннее равновесие индивида цепь формул, разрыв которой, вызванный потерей дорогого пространства, чреват мучительной неприкаянностью.
Вероятно, подобные, ловко пришиваемые к материальной подкладке гипотезы развитие науки возведёт в ранг теории.
Ещё того вероятней, что я, чересчур вольно тасуя факты и впечатления, приравниваю ждущий анализа объективный феномен к причудам своей ментальности – мне лишь бы говорить о своём.
Но как бы то ни было, я полагаю ностальгию недугом скорее временно́го, чем пространственного происхождения.
Недугом неотпускающей, как фантомная боль, порой съедающей личность и – на фоне актуальной повседневности – отдающей нарциссизмом тоски по себе-бывшему или, что то же самое, по времени, в котором выпало жить и которое миновало.
Хотя, само собой, те, кто далече, те, кто не могут вернуться в белоствольные пенаты или знакомые до слёз города и даже понимают, что не вернутся в них никогда, склонны привязывать болезненное чувство разлуки к месту.
Место конкретно.
Пропитанная историей топография, краски, запахи отпечатываются в памяти.
Более того: зрительные образы «неизменно неподвижного» места – старый дуб, купол церкви – продолжают жить в памяти, присутствием своим маскируя разрушительную работу времени, которая идёт в нас самих.
Даже распознав или интуитивно ощутив бессердечность времени, человек отчаянно цепляется за любовь к домам, деревьям, самонадеянно считая их хранителями своего прошлого.
Увы: дома, деревья недолговечны, как и года.
Я не улетал навсегда в дальние страны, не покидал город, где рос и жил, по сути, не покидал и мыс, где репетировал уже много лет тому назад ностальгию и на который с умилением смотрю сейчас.
Стучу, чтобы не сглазить, по деревянному цветочному ящику, одному из тех, что обрамляют кафе у пристани: до сих пор между мной и местом время не возводило непреодолимых преград.
Их громоздило мнительное воображение.
Сколько сезонов, восторженно жмурясь от изумрудного сверкания моря, омывающего аметистовую горную цепь, я боялся лишиться своих сокровищ!
Сколько раз, прощаясь, суеверной монетой выкупал у волн право на возвращение!
И судьба снисходила, я возвращался.
Почему же стенаю, как обделённый?
Каждый прожитый год – что там год, бывает, что и день, час – отношу к утратам, принимаюсь заново расписывать и переписывать минувшее чистейшими красками, пытаюсь оживить то, что казалось утраченным и невозвратимым.
Возможно, странноватая реставраторская миссия, которую взвалили на себя память с воображением, имеет какой-то познавательный смысл?
Ведь я, хоть и безуспешно пока, но стараюсь уразуметь, по какой такой надобности время с издевательским постоянством подносило мне дивные подарки и тут же торопилось отнять их, едва я успевал сорвать с них пёструю упаковку.
Притча во языцех этот мрачный антигерой с ракетками, наложницами – видали ли, кого вчера танцевал, слыхали, что отчудил? Ну и гнусный этот Ожохин, вот уж обормот-обормотище, вот уж носорог настоящий – несётся святое негодование с курортных амвонов. Ну и сукин сын, хам, матерщинник, как земля таких держит, и опять – Ожохин, Ожохин… Загадочный перекос неприязни, свидетельствующий лишь о несомненной популярности антигероя: даже за много лет случайных вынужденных контактов отпускники так и не узнают фамилий друг друга, а у Ожохина почему-то никто не знает имени, только прозвище, которым собутыльники величают с уважительной интонацией, – Веник, Веник… Что-то вроде преступной клички, да и чёрт ведает, как зовут его в паспорте, не интересно, зато фамилия ему так идёт, так созвучна его замшелости, что нарочно лучше было бы не придумать. Вахтанг, помнится, театр одного актёра затеял и ну смаковать тембровые оттенки, так, сяк произносит и вдруг – поспешно выдыхает, а то и, кажется, выплёвывает фамилию целиком, будто обжёгся горячей картофелиной, а потом перекатывает, перекатывает под языком по буквам: о, ж, опять о, растягивает по слогам уникальную фонетическую конструкцию смутной этимологии и вовсе забавно на китайский манер выворачивает – О-жо-хин, тем паче что по контрасту с большим пористым носом, большим, рваным ртом близорукие зеньки у Ожохина под роговыми окулярами маленькие, узкие, слегка раскосые, а когда очки снимает, то органы зрения вовсе забиваются в щёлки между жёсткими, тёмными веками, и получаются вроде как приоткрытые подозрительно створки озёрных ракушек, а в глубине – грязно-жёлтые слизняки.
Митя сторонится, пропускает несущуюся с лаем, визгом мимо курортного торгового центра стаю бездомных собак – лохматые, гладкошёрстные создания вольных кровосмешений! «Бабник, поддавала, горластый хулиган, трактор, кичащийся происхождением от сохи», – ярлыков хватает, но Митя добавляет отталкивающему образу ещё питекантропа с неандертальцем, ни за что ни про что оскорбляя неприхотливых поселенцев каменных эр. Ожохин-то, по правде сказать, не такой дремучий, как любит прикидываться, валяя Ваньку на людях и раздражая лощёных умников. Воля, пуще всех бед предостерегающий от убойной убогости российского ницшеанства, едва увидев, ещё ничего про Ожохина не разнюхав, уверять стал, что Ожохин насквозь коричневый, притом прилично подкован теоретически и ждёт, когда пробьёт час развесить на фонарях инородных болтунов, которые бредят чуждой соборному православному народу парламентской демократией. Короче, копится и подспудно бродит в нём национально-социальная злоба, а пока грубо выплёскивается по бытовым мелочам. Владик – даром, что ли, всё о всех знает? – коротенькую казённую анкетку достать сумел, так точнёхонько всё в ней соответствовало Волиному интуитивному фотороботу: окончив юридический факультет МГУ, новоиспечённый законник из села утверждается в столице, сколачивает шайки бригадмильцев, потрошащие стиляг и нарождавшихся фарцовщиков, выявляет и запоминает врагов, дежурит на джазовых концертах, поэтических сборищах, вернисажах оттепели… Недурно начинает, вот-вот совсем уж далеко-высоко попрёт, да вдруг – заминочка в карьерном росте, да надолго; похоже, скучно ему по крупицам подличать, не хватает ему оперативного простора, чтобы с тормозов сняться и врубить скорость. Но ни мычат ни телятся верховные власти, только орденами с золотыми звёздами утешаются дряхлеющие вожди да при встречах-проводах, истекая слюнями, лобызаются. Вот и затаился трезвый Ожохин в сокровенных своих намерениях, наблюдая затяжные эти маразмы по телевизору; заждался властной отмашки, зато в пьяном кураже открыто заявляет с презрительной, имитирующей ненавистную гнилую породу картавостью, что пробьёт час расплаты по идейным счетам, а он, Ожохин, ввергнет болтунов-разрушителей из интеллигентской прослойки в заслуженные страдания. Пора, кричит, перепившись, подлинного страха на них нагнать, чтобы сидели тихо и не высовывались, лишь на тесных кухнях своих могли за кофе помечтать о свободе как об абстрактной очищающей категории.
Я обвиняю время?
Пожалуй… Хотя это и глупо.
А пока – пока съезжает Ожохин на выгодную обочину. От роду не гнушающийся прихватить лишнего, теперь, по сведениям Владика, караул какую крупную деньгу зашибает, сохраняя для прикрытия неблаговидных своих делишек старые, со студенческой скамьи связи. Диплом за шкаф кинул, положил, как доверительно хвастает за выпивкой, болт на официальный статус и… Послушаешь его «не хухры-мухры» или юмор про кильку с тюлькой, которые, выйдя за евреев, стали мойвой и сайрой, – ну пьянь подзаборная, скобарь скобарём, по ведь при этом не только словечки про абстрактные категории и тонкие страдания вдруг в матерный загиб вставит или очки а-ля профессор солидно поправит на переносице – корифеем джентльменской игры заделался! Кто его самого обучил, когда, где – загадка, но вот вам упрямый незаурядный факт: Ожохин наживается теперь на теннисном буме, захватившем, как всякий бум, по преимуществу обделённый взаимностью слабый пол. Чуть ли не по двадцатке за час берёт, учит азам неумех, которые готовы регулярно деньжата выкладывать, чтобы форсисто выхаживать с ракетками в данлоповских чехлах на молниях; и всё подороже заламывает Ожохин за натаскивающее киданье мячиком слева-справа, да пользуется вдобавок дамскими прелестями, да так успешно, что отбоя нет от учениц, – отрабатывает Ожохин славу не только тренера, но и любовника-зверя. Заработал – спустил, эхма, пей-гуляй в баре, всегда готов на груди рубаху рвануть с купеческим ухарством, эхма, всё моё, всё, всех куплю! Всегда самый дорогой коньяк на столе, а ярится – как с бормотухи, нутро клокочет, для него вечер без дебоша – пропащий, лезет на рожон, швыряет в неугодных бутылки… До чего же гонорист сей чистый великоросс! Аборигенов провоцирует, дразня черномазыми, Нодара в дневном подпитии задрал на площади: что, орёт, чурка, тачку лакированную свою учёной должностью дутой-передутой день-деньской караулишь, когда держава на полях и в цехах горбатится. Ну схлопотал сдачу, не отходя от кассы, дружки-то у Нодара с тяжёлыми кулаками, слава богу, тут же у храма топчутся, в обиду не дадут, хоть Мохаммеда Али скрутят, превратят в отбивную. Вот и расхаживал потом Ожохин, на радость идейным противникам, с распухшей рожей, впечатляюще замазанной марганцовкой. Да он и дорогих подруг, теннисных питомиц своих, что гроздями на нём виснут, рад-радёшенек до драк стравливать – залыбится вдруг эдак мило-мило, дескать, и у него, толстокожего, может быть слабость: кетч обожает. И до чего ж скандальная, с публичными истериками на пляже, рыданиями и царапаниями в опасной близости от сомнительно защищённых очками глаз тянулась у Ожохина связь с намертво втюрившейся в него дылдой-чешкой. Припухло-розовая, светло-крашенная, завитая Милена, шизанутая училка из Брно, исхитрялась без путёвок сезон за сезоном возникать в кульминациях ожохинских романов и, шуганув очередную соперницу так, что её и след простывал, обрушивать на изменщика изнурительно-крикливые страсти, которыми, как уверял Вахтанг, она подсознательно мстила за братскую оккупацию.
Однако словно комариные укусы для бронированного Ожохина и кулачищи джигитов, и женские ногти… скорей даже почётнейшие знаки внимания, льстит ему любой хибиш вокруг несравненной его персоны. Пробить же Ожохина может только его оружие – только поражения на корте ему истинную боль причиняют, это не то что хрип от удушливого удара под дых или разодранная щека, украшающие героя. Из глаз-щёлок, когда очки снимает, чтобы отереть полотенцем мокрую будку, вытекает белёсая щёлочь беспощадной, но в миг поражения бессильной злобы. А повергнуть Ожохина ракеткой на всём мысу один Владик может, если, конечно, в ночном преферансе не перегорит, настроится; всё цивильное племя дикарей на него в канун игры молится, напутствуя на смертный бой, кидаются на шею, чмокают презирающие хамский ожохинский напор, незапятнанные его теннисным наставничеством интеллектуалочки. «Владюша, – пищат, – держись, крепись, за победу всё отдадим, это же событие!» Решающий поединок, финал турнира, собирающий на облупленных скамейках главной площадки сливки общества, к петушиной гордости Цезария, пожизненного властителя кортов. Цезарий, забавнейший тиранчик с подбритыми усиками, брюшком, нависающим над затейливо выштампованной рельефными женскими телесами и жеребцами блестящей пряжкой ремня добротного кипрского производства, который поддерживает белые фирменные штаны, с австралийским свистком на цепочке – подарок самого Метревели! Да-а, с выкладкой и аксессуарами у Цезария всё о’кей, – Цезарий важно взбирается на судейский насест демонстрировать серьёзно-озабоченной суетой привязанных к мячу чёрных жуликоватых глазок доброжелательную, строго-неподкупную спортивную справедливость. И как побил Давид Голиафа, так вертлявый, веса пёрышка Владик, он же просто Вла, он же Дик, ибо за двоих носился по корту, хотя ракетка была одна – что бывало, то бывало, – побивал в решающем сете тяжеловеса Ожохина. И только последний невзятый мячик по корту чиркнет, как бедняга Ожохин из железного бойца в мешок с дерьмом превращается, бездыханно рот разевая, как боксёр в состоянии грогги, – кажется рефери отсчитывает секунды, хотя Цезарий отсчитался уже и бабки в счёте подбил, сейчас памятный приз вручит… Как-то Владик до того уверенно на победу настроился, что какая там пулька в сигаретно-винном ночном угаре – даже спортивный режим не испугался нарушить всего за час до начала матча: на пари пару литров маджарки выдул под трепетной пергалой лидзавского дворика. Не иначе как счастливый случай подгадал у него подъём биоритмов, а у грозного противника – спад, чудеса – вчистую разбил, хотя в животе помузыкальнее, чем в бурдюке, булькало… То-то дикарские ликования огласили мыс, то-то закатила отдыхающая интеллигенция пировы торжества! Но вообще-то – справедливость так справедливость! – Ожохин теннисист классный, матёрый, знающий себе цену, пусть на вид лучше бы ему штангу жать или возиться на борцовском ковре. Играет Ожохин без тенниски, в одних – красных, с разрезиками – трусах, чтобы зримо подавлять мускулами, обманывать простаков, что грузен чересчур, неповоротлив, не выдержать ему темпа, а до неожиданно резко закрученных мячей не дотянуться, однако реакции у гада отменные, там ждёт, туда прыгает, куда мяч летит, чувство позиции, техника выручают. А сваливал его Владик исключительно азартом, наскоком, преданностью заведённому безостановочному движению, а Воля добавлял, что – классовой ненавистью, хотя ещё ох как точно измерять надо было бы, у кого она, классовая ненависть, посильнее…
О, эти замедленно-тягучие, вкрадчивые ожохинские перемещения, эта затравленность и напускная сонливость дикого зверя в игровой клетке, эти ожидающие подачу, впрямь похожие на закрытую боксёрскую стойку позы с напружиненными ногами, ссутуленной могучей спиною, как бы безвольно опущенными плечами, потно-блестящими складками брюшного пресса! Замах с подъёмом на цыпочки, удар – прочерчивает заросли лавра белое ядрышко, Ожохин под одобрительные кряканья своих поднабравшихся секундантов и болельщиков отбивает, ловко разводит многоходовую, усыпляющую долгими невинными перекидываниями комбинацию, которую вдруг кончает лёгким скачком к сетке и хлёстким – будто, всю злость вложив, прихлопывает муху – неотразимым своим крюком справа, таким стремительным, что даже не удаётся разглядеть взметнувшуюся ракетку… – А Виталий Валентинович приехал? – спрашивает Илья и, не дожидаясь ответа, сообщает без всякой связи, что заходил к Гие, услышал о гибели четырёхсотлетней сосны. Митя после минуты молчания печальную новость подтверждает личным свидетельством: стоял рядом со срубленной воздушным топором головой, вот и преследуют – никак не отстанут – виденья давнего палаточного счастья под хвойной сенью.
Угасая, час, день, год уходят.
Остаётся бесплотная образность прошлого, его вокзальный привкус.
Горчит, словно расстался навеки с женщиной в тот самый миг, когда вдруг понял, что полюбил.
И добро бы испытывать горечь расставания раз, два… А если – ежедневно, ежечасно, ежеминутно?
Если будто бы живу на перроне, не отнимая платка от глаз?
О! Оплакивая угасания, расставания и прочая, прочая, я готов выложить на бумагу щедрую поэтическую обойму!
Вспоминать для меня – всё равно что сидеть, поёживаясь, у догоревшего костра и ловить в золе перемигивание искр.
Или – провожать в воду солнце и обманываться потом под вспыхнувшими холодом звёздами, что поймал-таки промельк последнего зеленоватого лучика, посулившего трепетность духовных прозрений.
Но будут же другие дни, годы!
Плевать на паспортные данные! Чувствую себя молодым, меня влекут свежие впечатления.
Только в том-то невесёлая заморочка и кроется, что другие.
А точат сознание те, ушедшие, их лучи, отблески…
Удлиняя зыбкие тени, прошлое бередит воображение, непостижимо соединяет в одну две контрастные картины, две цвето-теневые гаммы.
Оживают былая чёткость, яркость.
И размываются черты, меркнут краски: лик мира окутывает траурная вуаль.
Не потому ли любуюсь лицом, пейзажем, что помрачившееся сознание ждёт утраты?
Неужто так испорчен, что, едва соприкасаясь с жизнью, тут же отвергаю её, как бы мысленно обращая пережитое вспять?
Но разве это не от века заведено? Нежная весенняя листва помнит щемящую красу осеннего увядания, притаившаяся в любой радости, в любом проявлении красоты боязнь утраты делает бесценным всякое переживаемое мгновение. Разве, прежде чем необратимо перетечь в прошлое, настоящее не авансируется из его запасников, обосновавшихся в памяти?

