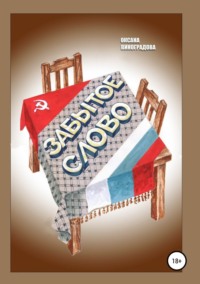
Забытое слово
Дома дела обстояли не лучше. Родители постоянно ругались, угрожая друг другу разводом. Маму раздражало все, а отец защищался удивительным пофигизмом. Для детей у них оставалось крайне мало времени. И если у Даши для игр и общения была я, то мне дома словом не с кем было перемолвиться. Чтобы не выть, я пела, как папа, песни, но не только народные, как он, а все что попадалось. Но даже соседи не стучали в стенку, когда я со всей мочи кричала:
Ален Делон, Ален Делон – и пьет одеколон.Ален Делон, Ален Делон пьет двойной фургон…[3]Таким образом, я все больше изолировалась от окружающих.
Новая школа
Во время летних каникул учеба в художественной школе не прекращалась: у нас был «пленэр», и мы с палатками выезжали на природу. Впрочем, после шестого класса я уехала на два месяца в пионерский лагерь: на папиной работе последний раз дали путевку.
На второй неделе отдыха в «Ильиче» мне пришло письмо от родителей, где они сообщали, что я переведена в другую общеобразовательную школу, ближе к дому. Ни особой тревоги, ни особой радости по этому поводу я не испытала.
Новая школа встретила неласково. Самой главной отличницей и лидером в классе из девочек оказалась давняя знакомая по детскому садику – Наташа Мухина. Она меня ненавидела всем сердцем, а я ее презирала. Как-то раз в детсаде, в старшей группе, на нас, детей, обидно и несправедливо закричала воспитательница. Я обозвала ее «дурой», за что получила подзатыльник, была поставлена в угол и расписана в красках перед родителями. Мне было горько, а никто из ребят не выразил сочувствия и тем более не разделил со мной наказание. Спустя два дня, когда я, пережив нравоучения мамы, почти проглотила обиду, ко мне подошла Наташа Мухина.
– Ты молодец! – сказала она. – Воспитательница действительно дура.
Ко мне «смешинка в рот попала». Я, нажившая сильного врага в виде воспитательницы, пережившая два дня издевательств, чувствовала себя героиней, а она, подлиза и трусиха, хочет примазаться к моему подвигу!
– Скажи ей об этом сама, – предложила я весело.
Она молчала.
– Тогда я скажу, что ты сказала.
В ответ на мои слова ее веснушки побледнели так, что их не стало видно.
– Надя, не говори. У меня красивые бусинки есть, я тебе их подарю, только не говори.
Такого поворота событий я не ожидала, но идея мне понравилась:
– Неси.
Мухина принесла на следующий день бусинки, потом – другие, в следующий раз – платьишко для куколки, и так далее…
А меня, невольную шантажистку, занимала эта ситуация, и я не упускала случая периодически напоминать:
– Сейчас скажу…
Разумеется, когда после детсада группа разошлась по школам, Мухина вздохнула с большим облегчением.
И надо же мне было попасть в класс, где она числилась лидером! Расплата началась тут же. Не прошло и недели, как некоторые из класса захотели избить новенькую, то есть меня.
Но одно обстоятельство изменило их планы: я с отличной учебы резко скатилась на двойки. Классная со смешной фамилией Небодаева тут же «припечатала» меня позором:
– Школа переполнена, и взяли тебя, чтобы повысить показатель успеваемости! В твоем табеле четверки и пятерки, а ты глупа как пень!..
Небодаева вела уроки русского языка и литературы, писала заметки в газеты и не уставала подчеркивать принцип гласности, провозглашенный Горбачевым.
Она была права. В прежней школе учителя завышали мне оценки (а Мария Алексеевна ставила их вообще ни за что), и я давно отстала по всем предметам. Изгои в классе обратили внимание на мою персону, а Мухина получила частичное удовлетворение. Некоторые стали говорить со мной и даже принимать в свои компании. Однако я продолжала жить не по их понятиям: училась в художественной школе и всегда успевала исправлять двойки на тройки.
Кроме того, я редко участвовала в общественно-полезном труде, который был всеобщей повинностью. А редко потому, что Небодаева приноровилась эффективно использовать мои художественные способности. Ее дочь ходила в детский садик, и, желая обрести ласковое внимание воспитателей, учительница подвизалась оформлять актовый зал моими руками. Мне это было не в тягость, а одноклассники завидовали.
Еще я отлынивала от уборки классного кабинета, святого дела. У меня была уважительная причина – художественная школа. Правда, всем на эту причину было «до лампочки», и Небодаева упрямо включала меня в «дежурные бригады».
И вот как-то раз именно такой бригаде, состоящей из четырех человек (Светы, Вари, Юли и меня), предстояло сделать в классе генеральную уборку.
– Мне некогда, – сразу заявила я. – У меня занятие через час.
– Мы должны вымыть пол, – заявила умная активистка Юля.
Меня осенила идея:
– Можно поделить класс на четыре части, и каждый вымоет свою. И отвечать будет за свою часть.
Юля согласилась и поделила класс на четыре части. Я взяла веник, подмела свою территорию и направилась к двери.
– Куда? – Путь мне преградили все трое.
– В школу надо.
– Нам за тебя двойку поставят, иди мой.
– А вы свои части мойте на пятерку, а по поводу моей не переживайте: я учительнице все объясню, пусть мне двойку ставит.
Юля взяла швабру наперевес:
– Мой сейчас же!
Она не знала, что мать ежедневно заставляла меня убирать квартиру таким же тоном, и мне всегда хотелось ответить: «Я не могу, не хочу сейчас». Одноклассница – не мать, и ей я могу ответить.
– А я сейчас не хочу!
Все опешили.
Ну, решила я, теперь они меня все равно из класса не выпустят, в худшколу я так и так опоздаю, так хоть дам волю своим чувствам. Медленно, с гордо поднятой головой я подошла к окну, элегантно привстала на цыпочки, уселась на подоконник и поправила складочки на подоле платья.
– Теперь я не спешу. Но буду мыть, когда захочу. И вы мойте, когда захотите. И чего хотите.
Девчонки помолчали. Потом, посовещавшись между собой, по очереди принесли тряпки, ведра с водой, веники и прочие причиндалы. Полкласса были Юли и Светы, и мыть им было удобно. Другие полкласса – часть моя и Варина. Оказалось, Варе одной неудобно мыть. Она стала просить подруг о помощи. Они ей в помощи отказали, но указали на недостатки:
– Под той партой – одни разводы, перемывай, – сказала Юля, а Света ей поддакнула.
И тут в голове у Вари тоже что-то щелкнуло:
– А не пошли бы вы… – неожиданно произнесла она и уселась на подоконник рядом со мной.
Варя стала моей лучшей подругой.
С первого взгляда она была очень некрасива, со второго – недурна, а с третьего в ней обнаруживалось сумасшедшее обаяние, затмевающее все ее физические недостатки. Варя подкупала своей жизнерадостностью, своей легкостью по отношению к жизни. Ум ее не поддавался анализу, и часто я думала, а было ли что там анализировать, но ее энергия и любовь к жизни, а также природная интуиция восполняли все пробелы.
Отец ее был законченным алкоголиком еще задолго до перестройки, но каким-то образом работал на мебельном комбинате сверловщиком. А еще раньше он был бригадиром и получил медаль «За трудовое отличие», висел на доске почета и вызывал всеобщее уважение. Любил читать классику и обожал Маяковского. Что́ в голове у него переключилось – неизвестно, только допился он до того, что во время антиалкогольной компании с комбината его выгнали, а так как тунеядство постепенно переставало считаться преступлением, он припеваючи зажил на шее у законной жены, упрекая ее в тупости и необразованности. Варина мать, вкалывая на заводе за двоих на станке, больная и уставшая от жизни женщина, как могла тащила детей (Варю и ее сестру Любу), ни в чем не переча мужу. Естественно, она не сильно вдавалась в их учебные проблемы. Моей учебой тоже давно никто не интересовался.
Варя училась плохо, а связавшись со мной, стала учиться еще хуже. Мы с ней наперегонки бравировали своими неуспехами и пренебрежением к учебе. Прогулы уроков становились для нас привычным делом.
Однако прогуливали мы с пользой: бежали к началу открытия главного универмага «Юбилейный» и занимали сразу несколько очередей, ожидая выброса дефицита. Деньги у нас были, как, наверное, у многих в то время. Мы покупали все что попадалось: от трусов до зимних пальто. Но купить что-то было большой удачей.
Нам с Варей нравилось шастать по пустым магазинам в надежде что-то купить; я показала ей лаз на военную территорию, и мы еженедельно наведывались в тамошние магазины, полные дефицитных продуктов. Мама, как заведено, специально оставляла на эти случаи деньги.
Раз мы с Варей зашли в видеосалон, открывшийся при Дворце культуры, и с открытыми ртами посмотрели фильм про красивую жизнь ТАМ. Это был фильм «до шестнадцати», и мы увидели ТАКОЕ! Сюжет фильма недопоняли и долго недоумевали по поводу того, как на главную роль могли взять такую «нефигуристую» героиню. Мы, считавшие себя некрасивыми (внешне мы чем-то походили друг на друга), и то смотрелись бы гораздо лучше. Гипотетически, конечно.
Вскоре о моих прогулах и двойках стало известно родителям. Они приняли меры: запретили смотреть сериал «Рабыня Изаура». Это была первая мыльная опера ОТТУДА, появившаяся на экранах наших телевизоров. Я очень страдала поначалу, а потом нашла выход – смотрела сериал у Вари. Родители, узнав об этом, объявили мне бойкот и хотели еще как-то наказать, но очередная ссора между ними помешала осуществить задуманное. Причиной их разногласий явился на этот раз холодильник. Мы давно стояли в очереди на его покупку, и наконец-то дефицит завезли в магазин бытовой техники. Новость облетела жаждущих, но, к сожалению, дома в тот момент оказался только папа. Он не раздумывая взял отложенные деньги, побежал в магазин, отстоял там очередь и купил холодильник. Мама, придя с работы домой, пришла в негодование: она хотела холодильник, но не такой! По ее мнению, следовало пропустить очередь, перезаписаться и ждать нужный вариант. Увы, ситуация была непоправима. Родители поорали друг на друга, и папа вечером ушел на работу (начальство, видать, входило в его положение и впускало через проходные в любое время дня и ночи). Опять запахло разводом. Папа не пришел ночевать, и на следующий день я пошла к нему в мастерскую, куда уже пропускали меня беспрепятственно. Отец спал на узеньком диванчике, сделанном им собственноручно из остатков разломанных стендов. На полу простирался огромный лозунг: «Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за осуществление экономических реформ, внедряйте полный хозрасчет, самофинансирование, аренду и кооперацию!» Я аккуратно обошла папино произведение и склонилась над отцом:
– Папа!
Он не отвечал.
– Папочка!
Он открыл глаза и, глубоко вдохнув, выдохнул. Я чуть не зажала нос от неприятного для меня запаха.
– Папа! Ты пил?
– Надя, я устал. Я люблю тебя и Дашу, но с вашей матерью жить невозможно. Я разведусь и уеду на родину.
– Пап, ты ее знаешь. Покричит и отойдет.
– Она тебя прислала?
– Нет, я сама. У нас отменили два урока. Дай, думаю, зайду. Может, чаю попью.
– Конечно, конечно… – папа трясущимися руками схватил чайник и поставил на старую плитку, принесенную из дома. – Всю ночь писал, чертил… Дорожные знаки еще принесли, разодранные в дым. Представляешь, какую силу надо иметь, чтоб знак сломать? Раньше такого не было, а теперь каждую неделю несут. Народ совсем дикий… Ну, а у тебя что в школе?
– В школе? Ничего особенного. А знаешь, мне тут книжку дали почитать. Про Сталина. Там ТАКОЕ написано! Думаешь, правда?
– Не знаю. Время покажет. Вот, говорят, Высоцкий – алкоголик. А это не так…
– Я маме сказала про Сталина, а она говорит, что правильно сажали, что эти люди – настоящие преступники.
– Может, мама и права. Устами младенца глаголет истина. А твоя мать как ребенок. Потому и оставить ее не могу. Пропадет, глупая! Вот увидишь, я правильно холодильник купил, потому что скоро холодильников не будет вообще!
Папино предсказание сбылось.
Тяготы
Жизнь стремительно менялась.
Скоро не только холодильники, но и продукты в магазинах стали пропадать совсем. На военной базе прилавки опустели, а вход в нее перестал охраняться: видимо, магазины и были объектом охраны.
Потом продукты и товары обзавелись двойной ценой: прежней, к которой привыкли покупатели, и «кооперативной», которая превышала прежнюю в пять – десять раз. На прилавках кое-что появилось, но не все могли это кое-что купить.
Некоторые кооперативные промтовары были гораздо красивее тех, что делало государство «по плану». Так, мама купила дорогущие туфли в обувном кооперативе, и на них ушла практически вся ее зарплата. Она обувала их по великим праздникам, передвигая ногами очень-очень плавно, приходя в расстройство от каждой нечаянной царапины на каблуке. При этом шептала: «Надо же, и нигде не трет!» Папа, видя, что зарплаты хватает лишь на пару туфель, загрустил. Его ремесло переставало пользоваться спросом: никому не нужны были ни призывы, ни лозунги. Сошли на нет обязательные демонстрации и всенародные гуляния. Папа попробовал писать художественные картины, но людям было не до прекрасного. Денег домой он приносил все меньше, а мама о них думала все больше. Скандалы в доме стали ежедневными и изматывающими, а папа все чаще приходил «с запашком», вновь вызывая огонь на себя. Родители ругались так сильно, что я была почти счастлива, когда они вместе ругали меня, хоть я при этом легко входила в истерическое состояние, плакала и отвечала руганью. Матери я боялась настолько, что вздрагивала при звуке ее голоса. Я перестала знать наверняка, что она думает. Ее воззрения менялись ежедневно. Так, она с восхищением стала говорить о спекулянтах, особенно после того, как один из них (из нашего подъезда) купил машину. А ведь не так давно она ездила в Москву за зимними сапогами и простояла на морозе в очереди полдня. За несколько человек до нее закончился нужный размер, и мама вышла из очереди. Когда папа встретил ее, рыдающую, на вокзале, то улыбнулся: «Оля, ну взяла бы ты хоть какие сапоги, а на барахолке обменяли бы».
– Что я, проклятый спекулянт что ли? – отвечала мама.
А теперь она думала о них хорошо.
Кроме того, она вдруг стала верить в сверхъестественные силы, что ранее казалось невозможным. Иногда в доме заводились такие разговоры матери с отцом:
– Вот, Николай, денег у нас все меньше, ты пьешь… надо бы сходить к одной бабке. Она с тебя порчу снимет.
Отец отвечал:
– Оля, отстань… Это в тебе черт сидит. Ты в Бога не веришь, а в порчу уверовала. Посмотри на себя: с тобой повеситься можно.
Мама после таких слов переходила на крик, и все узнавали о том, что это с папой можно повеситься, что он художник от слова «худо» и верит в летающие тарелки, которые, как мама надеется, когда-нибудь заберут его к чертовой матери. Я в такие минуты сидела, заткнув уши указательными пальцами, а Даша плакала. Иногда семейные разборки настолько выбивали меня из колеи, что даже привычные средства успокоения: кино, книги – не помогали. Да и книги, и кино в кинотеатрах стали такими, что наполняли кровь адреналином. Проституция, наркотики, мафия… Оказалось, у нас это все есть чуть ли не в соседней квартире. То ли дело раньше: сказки, индийские фильмы… да хоть «Рабыня Изаура», которую толком посмотреть не дали. К счастью, ее позже повторили. Наверное, по просьбе трудящихся. Кстати, телевизионные программы становились гораздо разнообразнее, чем в годы моего лучезарного детства. Так, по вечерам папа обязательно смотрел программу «Прожектор перестройки», где вещали об экономическом расцвете после реформ и показывали счастливые лица тех, чья скотина давала огромные удои. После «Прожектора» выходили в эфир «600 секунд», где ведущий, брызгая от негодования слюной, описывал найденные расчлененные трупы, значащиеся в милицейских сводках, и толсто намекал на мафию, захватившую власть. Около полуночи пускали программу, где транслировали забастовки трудящихся и доставалось всем политикам (гласность!). Увы, программа пожила недолго: ее инициатору неизвестные всадили пулю между глаз.
Правительство провозгласило переход к рыночной экономике, очертив курс на демократизацию общества. Что стояло за этими словами, мало кто понимал. Демократию расшифровывали как полную свободу – делай «что хошь», а рынок – как «поезд в капитализм со звериным оскалом». А про гласность кричали и депутаты, и пьяный мужик, матюгающийся при детях. Мели, Емеля, твоя неделя! В основной своей массе люди понимали гласность примерно так же, как и Небодаева: «говорю что думаю», – забывая, что иногда полезно сначала подумать, а потом говорить.
Везде ругали правительство и Горбачева, все стали нервными; ежедневно происходило что-то из ряда вон выходящее.
В нашем подъезде скончалась бабулька: оказалось, ее, ветерана Великой Отечественной войны, обделили гуманитарной помощью, пришедшей из Германии. Вопиющая несправедливость поразила ее в самое сердце.
А у соседей через два дома от нашего прорвало канализацию, и целую неделю все нюхали амбре. Жители злополучного дома ходили с плачущими лицами по всем инстанциям, укоряя нас, соседей, за бездействие.
Как-то раз, проходя мимо недавно построенного «Полета», я лицезрела драку. В тот день в кинотеатре проходила «встреча общественности с религиозными деятелями города и области». Заодно показывали фильм «Воскресный день в аду». Не знаю, как связаны драка, встреча и фильм, но фильм, наверное, интересный.
В довершение ко всему в пристройке рядом с тем же «Полетом» открыли «цех по обработке мраморных и гипсовых плит». Пыль оттуда полетела такая, что пройти рядом без противогаза или на худой конец без респиратора было невозможно. Это обстоятельство, вероятно, кого-то так достало, что пристройку вскоре подожгли, и «Полет» не сгорел только чудом.
В головах людей путались понятия, принципы и, самое главное, – уничтожалась главная идея, ради которой существовала нация. Статью Конституции о «главенствующей роли КПСС» отменили, «мир во всем мире», о котором говорили девочки Саманта Смит и Катя Лычева, вроде настал: в США перестали видеть противника. Люди получили возможность сравнить жизнь ТАМ и ЗДЕСЬ, и увидели, что капитализм не так ужасен, а социализм не так хорош. Более того, многие захотели жить, как ТАМ, взяв за основу заманчивую идею – деньги. Но деньги шли в руки избранным…
Большинство людей уже не только не мечтали о светлом будущем, но и переставали верить в завтрашний день. Утонувшая советская подводная лодка с атомным реактором волновала людей куда меньше, чем цена на хлеб, пока незаметно, медленно, но верно поднимавшаяся каждый день.
Жить становилось все хуже. Кого винить?
Крайние нашлись. Это были те, кто жил рядом, но чем-то отличался: внешностью, языком, обычаями… национальностью, в конце концов.
Еще в 1987–1988 годах республики стало лихорадить. Советская дружба рушилась. Армяне устроили резню азербайджанцам: около трехсот азербайджанцев было зверски убито, среди них женщины и дети. Около 250 тысяч азербайджанцев, курдов, русских было изгнано из Армении. И даже когда Божья кара настигла армян, обрушив на них землетрясение, где погибло более 25 тысяч людей, армяне не вразумились. Но азербайджанцы не остались в долгу: в январе 1990-го они устроили двухдневный погром, соревнуясь с недругами в жестокости. Советская армия ввела в Баку войска.
Все чаще раздавались антисоветские лозунги в Тбилиси и выяснялись отношения в республиках Советской Прибалтики, все чаще можно было услышать разговоры о том, что нас, русских, притесняют. У кого родня, у кого просто знакомые, жившие в других республиках, стали вдруг возвращаться на родину. Они называли себя «беженцами» и с ненавистью рассказывали о ранее дружественных народах. В свою очередь, в городе подымалась волна неприязни ко всем «нерусским», а в первую очередь – к «лицам кавказской национальности». Они торговали на рынках дорогими фруктами и клеились ко всем русским девочкам. Наступила фаза тревожного ожидания, нарушаемая редкими вялыми стычками «на почве национальных конфликтов».
Стычки эти – обычно избиения поздних прохожих, у которых вдруг оказывался слишком загорелый цвет кожи или разрез глаз не соответствовал стандартному. Так, сильно избили одного щупленького мужчинку, который, как оказалось, с детства жил в нашем городе и усыновил вместе с женой десять русских детей.
– Смотри, шатаешься вечерами, – сказала как-то мама моему отцу, – а ведь ты мордвин. Нерусский!
Папа засмеялся:
– Я же паспорт всем не показываю. Внешность – русская, фамилия – тоже. Между прочим, мать моя – чистая русская, а отец – наполовину русский, наполовину мордвин. Так что я мордвин на одну четверть.
– Значит, я – на одну восьмую? – вмешалась я. – И в паспорте мне могут написать, что я мордвинка?
– Если ты этого захочешь.
– Тогда я захочу.
– Еще чего! – набросились на меня оба родителя. – Не вздумай! И другим поменьше болтай.
Я радовалась, что вызвала их раздражение на себя, и, естественно, ничего не болтала, искренне волнуясь за папу, когда он пропадал дольше обычного. Повод для волнения был: один раз папу ударили по лицу и вырвали сумку из рук, едва он вышел из проходных стройтреста. В тот день выдавали зарплату.
Впрочем, избить могли и просто так, «пар выпустить». Потому что почти прекратились по городу обычные милицейские патрули: бензин милиции выдавали по норме, и сверх нее взять было неоткуда. Телефонные автоматы на улицах в лучшем случае просто не срабатывали, в худшем – тоскливо краснели с вывороченными трубками.
В автобусах ездить можно было, только заткнув уши: все ругались. Жители правого берега Волги злились на жителей левого берега за то, что на их комбинате зарплаты были выше, а в магазины продукты завозили чаще; бюджетники завидовали тем, кто работал в коммерческих структурах; покупатели презирали торгашей… Все тихо ненавидели москвичей, которые ввели у себя особые карточки на товары. Правда, мой отец оказался удивительно шустрым: он изготовил две такие карточки, и они с мамой съездили в Москву, привезя продукты, как в былые времена. Папа подделывал потом также и наши провинциальные карточки, выписывая черной тушью слова «рис», «греча», «сахар» на полях тисненой бумаги в книжке покупателя. Мама, впервые восхваляя его талант, вырезала эти квадратики, чтоб никто не догадался, из какого они места, и отоваривала при возможности в магазине.
Последние годы школьной учебы
В 1990 году я получила два диплома: один о неполном среднем образовании (при этом мы странным образом, пропустив восьмой класс, закончили девятый), а второй – об окончании художественной школы. На выпускном в последней я плакала, расставаясь с одноклассниками. Алина уехала учиться дальше в другой город.
В общеобразовательной школе обучение было продолжено. Варя тоже каким-то чудом сдала экзамены и была зачислена, как и я, в десятый класс.
Родители совершенно перестали меня контролировать. Вопрос «где взять деньги и что поесть» стал для них наипервейшим. Свободное время они посвящали кто чему: папа – посиделкам с друзьями, мама – просмотру мыльных опер. Также мама увлекалась всевозможными сеансами экстрасенсов по телевизору: один из них гипнотизировал и излечивал от рака и энуреза, а другой – заряжал энергетикой мази, кремы и трехлитровые банки с водой (к слову, оба проходимца потом подались в депутаты).
В город понаехали всякие религиозные секты, организовывая зрелищные собрания. Мама, беря Дашу, посещала и их. Один раз я сходила с ними, но с корыстной целью: какие-то свидетели Иеговы раздавали бесплатно библии. Сколько человек, столько и библий. Мне досталась. Вообще-то, я примерно знала, что это за книга. У бабушки такая была. Оттуда она выписала мне, как только я научилась читать, молитву «Отче наш» и сказала, что это помогает во всех случаях жизни. Кроме этой молитвы у бабушки в тетради была еще куча молитв, каждая для своего случая: от зубной или головной боли, от пьянства, от сглаза и порчи. Что-то там про алтын-камень и буйный ветер. Потом надо было плеваться, говорить «Чур меня!» и что-то куда-то закопать. Я решила, что мне хватит одной молитвы – «Отче наш». Иногда помогала.
Я всегда любила читать. Читала все что под руку попадалось, читала за столом, в ванной, ночью под одеялом. Меня ругали за это, а я не могла оторваться, если попадалась интересная книга. Библию, взятую у иеговистов, прочитала неосознанно, как набор историй древнего мира. В Евангелии нашла что-то необъяснимое, что заставляло возвращаться к этой книге. Но в юности обычно есть другие заманчивые вещи…
После школы я и Варя часто гуляли по Набережной.
Надо еще сказать, что такое Набережная в нашем городе. Это длинная улица вдоль реки Волги, вальяжно пролегающей через весь город, где тусуются разного рода граждане. В будни по утрам это старички и старушки, наслаждающиеся прелестным пейзажем; днем это молодые мамаши с колясками и детьми, передвигающимися самостоятельно; по вечерам же, часов где-то после семи, а особенно по выходным по Набережной прохаживаются люди, желающие познакомиться, иногда – не только с противоположным полом. (В одном из выпусков областной газеты «Золотое кольцо» сообщили, что это очень даже нормально, что «гомосексуализм глубоко заложен в личности человека»! А мы жили и не знали, что есть такое слово на букву «г», и за это «г» в СССР реально сажали в тюрьму!) Впрочем, к нам все это не относилось, как не относилась и другая категория граждан, внезапно появившаяся на самой людной улице в одно сентябрьское воскресенье 90-го. Это были дядечки и тетечки, преимущественно пенсионеры и студенты, с «активной гражданской позицией». Сначала прошла группа манифестантов с требованием отправить правительство в отставку и завершить экономическую программу «500 дней»; следом за ними выбежали семь человек, размахивая флагом СССР, который тут же, на берегу, сожгли. Вечером того же дня по Набережной ходила, крича «Россия – русским!» компания пьяных, бритых наголо людей. Все завершилось приездом милиции, которая появилась через час после того, как все разошлись.