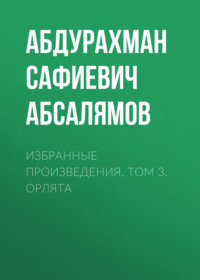
Избранные произведения. Том 3
– Мунира моя, какая радость! Звонил папа…
– Папа? Откуда?
– Из Москвы. В восемь вечера будет здесь. Надо приготовиться к встрече и успеть на аэродром.
– Папа уже летит на самолёте! – не верила своим ушам Мунира. – Какое счастье!
Суфия-ханум быстро переоделась, накинула белый передник. Мунира, собрав в охапку книги и бросив их в угол дивана, засуетилась.
– Мама, поставь, пожалуйста, утюг, я сама буду гладить папину пижаму.
– А чем же мы его угостим? – забеспокоилась Суфия-ханум. – Он ведь любит горячие перемячи[12] с катыком.
– А у нас нет катыка…
На лице Муниры было столько огорчения, что Суфия-ханум не могла удержать радостного смеха.
– Я купила целую банку.
– Какая ты у меня догадливая! Дай я тебя поцелую.
В половине восьмого за ними пришла райкомовская машина, и они помчались на аэродром.
В просторном зале ожидания было несколько человек. За стеклянной перегородкой сидел дежурный.
– Скажите, пожалуйста, самолёт не опаздывает? – спросила Мунира.
– Самолёт не казанский трамвай, он не может опоздать, – сказал дежурный с простодушной усмешкой.
До прибытия самолёта оставалось несколько минут. Суфия-ханум и Мунира вышли на площадку. Долгий июньский день ещё не кончился. Дул свежий ветерок, пахло бензином и полынью.
Наконец показался самолёт. Сделав круг над аэродромом, он пошёл на посадку. Суфия-ханум и Мунира не отрывали от него глаз.
Из кабины вышла какая-то женщина, за ней мужчина в штатском и только третьим – Ильдарский. Высокая, статная фигура в военной форме, открытое обветренное лицо, смелый взгляд и широкий с вмятинкой подбородок были так близки, так дороги Суфии-ханум, что она тут же забыла всю горечь долгой разлуки.
– Мансур… – прошептала она ему одному слышным голосом, – милый, как мы тебя ждали!
Дорогой, в машине, все трое говорили разом, и больше всех, конечно, Мунира.
– Постой, Мунира, – улыбнулась Суфия-ханум, – не выкладывай папе все свои новости сразу. Пусть и для дома что-нибудь останется.
Мансур Хакимович не сводил счастливых глаз с дочери. За те два года, что он не видел её, Мунира изменилась неузнаваемо. Перед ним вставало далёкое прошлое: восемнадцатилетняя порывистая Суфия и он сам в годы кипучей молодости…
– Пусть говорит, Суфия, пусть.
Улыбаясь и любовно посматривая на жену, он гладил руку дочери.
Когда через полчаса Мансур Хакимович появился на пороге кухни в тёмно-синей пижаме, Мунира чуть не уронила вилку, которой доставала из кипящего на сковородке масла перемячи. Перед ней уже стоял не тот чуточку суровый и официальный с виду подполковник, которого они встретили на аэродроме, а её очень домашний, очень родной папа.
– Что, иль отца не узнала, Мунира?
– Если бы ты знал, папочка, как тебя сразу изменила эта пижама… – ласкалась девушка к отцу. И вдруг спохватилась: – Ой, мои перемячи, наверно, подгорели!..
Чай пили долго. Отец с удовольствием ел свои любимые пироги, обмакивая их в катык, похваливая дочь. Суфия-ханум радовалась, что наконец-то в сборе их маленькая дружная семья.
Ильдарский встал, распахнул окна, выходившие на озеро.
– Помнишь, Мунира, строки Тукая?
И он на память прочёл известные строки поэта:
Говорю среди татар: молодёжь, настал твой час!Ты – наука, ты – прогресс, ты – насилья смелый враг,Признак ясного ума – жаркий блеск пытливых глаз!Я приветствую друзей и предсказываю так:Будет не один из вас в море жизни водолаз.Тучи тёмные уйдут, хлынет благотворный дождь,Землю оживит добро, в юном сердце зародясь,И шумящая вода горы освежит не раз.Гром свободы прогремит, потрясая мир, для вас.И святой кинжал борьбы засверкает, как алмаз!– Ты не только Тукая, и Такташа когда-то хорошо знал, – говорит Суфия-ханум, став рядом с мужем у окна. – Помню, как ты декламировал его «Мукамая».
– Да, было дело… Признаться, стал забывать. Пожалуйста, достань мне, Суфия, сборник Тукая и Такташа. А сейчас сыграй-ка, дочка, «Кара урман».
Мунира охотно исполнила любимую песню отца. Облокотясь на рояль, задумчиво слушал он старинный напев «Дремучего леса». Перед ним оживала его юность… Простой деревенский парень, с неразлучной тальянкой, он распевал этот «Дремучий лес» на сонных улицах захолустной татарской деревни, будоража чуткий сон девушек. Далеко позади осталась пора, когда даже случайная встреча молодого человека с девушкой считалась позором и нередко кончалась трагедией для обоих.
Играя, Мунира то и дело посматривала на отца. А он ничего не замечал, уйдя в свои мысли.
– Папа, о чём ты задумался? – не выдержала она и, быстро перебирая пальцами, перешла на весёлый мотив другой любимой песни отца – о девушке, которая потеряла свои золотые башмачки.
Вдруг Мансур Хакимович, сделав неловкое движение, тихонько охнул.
– Что, больно? – тревожно обратились к нему в один голос жена и дочь. – Давайте лучше посидим.
Они втроём устроились на диване, Мунира – между отцом и матерью.
– Ну, как с твоими планами на будущее, Мунира? – спросил Ильдарский.
– Я уже, папа, писала тебе.
– Ты спрашивала, как я смотрю на медицину. Что же, не могу не уважать эту науку. Врачи не раз выручали меня. Так уж и быть, признаюсь тебе, что не так давно один военный хирург мастерски удалил из твоего отца около двух дюжин осколков…
Мунира представила себе уже немолодого хирурга в накрахмаленной белой шапочке. Конечно, спокойствие его было чисто внешнее, когда он вступил в единоборство со смертельной опасностью, угрожавшей её отцу…
– Я был бы только рад, если бы и моя дочь спасала жизнь людей, – сказал Ильдарский и, взглянув на сосредоточенную Муниру, понял, что его слова пришлись дочери по душе.
– Значит, и ты, папа, за медицину? – Мунира радовалась, что нашла поддержку у отца в этом давно мучившем её вопросе.
И она разоткровенничалась с отцом. Ещё совсем девочкой она задумывалась над тем, почему человек так обидно мало живёт. Всякие там слоны, щуки, попугаи вдвое, втрое долговечнее людей, гениальных существ, научившихся пересоздавать саму природу. Она всегда верила, что наука обязательно найдёт пути продления человеческой жизни никак не меньше чем до ста лет.
– И при коммунизме этого добьются! – взволнованно закончила Мунира.
Отец и мать обменялись взглядами, которые без слов говорили, как они гордятся своей дочерью.
– Ну, Суфия, теперь нам жить и жить.
– Уж конечно, Мунира нам первым продлит жизнь, – сказала Суфия-ханум, любуясь зардевшейся Мунирой.
На другой день, когда Мунира вернулась из школы, отец предложил ей навестить вместе с ним старых друзей – Владимировых.
На улице Парижской коммуны Мансур Хакимович остановился. Это была бывшая Сенная, знаменитый «Печан базары», самое страшное место старой Казани. Здесь торговали сеном, мебелью, кожей, обувью, мылом. Правоверные казанские торгаши, ожиревшие от безделья, с утра до вечера злословили и издевались над прохожими, устраивали облавы на крыс, гонялись за бешеными собаками. В своё время тут не только женщине с открытым лицом – даже мужчине, одетому не по шариату, было небезопасно пройти; их обливали грязью, срывали головные уборы и даже угрожали смертью за вероотступничество. Это был тёмный мир прожжённых татарских националистов и турецких шпионов.
Теперь только кое-где разбросанные низкие старые здания, когда-то служившие складами и лавчонками, напоминали о былом. Но и тех с каждым годом становится всё меньше и меньше, – их сменяют светлые многоэтажные дома.
– Меняется Казань, – довольный, проговорил Мансур Хакимович и зашагал дальше.
Через десять минут они уже были у дверей квартиры Владимировых.
Константина Сергеевича в Казани не было. Его на днях перевели в Челябинскую область, на партийную работу. Это было новостью даже для Муниры. Но Капитолину Васильевну и Таню они застали дома. Когда закончились расспросы и дружеские воспоминания, Мансур Хакимович спросил:
– Ну а ты, Танюша, куда думаешь после десятилетки?
– В медицинский пойду, – уверенно ответила Таня.
– А почему же не в театральный, не в педагогический, например? – допытывался Ильдарский, улыбаясь.
– Я бы, Мансур Хакимович, не прочь и в театральный, и в педагогический, – в тон ему с улыбкой ответила Таня, – но в моём распоряжении всего одна жизнь. Кроме того, медицина имеет две одинаково важные стороны – мирную и оборонную.
– Это, пожалуй, дельно, – сказал Ильдарский. – Слышишь, Мунира?
– У Тани всегда и всё умно, папа. У неё и характер – кремень, – с искренним восхищением подхватила Мунира.
Домой они пришли, когда уже начало смеркаться.
– Где вы пропадали? Уже два раза самовар подогревала, – встретила их ласковым упрёком Суфия-ханум.
Наутро Мансур Хакимович улетел в Москву. Всего два дня побыл он с семьёй. Мунира не могла даже проводить его до аэродрома – был экзаменационный день. Суфия-ханум долго, напряжённо, до рези в глазах, смотрела вслед удаляющемуся самолёту, который опять увозил её мужа. Не думала она в эту минуту, что её Мансур летел навстречу бурям и грозам, которые уже собирались над нашей родиной.
12
В напряжённые дни экзаменов волновались не только выпускники, но и их родители.
Днём Рахим-абзы Урманов улучил минуту и прямо из цеха позвонил Саджиде-апа, чтобы справиться о делах Галима. Она с радостью сообщила, что сын опять получил «отлично» и теперь готовится к завтрашнему, последнему и самому ответственному экзамену.
Была уже полночь. Накрапывал тёплый дождик, когда Рахим-абзы вернулся с завода.
– Что так поздно, атасы?[13] – спросила Саджида-апа.
– Акбулатов с Егоровым налаживали новое приспособление, ну, мы и задержались.
– Этот ваш непоседа Акбулатов, оказывается, беспокойный человек – ни тебе, ни Галиму не даёт покоя. Вот экзамены идут, а Галим всё с ним какие-то задачки решает…
– Не горюй, мать, пусть унесёт с собой побольше дружеского тепла, – сказал Рахим-абзы, – оно согреет сына, когда ему достанется круто.
– А тепло материнского сердца разве ему не нужно? – Саджида-апа с глубоким укором посмотрела на мужа. – Там не будет матери, чтобы пожалеть его…
«Там» – это море, морская школа, куда Галим скоро уйдёт из семьи. Саджида-апа не может спокойно произносить эти слова и поэтому старается не употреблять их. Так ей легче. Она никак не привыкнет к мысли, что её мальчик уже взрослый человек. Ей всё кажется, что Галиму трудно придётся без её помощи и защиты.
Рахим-абзы заметил печаль в глазах жены.
– Не надо, мать, – сказал он мягко. – Не вечно птенцу сидеть в гнезде. Приходит пора и самому летать.
– Ладно уж, ладно, старик… Вы, мужчины, никогда не поймёте материнского сердца, – со вздохом сказала Саджида-апа. – Ты, наверно, проголодался?
Пока Саджида-апа своими проворными руками накрывала на стол, Рахим-абзы, усевшись в качалку и надев очки, просматривал газеты. Как бы поздно он ни приходил домой, он не ложился спать, не прочитав «Правды». Старый казанский рабочий, штурмовавший в Октябрьские дни Зимний дворец, не прочь был лишний раз вспомнить, что читает большевистскую «Правду» с Октябрьской революции.
Отметив красным карандашом то, что его особенно заинтересовало в статьях и заметках, он обернулся к жене:
– Как Галим сдал математику, не спрашивала?
– Говорит, на «отлично».
– Ну, это ты по телефону уже говорила. Мне интересно, не было ли каких-то неожиданностей. На экзаменах такие вещи случаются. Однажды я сам попал в неловкое положение. Собрались мы, значит, на заключительную беседу по истории партии. Руководитель кружка ставит вопрос о Временном правительстве. А я хоть и сам участвовал в свержении правительства Керенского, а как спросили меня в упор да вроде как на экзамене – и растерялся спервоначалу. После, конечно, собрался с мыслями.
А вот до сих пор не могу забыть, как тогда мне было неприятно.
– Пуганая утка задом в озеро пятится[14], – улыбнулась Саджида-апа.
Из комнаты Галима послышались тихие звуки мандолины.
Рахим-абзы насторожился.
– Утомился, верно, отдыхает… – Саджида-апа поставила на стол тарелку токмача[15]. – Ведь с полудня сидит, не вставая с места.
– Ничего, пусть трудится. Что усвоил в молодости – высечено на камне, что в старости усвоил – написано на льду.
Перед сном Рахим-абзы зашёл к Галиму.
– Как дела, сынок? – спросил он, поглаживая морщины на лице.
Рахим-абзы отметил про себя, что за эти недели лёгкий румянец сбежал со щёк сына, но в его взгляде чувствовалась выдержка, смешанная с задором.
Галим спокойно, без тени прежнего хвастовства рассказал отцу о своих успехах. И эта упорная работа над своим характером понравилась Рахиму-абзы не меньше, чем отличные оценки, полученные Галимом на экзаменах. «Растёт, подымается человек», – подумал Рахим-абзы и, довольный сыном, поделился с ним последними заводскими новостями.
– Кто старается, тот и в камень гвоздь забьёт, – сказал под конец Рахим-абзы. – Нам вот не пришлось в молодости учиться, как вашему поколению. Нужно ценить это счастье. Ладно, сынок, не буду мешать. Работай, а завтра, как сдашь, позвони мне.
– Обязательно, папа. Спокойной ночи.
Рахим-абзы вышел лёгким шагом, а Галим всё ещё стоял у окна и думал, и его не покидало нахлынувшее вдруг чувство, что за этот год отец стал ему ещё роднее, дороже, внутренне ближе.
Взгляд его случайно упал на листок бумаги, приклеенный над столом. Против девяти предметов, по которым нужно было сдавать экзамены, стояло «отлично». Не было отметки лишь против «литературы».
По мере того как двигалась работа, перед глазами один за другим вставали герои произведений любимых писателей. Сегодня в своей маленькой комнатке Галим словно запросто беседовал со всеми ними, и они улыбались ему, как доброму знакомому. Как, интересно, они будут вести себя завтра, в экзаменационном зале?
Галим поднялся, распахнул настежь окно. Донёсся далёкий протяжный гудок паровоза из-за Кабана, из Ново-Татарской слободы, где когда-то любил бродить молодой Горький.
День вступил в борьбу с ночью, всё ещё пытавшейся удержать за собой половину неба, хотя на другой уже рождалась заря. Где-то посредине небесного свода, точно древние батыры в сабантуй, сошлись они мериться силами, схватившись длинными красноузорчатыми полотенцами за пояса. Наконец побеждённая темнота отступила, и весь видимый горизонт пропитала нежная утренняя синь.
Галиму уже не хотелось приниматься за работу. Уснуть он тоже не мог. Усиленно работал мозг, и на душе было неспокойно, – будто он в чём-то виноват, будто засунул руки в карманы и стоит в стороне от самого важного.
Мир переживает тревожные дни. Гремят орудия в Западной Европе, американские самолёты в Китае бомбят мирные города. Гудит беспощадное пламя, умирают люди. Всё это далеко от родины, занятой созиданием социализма. Но можно ли успокаиваться тем, что это далеко?..
Утром Саджида-апа заглянула было к Галиму, но пожалела будить сына, спавшего – показалось ей – так крепко и безмятежно. Она постояла у его изголовья со скрещёнными на груди руками, чуть вздыхая. Потом подошла к широкому окну и подняла шторы. «Пусть его свет разбудит», – подумала она и тихонько вышла из комнаты.
Галим сразу проснулся.
– Который час, мама? – спросил он, торопливо одеваясь.
– Девятый, сынок.
Накинув на загорелые широкие плечи полотенце, он вприпрыжку побежал мыться.
«Ростом уже почти с отца, – залюбовалась Саджида-апа сыном. – Пусть сопутствует ему всю жизнь счастье».
Не успел Галим сесть к столу, на котором стоял кипящий самовар, как зазвонил телефон. Галим поднял трубку.
– Ляля? Здравствуй. Что? Проконсультировать тебя? Как дан образ Пугачёва в «Капитанской дочке»? По телефону? Спор возник? Кто ещё у вас? Наиль?
Галим сказал, что скоро будет в школе. Он снова сел за стол, но есть не хотелось.
– Мама, не сердись, я после поем.
И Саджида-апа, поняв состояние сына, не стала его удерживать.
– Позвони, как сдашь. И папа просил.
Галим поцеловал мать и устремился к выходу.
Он пересёк мост через Булак. Небо было чистым, улицы полны солнца. По радио пела народная артистка Гульсум Сулейманова. Все куда-то спешили. У каждого было своё дело. Быть может, сегодняшний день и для других был таким же незабываемым, ответственным днём, как для Галима.
Навстречу ему выбежала Ляля. В руке она держала блокнотик не больше спичечной коробки. О «Капитанской дочке» уже не было речи.
– Галим, скажи, пожалуйста, что хотел Чехов сказать своим «Человеком в футляре»?
И Ляля зачастила, не договаривая ни одной фразы. На её похудевшем лице чёрные глаза светились серьёзнее, чем обычно.
В коридоре толпились десятиклассники.
Вдруг всё стихло. Открылась дверь класса, где должен был состояться экзамен. За стол, накрытый голубым бархатом, один за другим сели директор с красной сафьяновой папкой под мышкой, члены комиссии, учителя. Пётр Ильич положил перед собой тетрадь со списком учеников класса. Выпускники уселись за парты.
Тишина. Только члены комиссии перешёптываются между собою.
Пётр Ильич надел очки и стал просматривать список. Тридцать шесть юношей и девушек напряжённо следили за остриём его карандаша. На ком остановится, кого вызовет первым?
– Гайнуллин, Ильдарская, Урманов… – вызывал Пётр Ильич.
– Гайнуллин, номер вашего билета?
– Семнадцать.
– Ваш, Ильдарская?
– Пятнадцать.
– Урманов?
– Двадцать два.
– Садитесь, не волнуйтесь. – Только эти слова сказал Пётр Ильич, но молодые люди, хорошо понимавшие своего учителя, расслышали в них ещё другое: «Сегодня и я держу вместе с вами большой экзамен и убеждён, дорогие ученики, что вы не подведёте меня».
Хафиз, как всегда, был спокоен, только лоб наморщил. А Галим немного нервничал. Карандаш в его руке чуть дрожал, выдавая волнение. Мунира в нетерпении покусывала губу.
– Не торопитесь, Ильдарская. У вас есть время подумать, – сказал Пётр Ильич.
– Я уже подумала. Разрешите.
И Мунира так смело посмотрела на Белозёрова, что он сказал:
– Отвечайте.
Мунире достался билет о Лермонтове. Она, волнуясь, горячо рассказала о связи романтических и философских мотивов поэта с его гражданским протестом, с его любовью к народу.
Члены комиссии остались довольны и письменной работой Ильдарской на тему «Моральный облик молодого человека в романе «Как закалялась сталь».
По просьбе комиссии Мунира прочла отрывок из поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин»…
– Хорошо, хорошо, – повторил Белозёров, радуясь за свою воспитанницу.
Хафиз Гайнуллин отвечал, как всегда, неторопливо, основательно. Он не вспыхивал, как порох, подобно Мунире, а продумывал каждое слово, точно взвешивая его на ладони. Только когда Хафиз по памяти стал цитировать речь Павла Власова на суде из горьковской «Матери», у него заблестели глаза.
Галим Урманов забеспокоился, что ему придётся отвечать сразу же после Муниры и Хафиза, – он не был столь красноречив, как они. Конечно, он знает содержание, значение и художественные особенности «Слова о полку Игореве», но…
Если бы было можно, он бы ещё немного подумал, но его время истекло. Пётр Ильич, волнуясь, поправил очки.
– Урманов, пожалуйста.
Галим впоследствии смутно помнил, что и как он отвечал, он не мог бы сказать также, почему он так волновался на этом последнем экзамене.
Когда всё закончилось, он, чуть пошатываясь, вышел двором в сад. Окутанная туманом земля, казалось ему, помягчела. Всем своим существом он ощутил, что отныне позади осталось что-то такое, что никогда больше в жизни не повторится.
Вскоре его окружили товарищи. Первой его поздравила, пожав руку, Мунира:
– Молодец! Хорошо отвечал.
Из-за её спины показалась Ляля.
– Ребята, а у меня «хорошо», «хорошо»! – воскликнула она. Затем повернулась к Галиму: – Я позвонила и Рахиму-абзы и Саджиде-апа. Сюенче[16] мне.
Выпалив всё это одним духом, Ляля запела и закружилась с присущей ей неукротимой подвижностью.
13
Много бывает в молодости незабываемых событий, но среди них особенно памятен день окончания школы.
Когда нынешние выпускники учились в младших классах, этот день виделся таким далёким. Но вот он уже и прошёл… Сданы все экзамены. А вечером они хотя и снова все собрались в школе, но теперь уже не на ученическое или комсомольское собрание, и тем более не на урок. Они собрались сюда на выпускной вечер.
Двери классов были настежь раскрыты, и одно это уже создавало впечатление необычности. В пионерской комнате покрытые ослепительно белыми скатертями столы были заставлены сладостями, фруктами, закусками. Вперемежку с ними красовались вазы с цветами.
Отдельно, на маленьком столике, торжественно лежала сафьяновая директорская папка с аттестатами и грамотами.
Напротив, в восьмом «Б», стало как в уютной квартире: там появились диваны и рояль.
Ляля и Мунира были распорядительницами вечера. Уж они-то рассадили всех как надо: Хаджар рядом с Наилем, около себя Ляля оставила место для Хафиза, рядом с Мунирой – для Галима. Между ними сидели любимые учителя: Пётр Ильич Белозёров, Мухутдин-абы, Эндже-апа, директор школы Курбан-абы.
Курбан-абы тепло и, как показалось юношам и девушкам, немного грустно посмотрел на их счастливые лица и негромко начал свою речь. Он пожелал выпускникам радостного будущего и напомнил, что, где; бы они ни учились, где бы ни работали, они всегда должны быть достойными сыновьями и дочерьми своей великой родины, пламенными борцами за идеи Ленина.
Глядя на своих, сегодня таких неугомонно весёлых питомцев, с которыми пришла ему пора расставаться, Пётр Ильич думал начать своё выступление примерно так: «Мои родные орлята, скоро вы станете орлами… Вырастут у вас могучие крылья, и полетите вы во все края советского отечества…» Но Белозёров боялся слишком возвышенных слов, поэтому он выразил свои чувства иначе:
– Теперь вы идёте сдавать главный экзамен – экзамен на славную жизнь, на готовность к борьбе за коммунизм. Знайте, дорогие мои, он будет гораздо тяжелее, чем школьные экзамены. На вашем пути встанут иногда трудности, которые могут вам показаться неодолимыми. Однако я уверен, что в конце концов вы их преодолеете и с честью сдадите свой главный экзамен, как его сдавали ваши старшие товарищи – большевики.
От учеников выступили Хафиз и Мунира.
Затем Курбан-абы стал вручать аттестаты и грамоты: Хафизу Гайнуллину, Наилю, Галиму, Мунире и другим.
После торжественного ужина Мунира села за рояль. Откуда-то из другой комнаты вылетела Ляля, успевшая сменить платье на балетную пачку. Она кружилась так легко, что Хафиз не мог не сказать Наилю, что он был тысячу раз прав, прозвав её «дочерью ветра».
Потом хором пели любимые песни, танцевали. А перед тем как разойтись по домам, пошли в свой класс. Всё здесь было знакомо, до вмятинки на классной доске, до небольшой трещинки в окне. Но сегодня они впервые вошли сюда взрослыми людьми. Они перебрасывались шутками, а в глазах была грусть: они навсегда прощались со своим классом.
Галим не раз слышал, что считанные дни проходят быстро. Но только в последнюю неделю он на собственном опыте узнал, что это действительно так. Перед расставанием с Казанью он решил обойти все памятные места. Он уезжал в военное морское училище. Впереди невиданные до сих пор города, порты, корабли, моря… Душой Галим был уже там. Но разве он может забыть свой Кабан, где впервые он плавал на самодельных плотах, широкую могучую Волгу, где, может быть, возникла его мечта стать моряком! Разве позабудешь Адмиралтейскую слободу, куда он бегал удить рыбу, рощу Малихи, где можно было послушать кукушку, речонку Ишку, шорох молодого дубняка в Дубках, Маркиз, где он загорал на белом песке, Казанку, где бегал на лыжах, школу, своих любимых учителей, товарищей! Перед отъездом Галим решил попрощаться со всеми любимыми местами, но не успел выполнить и половины задуманного, как подошло воскресенье – последний день перед отъездом, день, когда у него должны были собраться все его лучшие друзья.
Ильяс Акбулатов пришёл первым, ровно в шесть.
В доме Урмановых он был своим человеком и, как только явился, принялся помогать Саджиде-апа. Разлив красное вино в графины и расставив их на столе, чуть отступил назад и, лукаво подмигивая Галиму, полюбовался своей работой, – всё на месте!..
Опять прозвенел звонок.
Саджида-апа засеменила к двери.
Пришла Мунира с огромной охапкой цветов.
– Проходите, проходите в комнату, – приговаривала Саджида-апа.
Она забросала Муниру вопросами об отце, о здоровье матери. Та едва успевала отвечать.
Молодёжь начала собираться.
Услышав голоса гостей, вышел из своей комнаты Рахим-абзы. В честь торжества он надел белую рубаху, подпоясался чёрным шёлковым поясом, побрился до блеска на щеках, подправил усы.