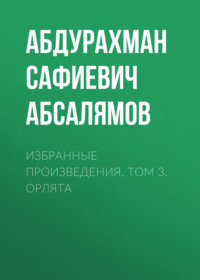
Избранные произведения. Том 3
Мунира, почувствовав, что Галим остался позади, с сожалением вздохнула. Она пошла тише, и тут поравнялся с ней Кашиф. От долгого ожидания он сильно продрог, и короткая пробежка не согрела его.
– Что с тобой? – заглянув ей в глаза и не поняв их выражения, спросил Кашиф.
Девушка отбросила тяжёлую, упавшую на грудь косу.
– Ничего. Шла быстро, ну и задохнулась, – подавила девушка разочарование.
– Бежим дальше. О чём ты задумалась, Мунира? – нетерпеливо спросил продрогший Кашиф.
– Я?.. Просто так. – Девушка подошла к крутому обрыву. – Спустимся, Кашиф?
Кашиф удивлённо посмотрел на Муниру: «Нет, она сегодня какая-то странная» – и, поняв её вопрос как шутку, сказал:
– Пока у меня только одна голова на плечах. К тому же внизу могут быть камни.
Полные губы Муниры презрительно сжались.
– Никаких камней там нет. Ты просто боишься.
Она стремительно повернулась и, энергично оттолкнувшись палками, очутилась на краю обрыва.
– Мунира, стой, что ты делаешь! – закричал Кашиф.
Но было поздно: лыжи Муниры, с которыми она, казалось, срослась в эту минуту, уже отделились от земли. Кашиф закрыл рукой глаза… Когда он открыл их, ему показалось, что Мунира лежит внизу без движения.
«Разбилась!» – решил Кашиф и, не зная, что предпринять, беспомощно топтался на месте. Потом, забыв, что он на лыжах, резко повернулся, потерял равновесие и упал. А когда поднялся на ноги, увидел, что со стороны парка к нему приближаются двое лыжников. Это были Галим и Хафиз.
– Помогите, помогите! – вопил Кашиф слезливо-умоляющим голосом. – Она разбилась…
– Галим, за мной! – И Хафиз пошёл искать более отлогий спуск.
Галим на секунду остановился, – снизу слабо раздался не то стон, не то подавленный смех. А может, это ему просто почудилось? Как бы там ни было, он не пошёл кружным путём, как Кашиф, и не стал искать пологого спуска, как Хафиз. Он поднялся на гребень обрыва и на большой скорости устремился вниз чуть в стороне от лыжни Муниры.
Ловко приземлившись, сделав резкий поворот, от чего под лыжами вздыбился вихрь снега, он остановился около девушки.
Мунира всё ещё лежала, делая вид, что ушиблась.
Но, увидев, что перед ней не Кашиф, а Галим, она быстро вскочила на ноги. Её карие глаза с заиндевевшими ресницами приняли строгое выражение.
– Ты ушиблась? – встревоженно вырвалось у Урманова.
– И не думала.
Она капризно вскинула голову и, оттолкнувшись сразу обеими палками, быстро пошла навстречу Хафизу, который во весь опор мчался к ним. У Галима было ощущение человека, которого ограбили и над которым вдобавок посмеялись.
Напряжённая тревога перед спектаклем, потом радость успеха, а главное – ссора с Галимом заняли всё внимание Муниры. Она ходила словно в тумане. Так бывает, когда с высокой горы смотришь вниз. Облака плывут под ногами, меняя и скрадывая естественные очертания окружающих предметов. Но мало-помалу пережитое стало терять свою остроту. И когда всё более или менее стало на обычное место, Мунира поняла, что с матерью творится что-то неладное. Суфия-ханум осунулась, побледнела, веки припухли.
Как-то войдя внезапно на кухню, Мунира увидела, что Суфия-ханум, сделав вид, будто нагнулась за чем-то, украдкой торопливо вытирает слёзы. Мунира прильнула к матери и с тревогой принялась выспрашивать.
– Мама, ты что-то скрываешь от меня? Плохие известия от папы?..
Суфия-ханум выпрямилась, обняла дочь и, ласково поглаживая ладонями её виски, наконец призналась:
– Ты должна взять себя в руки… Наш папа ранен…
– Ранен? – переспросила Мунира шёпотом и широко открытыми глазами посмотрела на мать. – Когда? Почему ты мне сразу не сказала?
– Пришло письмо…
Сомкнувшись, длинные ресницы мгновенно притушили глаза Муниры.
– Не надо, свет очей моих… Мы должны быть твёрдыми.
– Дай, мама, письмо. Я хочу сама прочесть… Папа… папа…
Всё закружилось, письмо выпало из рук Муниры. Суфия-ханум мягко поддержала её за плечи.
А к вечеру Мунира почувствовала себя совсем плохо.
– Мамочка, душенька, – сказала она, – я, кажется, заболеваю.
Когда пришла Таня, Мунира в забытьи бредила, путая русские и татарские слова:
– Папа, милый… син исан бит[8]… Папа, я так испугалась за тебя… Атием, багрем, син кайда?[9]
Поздно ночью, уложив Таню на диване, Суфия-ханум сама примостилась у изголовья дочери.
Сколько вот таких мучительных, бессонных ночей провела она за восемнадцать лет материнства! У Суфии-ханум Мунира была единственным и тем более дорогим ребёнком. Когда Мунира болела – а она часто болела в детстве, – Суфия-ханум не знала ни сна ни покоя.
И теперь, глядя на пылающее лицо дочери, она поневоле вспоминала те давно прошедшие тревожные годы и, так же как и тогда, гладила разметавшиеся тёплые волосы дочери, целовала её руки, поправляла подушку, одеяло, без конца меняла мокрое полотенце на лбу.
Уже синело в окнах, когда дыхание Муниры стало наконец ровнее, и Суфия-ханум, устроившись тут же на стульях, уснула чутким, неглубоким сном.
…После уроков пришли Ляля, Хаджар, Хафиз и Наиль.
Ляля разделась раньше всех и, первой вбежав к Мунире, со всей своей непосредственностью крепче обычного обняла и расцеловала её. Хафиз взял её горячую руку в свои, лихорадочно подбирая слова, но, обычно легко дававшиеся ему, они сейчас ускользали от него. Впрочем, его порывистое рукопожатие и полный участия взгляд говорили яснее любых слов.
– Спасибо, Хафиз.
А когда на неё упало сияние добрых синих глаз Хаджар, Мунира сердцем поняла, что в трудный момент друзья не дадут ей почувствовать одиночества. Хорошо, когда есть такие друзья!..
7
До начала занятий Галим одиноко стоял у окна и глядел на улицу. Его там, собственно, ничто не интересовало, – просто он не находил себе места. Как тяжело потерять доверие ребят! Всё оставалось будто по-прежнему: с ним разговаривали, при встречах подавали руку, и в то же время почти у всех, даже у беззаботной Ляли, была скрытая обида на Галима. То, что даже Ляля показывает ему своё недовольство, было особенно тягостно. Ей только бы радоваться, что Галим не пришёл на репетицию, – выпал случай блеснуть своим талантом. Разве было бы столько шума и грома, если бы она просто исполнила намеченную для неё с самого начала женскую роль?
За аквариумом послышались шаги. Судя по голосам, приближались Наиль и Ляля. Они не видели его.
– Пожалуйста, не защищай его! Наши бойцы отстаивают границы родины, умирают в далёких северных снегах, а он… – Тут голос Ляли сорвался, и несколько слов, сказанных сдавленным голосом, не дошли до слуха Галима. – Я бы поняла, если бы это сделал чужой нам человек… – снова раздался её голос.
Но тут Ляля свернула по коридору направо. Ушёл за ней и Наиль.
На щеках и на лбу Галима проступили яркие, почти малиновые пятна. Он понял, что речь шла о нём.
И вдруг – как это бывает с очень самолюбивыми и потому особенно упорными в своих заблуждениях людьми – упала внутренняя преграда, мешавшая ему видеть себя со стороны. «Что я наделал!..»
Вечером поступок Галима разбирали на комитете комсомола. Единогласно было решено вынести вопрос на общее собрание.
Придя после заседания комитета домой, Галим сидел за ужином не в силах проглотить ни куска. Рахим-абзы нервничал, ждал, когда Галим заговорит. Но тот продолжал молчать, облокотившись на стол. Тогда Рахим-абзы сам начал объяснение.
Сегодняшний разговор с директором школы серьёзно огорчил Рахима-абзы Урманова. Он обвинял не только сына, но и себя. Конечно, родители наравне со школой отвечают за воспитание детей, как-никак Галим большую часть времени проводит в семье.
Рахим Урманов отдавал добрую половину своей жизни заводскому мастерству и был одним из тех суровых лишь по виду тружеников, которые не считают нужным опекать каждый шаг сына, если тот успешно переходит из класса в класс и растёт на глазах у родителей здоровым советским юношей. В противоположность Рахиму-абзы мать Галима, Саджида-апа, женщина кроткого нрава и мнительного характера, любила сына несколько беспокойной любовью, смешанной с постоянным страхом, как бы чего не случилось с её чересчур резвым мальчиком.
Урмановы жили по тому укладу, который устоялся в коренных рабочих семьях. Рахим-абзы любил, наработавшись в своём механическом цехе, часок-другой помастерить ещё что-нибудь дома: то возьмётся шлифовать нож для придуманной им мясорубки, то придёт ему в голову переставить бра на стене, чтобы свет при чтении зря не пропадал, то вытачивает замысловатую буфетную дверцу, – всегда найдётся какое-нибудь домашнее дело.
Галиму нравилось следить за уверенными движениями терпеливых пальцев отца, из-под которых вдруг выходили интересные поделки. С годами он тоже приохотился к этой работе: чинил не только матери, но и всем соседям электрические утюги, паял кастрюли, проводил звонки, менял перегоревшие контакты. Он легко перенимал рабочую хватку отца, а Рахим-абзы находил время водить мальчика по своему цеху, рано приучая его постигать хитрости ремесла. Бывало, Галим, в коротких штанишках, с голыми, в цыпках, коленками, играет в бабки или удит пескарей на Кабане, а отец позовёт мальчика с собой в механический и показывает ему:
– Смотри, как люди работают. Помни, что без смекалки ничего не добьёшься. Настоящий мастер, если возьмётся сделать вещь, делает её так, чтобы лучше на всём свете не было. Инструментальщик, сынок, всё равно что артист или художник.
В июне-июле, в сухое лето, Рахим-абзы любил в отпуск прокатиться с семьёй вниз по Волге на пароходе. Эх и раздолье было Галиму! Выбегай себе от Казани до самой Астрахани хоть на каждой пристани, только запоминай названия.
Можно было взбежать на капитанский мостик и с восхищением наблюдать за каждым поворотом головы, за каждой командой капитана в белом, с сияющими пуговицами, кителе.
– Хочешь быть капитаном? – спрашивал кто-нибудь из матросов.
– Хочу, – отвечал Галим не задумываясь.
– И командовать хочешь?
– Хочу, – так же не задумываясь отвечал Галим.
С годами постоянное общение со взрослыми, практическая сметка, умение мастерить наложили на характер Галима отпечаток ранней самостоятельности. В играх он был вожаком. Тогда особенно прорывался его горячий нрав.
– Ты почему побил мальчика? – строго спрашивал отец.
Галим отвечал без колебаний:
– Пусть не обманывает. Надо быть честным.
Однажды подростки (среди них был и Галим) собрались около дровяных сараев, над крышами которых летали разномастные голуби. Вид у ребят был самый воинственный: загорелые, в широких соломенных шляпах, подпоясанные ремнями, на ремнях – пугачи и самодельные пистолеты, а у Галима даже блестящий монтекристо и кинжал.
Обычно дети играли в Чапаева. Они мечтали быть храбрыми, как Чапаев и Фурманов. Галим первым бросался в «бой». Порой ему здорово попадало, но он никогда не жаловался. Саджида-апа расстроенно охала, а Рахим-абзы говорил поощрительно: «Что ж, батыра без ран не бывает».
Но в этот раз, глядя из открытого окна на маленьких «заговорщиков» и уловив из отрывочных слов, что они «пираты» и собираются «напасть» на левый берег Кабана, Рахим-абзы насторожился. Откуда бы это?..
В тот же день он нашёл под подушкой Галима растрёпанную книжку. Открыл: «Палач города Берлина». Проглядел страниц двадцать и отложил.
– Да это же яд! – сказал он Саджиде-апа, следившей за ним пугливо расширенными глазами. Стало ясно, откуда на Кабане появились «пираты». Возможно, таких книг Галим прочитал немало.
После этого случая Рахим-абзы стал следить за тем, что читал Галим, хотя сам и не получил в своё время систематического образования. Стал больше покупать книг, и не только политическую и техническую литературу, как было до сих пор, а предпочтительно художественную. Тонкие книжки Галим не любил, просил «потолще», чтобы дольше не расставаться с героями. Книг на полках Галима прибавлялось, но Рахима-абзы точила одна тайная мысль, которую он и решился напрямик высказать писателям, когда те опять приедут к ним на завод. Рахим-абзы не мог примириться с тем, что до сих пор – так сказали ему в магазине – не написано ещё романа о Ленине. А ему очень хотелось бы подарить такой роман сыну и сказать: «Здесь всё правда, читай, Галим, набирайся ума и богатырского духа, учись у Ильича жить для блага родины и человечества».
На родительских собраниях Галима хвалили за твёрдость характера: скажет – сделает; говорили, что всё даётся ему легко. Не скроешь, родительскому сердцу приятно было слышать это. Но вместе с тем кое-что и не нравилось Рахиму-абзы. Что значит – всё даётся легко? В жизни-то ведь ничто не даётся без усилий. Вот закружила парню голову лёгкая «шахматная» слава, он и запутался. А выпутаться мешают самолюбие и самоуверенность. Да, надо что-то сделать, чтобы это покрепче дошло до его сознания.
Рахим-абзы правильно понимал создавшееся положение, но как лучше помочь Галиму, ещё не уяснил себе.
И сейчас, торопясь поскорее всё узнать и исправить, Рахим-абзы, разговаривая с сыном, горячился, а тот не находил ещё в себе силы говорить начистоту. Это было мучительно для обоих.
– Ну, говори, сын, что ты там наделал, за что тебя сняли с руководства школьной спортивной командой? Почему ты пошёл против товарищей и чуть не сорвал классу спектакль? – нетерпеливо повторял Рахим-абзы. – Почему ты не пошёл на репетицию сразу же после того, как тебя позвали? – упорно добивался ответа Рахим-абзы.
Галим молчал. Когда Хафиз пришёл к нему первый раз, Галим понял это так, что товарищи упрашивают его, и решил, что пойдёт на репетицию лишь после того, как за ним придут ещё раз, и тогда уже сыграет так, чтобы все ахнули. Однако никто за ним не пришёл, и он сам пошёл в школу. Но, услышав случайно в раздевалке о решении обойтись без него, он хлопнул дверями, а поздно вечером, после долгого блуждания по заснеженным улицам, взобрался по пожарной лестнице наверх и оттуда смотрел, как веселились его товарищи в ярко, по-праздничному освещённом зале. Он видел, как Мунира с разгоревшимися щёками улыбалась Кашифу, как взлетали её тяжёлые косы.
Именно сейчас, когда отец, сдвинув густые, как и у сына, брови, гневно расхаживал по комнате, ожидая от него немедленного, прямого ответа, Галима сковал стыд, – отец, конечно, высмеет его мелкое, пусть уже остывшее чувство уязвлённого юношеского самолюбия.
Галиму было одновременно тяжело и жалко, что отец терзался по его вине, он порывался и всё же не мог заставить себя рассказать отцу всё то, что он перечувствовал и передумал за последние дни, оценивая по совести свои поступки, отгородившие его от коллектива.
– Когда будет общее собрание? – спросил Рахим-абзы после долгого молчания.
– На днях.
– А если тебя исключат из комсомола, что будешь делать? Думал об этом?
Галим потупил голову.
– Разве можно шутить такими серьёзными вещами, как товарищество, комсомольская дружба? Эх, Галим, Галим! Вспомни, народ-то что говорит: одно полено и в печке не горит, а два и в степи не погаснут! Я так верил в тебя… Даже не поделился со мной. Утаил от отца.
Галим не нашёл что сказать, но в его круглых, широко, по-отцовски, расставленных глазах светилось искреннее чувство самоосуждения, и Рахим-абзы понял, что разговор не пройдёт впустую.
8
Накануне комсомольского собрания Мунире снова стало хуже.
– Ты меня не уговаривай, я всё равно пойду, – сказала Мунира пришедшей навестить её Тане. – Я ведь тогда, на лестнице, погорячилась, сказала лишнее, подлила масла в огонь. И скажу об этом.
– Но ведь ты же сама говорила, что сердита на него.
– Это другое дело. Я и сейчас на него зла. Но некоторые предлагают как минимум исключить его из комсомола.
Увлечённые разговором, девушки не слышали, как вошла Суфия-ханум.
– Мунира, радость, телеграмма!..
– От папы? Давай скорее.
Одним дыханием Мунира прочла: «Здоровье улучшается ждите письмо целую тебя Муниру Мансур».
Мунира уткнулась в телеграфный бланк, целуя его.
– Папа жив! Мамочка, милая!
Мать и дочь улыбались друг другу сквозь слёзы облегчения.
– Мама, а может, тебе слетать к папе?
– Полечу, полечу, – глядя вдаль, отвечала Суфия-ханум, словно не Мунире, а своим мыслям.
Когда Мунира вошла в зал, собрание уже началось. Она села между Наилем и Хаджар. Ляля кивнула ей из президиума. Мунира отыскала глазами Галима, – он забился в угол.
Секретарь комсомольского комитета Зюбаиров знакомил собрание с «делом» Урманова.
– Товарищи, – сказал он в заключение, – только недавно пленум ЦК ВЛКСМ потребовал, чтобы комсомольцы в учёбе, как и в общественной работе, были примером для несоюзной молодёжи. Ленинский комсомол с честью выполняет это решение. Но есть у нас ещё отдельные комсомольцы, относящиеся к своему званию безответственно. Два дня назад мы разбирали на заседании комитета дело комсомольца Галима Урманова, сейчас известное всем вам. У членов комитета осталось впечатление, что Урманов не полностью сознаёт свою вину. Поэтому мы вынесли его вопрос на обсуждение общего собрания.
Казалось, в речи секретаря для Галима не было ничего нового. Почти те же слова он слышал от него и на комитете. Тем не менее Урманова охватило столь мучительное, причинявшее почти физическую боль, чувство, какого он в жизни ещё не испытывал.
Не раз Галим участвовал в рассмотрении так называемых конфликтных дел комсомольцев, однажды он голосовал за исключение из рядов комсомола. Но тогда Галим не думал, что разбор личного дела на собрании может так сильно потрясти человека.
Хафиз Гайнуллин предоставил слово Урманову.
Став потемневшим лицом к собравшимся, он смотрел на товарищей, болезненно ловя на себе их осуждающие взгляды.
Сгорая от стыда, он не готовился к речи, не подбирал заранее фраз.
– Не знаю, как это получилось… Я люблю шахматы. В город приехал мастер. Мне захотелось сыграть с ним. Ну, возомнил о себе… – Он говорил хрипло, отрывисто, с напряжёнными паузами.
– Громче! – крикнули одновременно несколько голосов.
Галим откашлялся и поднял голову, но смотреть прямо в глаза товарищам у него не хватало мужества. Он ощутил, как предательски дрожит его левая рука, и отвёл её назад, сжал пальцы в кулак. «Как заяц», – мелькнуло у него, и в горле сразу пересохло. Хотел было рассказать, что случайно услыхал разговор Ляли с Наилем и что этот разговор подействовал на него сильнее, чем все другие беседы с ним, но воздержался, испугавшись упрёков в мелочности характера. От охватившего его волнения ему стало нестерпимо душно, и он подумал, что лицо у него сейчас, верно, красное и жалкое, как у преступника.
Галим обернулся к президиуму и, как ни был подавлен собственными переживаниями, заметил характерное лишь для Петра Ильича движение рукой по лбу, которое сделал его любимый учитель, словно хотел защититься от неожиданного ожога.
«Какую боль я ему причиняю!» – подумал Галим и, заставляя себя говорить возможно более твёрдо, сказал:
– Я совершил большую ошибку… Поступил не по-товарищески, не по-комсомольски… Даю слово исправиться и никогда не повторять… – Галим умолк.
Хафиз, подождав немного, спросил официально:
– Закончили?
– Закончил, – ответил Галим и вернулся нетвёрдым шагом на своё место.
Первым взял слово маленький комсорг из девятого «А», и Галим удивился силе голоса этого тщедушного юноши.
– Товарищи, когда мы с вами сидим в тёплой комнате, – говорил он, – в Карелии наши отцы и старшие братья упорно дерутся против фашистов. Может быть, нам тоже придётся защищать нашу родину. Представьте себе такой случай: командир приказывает Урманову идти в разведку, а Урманов решает, что ему интереснее вступить в бой. Что же тогда получится? Может ли командир положиться на Урманова? К сожалению, нет, – твёрдо закончил он.
– Урманов хочет быть моряком! – крикнул кто-то.
– А моряки разве не советские воины? – отпарировал оратор. – Раз ты не оправдал нашего доверия, мы вправе не верить тебе, Урманов. Тяжело это тебе? Тяжело! – Он взмахнул кулаком. – Но пеняй на себя.
Затем выступила хмурая девушка из десятого «Б».
– Сегодня мы разбираем конфликтное дело Урманова. Товарищи, можно ли поверить Урманову? Нет, нельзя. В первый ли раз срывается Урманов? Нет, товарищи, не в первый раз. В восьмом классе он разбил окно, в девятом… раскачал лодку и чуть не утопил меня в озере Кабан. Я тогда так испугалась…
– Расскажите, как именно. Это весьма интересно, – раздался насмешливый, ломающийся мальчишеский басок.
– Товарищи, может ли быть комсомольцем Урманов? – продолжала девушка, не обращая внимания на вспыхнувший где-то смех. – Нет, товарищи, не может.
– Хафиз, дай мне слово, – быстро сказала Мунира.
Галим вздрогнул и, не поднимая головы, исподлобья посмотрел на неё.
Мунира встала и прислонилась к стене. На её бледном лице всё яснее проступала строгость. Ища, с чего начать, она покусывала нижнюю губу.
– Вина Урманова перед коллективом велика. Но я также не хочу скрывать и собственную вину. – Мунира отбросила через плечо упавшую на грудь косу и продолжала уже твёрже: – Правда, меня не вызывали на комитет, потому что я болела. Но я должна сказать, что в проступке Урманова есть и моя вина. – И Мунира рассказала о своём столкновении с Галимом на лестнице. – Иногда мне не хватает выдержки. Я срываюсь. Значит, у меня ещё нет твёрдого характера. А бесхарактерный человек – человек неполноценный.
– Ближе к делу! Ты об Урманове! – задорно вклинился маленький комсорг из девятого «А».
– Я вас не прерывала, – мимоходом бросила Мунира и сразу перешла к тому, что лёгкие успехи в шахматах вскружили Урманову голову, что он считает себя чуть ли не гением, не признаёт ни товарищей, ни коллектива. – Это совершенно непростительно для комсомольца. На нашем собрании мы должны сказать об этом Урманову открыто и прямо.
В зале со всех концов послышались возгласы:
– Правильно!
– Он запятнал нашу школу!
– Он позорит звание комсомольца!
Мунира терпеливо переждала, пока затихнет шум. Потом, повысив голос – в нём зазвенела напористая убеждённость, – продолжила:
– Всё же я не могу согласиться с теми, кто предлагает исключить Урманова из комсомола. Нет, это было бы совершенно непростительное для нас решение. Вопрос о будущей судьбе человека нельзя решать так легко и просто. Галим Урманов отличник. Хороший общественник. Мы все это знаем. Отец его – старый рабочий. Я не верю, чтобы в такой семье мог вырасти человек с мелкой душонкой. Мы должны дать Урманову возможность исправиться. Я – за выговор.
После Муниры выступил Наиль. Обводя ряды умным взглядом серых, навыкате, глаз, скупо жестикулируя по-девичьи тонкими руками, он говорил со свойственной ему выдержкой:
– Мы все дружили с Галимом. Неужели для него наша дружба ничего не означала, что он так легко, словно лист ненужной бумаги, растоптал её? Ведь дружба – одно из самых святых чувств человека. Кто из нас не знает о дружбе Маркса и Энгельса, – весь мир озаряется светом их дружбы. Мы – комсомольцы – учимся дружить у наших великих вождей. И никому не позволим запятнать нашу дружбу!
Ляля Халидова начала горячо с первых же слов. В её речи, может, не хватало последовательности, но пафоса хватило бы на десятерых ораторов. Ей даже аплодировали.
– Неужели Урманов думает, что наши советские чемпионы мира не считаются с дисциплиной, со своим коллективом? – сказала она при всеобщем одобрении. – К тому же Урманов мечтает стать моряком! А моряку особенно нужны и дисциплина и чувство товарищества.
Хаджар снова направила собрание в более спокойное русло. Она говорила мягко, прочувствованно, с трудом находя такие слова, которые были бы справедливы и в то же время не убивали в Галиме надежду на исправление. Хаджар острее всех чувствовала, как нуждается он в поддержке. Казалось, ей самой становилось больно от тех жёстких слов, которые ей всё же пришлось высказать в его адрес. Её слушали в полной тишине.
Хафиз мельком посмотрел в сторону одиноко сидевшего Галима. Комсорг Гайнуллин не считал себя сердобольным. Но разве мог он скрыть от себя, что ему по-человечески жалко своего самого близкого друга, друга детства? Ещё совсем небольшими, тайком от родителей, они переплывали вместе Волгу неподалёку от Маркиза, вместе отбивали атаки мальчишек с чужих улиц, из года в год, из класса в класс шли они вместе и стали друг другу роднее братьев. Однако же, или, вернее, именно поэтому, Хафиз не мог простить ему пренебрежения к коллективу.
Это он, Хафиз, предложил перенести вопрос о Галиме на общее собрание. Это он, Хафиз, и на комитете, и здесь не стеснялся резких выражений, которые больно задевали Галима.
– Если бы проступок Галима был случайным, – сказал он, – может, и не стоило бы его обсуждать на общем собрании. Но мы и раньше знали о некоторых высокомерных замашках, фактах недисциплинированности Галима. Знали и прощали потому, что не придавали этому достаточно серьёзного значения, и это было с нашей стороны медвежьей услугой. Не знаю, как вы, товарищи, как Галим, но я лично на этом собрании понял, что недостаточно хорошо работал как комсорг.

