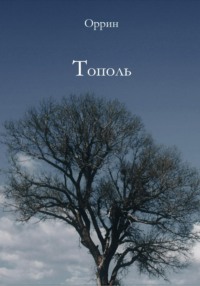
Тополь
– А тех мальчиков, – прибавил Бран, – мы заставили сознаться самим. Ратуша присудила их родителям выплатить свечнику триста монет. Вместе мы могли многое.
– Но многое смогли и по отдельности, – перебил я Брана, пользуясь случаем вернуться к предыдущему разговору. – Смотрю, ты обзавелся собственным дворцом.
– Для этого пришлось поработать. Мой отец, как ты знаешь, был лентяем и неудачником. (Голос верховного лекаря не дрогнул ни на миг, произнося это). Он не сделал ничего, чтобы умножить успех деда, и своими делами преуспел лишь в осквернении его памяти. Как я уже сказал, то, что лечение – мое будущее ремесло, я осознал еще в детстве. Но отец и не думал способствовать моему становлению во врачевании. Он ненавидел свой труд и не владел им по-настоящему, поэтому любые разговоры о лекарском деле в свободное время выводили его из себя. Мне пришлось уйти из дому и стать помощником одного из его соперников. Поначалу я врачевал мелких ремесленников, знатные горожане, сильно уважавшие моего деда, столь же сильно не уважали отца, и свое разочарование в нем распространили на меня. Говоришь, у тебя нет трудностей со сном, а для меня возможность спать целую ночь, – редкая удача. Человеческое нутро – хрупкая вещица, Арф, и, что наиболее паршиво, в темное время суток оно имеет обыкновение портиться чаще всего. В те первые годы мне множество раз приходилось пробираться к лежанке больного в метель на ощупь. Я зашивал раны и вправлял суставы при дохлом свечении лучинки. Но однажды мне удалось сделать так, чтобы она сменилась лучшими лампами. Дочь Брохвела страдала приступами удушья, и владыка пригласил из соседней земли известного врачевателя. По дороге к дому правителя этот знаменитый целитель неожиданно спохватился, что не имеет при себе щипцов. В тот самый день недужная стала сильно задыхаться. Чтобы не терять времени, он решил приобрести их у ближайшего местного лекаря. Им оказался я. Едва пришелец переступил мой порог, в моей голове сложился замысел. Иноземец, по счастью, был довольно моложав. Я объяснил, что оставил нужный предмет на чердаке, где занимался опытами. Время было позднее, и я попросил его забраться со мной – с двумя светцами22 искать легче. Когда мы начали обшаривать чердак и уже наткнулись на заветный сундучок, меня вдруг «осенило», что ключ от него как назло остался внизу. Лекарь взвыл от моей нерадивости и потребовал, чтобы я немедленно вернулся с ключом. Это мне и было нужно. Я тогда ютился в бедняцком доме – на чердак приходилось забираться по приставной лестнице, поэтому перед тем, как лезть наверх иноземцу пришлось снять плащ и сумку с охранной грамотой. Я преспокойно накинул их на себя, отодвинул лестницу и задул лучину. Теперь, для того чтобы спуститься, моему нежданному гостю пришлось бы прыгать вниз в полной темноте (я дал ему огрызок щепы, который бы долго не протянул) с высоты шести локтей. Ночная работа сыграла мне на руку: я легко, как кошка, прошмыгнул к выходу, тихо запер дверь, заскочил в повозку пришлого целителя и приказал гнать.
Менее чем через осьмую свечи я уже был у Брохвела. Меня незамедлительно провели к его дочери. Судьба в тот вечер играла мне на руку – как раз недавно я отрабатывал навыки на отпрыске соседа-обувщика со схожим недугом. Когда мы с приезжим знахарем забрались на чердак, мне удалось прихватить со своего стола склянку с особым сосновым отваром, приготовленным для соседского сынка. Едва переступив порог дома владыки, я распорядился принести кувшин горячего молока и теперь спокойно приступил к осмотру. Случай оказался довольно рядовым, однако риск все же присутствовал. Кувшин быстро доставили. Я извлек из плаща склянку и смешал ее содержимое с молоком. Девочка была сильно испугана, но я нашептал ей на ухо всякую сладкую ерунду, что обычно болтают детям, и она согласилась пить. Вокруг нас находилось только несколько помогавших слуг и владыка в дальнем углу залы, о присутствии которого я почти позабыл, однако весь остальной дом столпился в дверном проеме. Они не смели войти, но не в силах были и удалиться. Среди толкавшихся там было несколько сановников, знавших моего отца и, скорее всего, знавших меня. Однако никто из них не собирался предпринимать что-либо, пока оставалось неясным, чем завершится дело с дочкой. В те пару горстей, что канули после того, как она приняла отвар, решалась не только ее жизнь, но и моя. Если бы приступ прекратился, мне бы простили обман и наградили, если бы ей стало хуже, я тут же сменил бы каморку на подвал ратуши. Как ты догадываешься, Арф, судьба избрала первый путь. Когда дочь владыки задышала ровно, и ее унесли, мне бросились пожимать руки, но я, предупреждая всех, объявил, что не тот, за кого меня принимают и что, тот, кого они ждали, заперт у меня на чердаке. Вот тогда на доску легла последняя костяшка. Дело в том, что окружение Брохвела в то время разделилось на сторонников и противников сближения с иными землями Кимра. От нескольких врачуемых мною стряпчих я знал, что в последние дни противники сближения стали брать верх, и появление человека, рожденного на Утесе и проявившего себя знатоком в нужный час, могло бы стать решающим доводом в споре.
Услышав мои слова, вельможи замешкались, все кроме одного. Хранитель порядка, советник Килох выделился из общей кучи, похромал ко мне и заговорил так, будто выражал общее мнение.
«Владыка, – обратился он к правителю Утеса. – Вы должны бы осудить этого молодого человека. Он заточил у себя известного в землях Кимра целителя и приехал к нам под видом своего пленника. Вы должны бы осудить его, но прошу вас, не делайте этого. Его вина не вызывает у нас ни тени сомнения, однако подумайте, чем был вызван этот поступок: желанием насолить более успешному собрату по врачеванию? Внезапной возможностью блеснуть своим умением перед высшими людьми Утеса? Нет, ни в коем случае. Я убежден, что этот юный лекарь пошел на такой отчаянный шаг, потому как жаждал помочь тяжкой хвори дочери своего владыки и, чувствуя в себе силы сделать это, боялся довериться врачевателю-иноземцу. Да, быть может, справился бы и тот, но разве сумел бы он подойти к делу с таким рвением и любовью, как этот молодой утесец, чьего деда мы все вспоминаем с почтением. Я полагаю, что с этого часа с не меньшим почтением мы должны отнестись и к внуку. С почтением не только к его способностям, но также к смелости и честности. Именно честности, ибо он пользовался личиной другого лишь столько, сколько было нужно для выполнения его благородной задачи, а после сразу же сознался в подлоге. Простите мне мою дерзость, владыка, но если вы осудите этого преданного Утесу юношу, то осудите и меня вместе с ним».
Бран остановился. Он потянулся к столу и налил себе немного вина. Нынешний верховный лекарь никогда не говорил попусту и теперь целью его повествования были далеко не только воспоминания и хвастовство. Я пытался прочесть замыслы друга детства, а меж тем его рассказ нравился мне все меньше с каждой песчинкой безучастно полнящей нижнюю чашу размашистых часов над камином.
– Выпад Килоха удался всецело, – продолжил Бран. – Моя выходка подарила ему блестящую возможность разгромить соперников. Каждый из сановников пожал мне руку, а владыка обнял, как сына. То, что я остаюсь в его доме в качестве семейного лекаря, было уже делом решенным. Заезжего врачевателя всадники той же ночью извлекли с моего чердака. Ему слегка подровняли мечами пряди, чтобы унять возмущение, и снарядили в обратный путь. На следующий день хранитель порядка пригласил меня в ратушу. Вначале говорили о вещах общих, и быстро выяснилось, что мы с ним схоже смотрим на будущее Утеса. Затем перешли к сути. Как я и догадывался, он понял, что мне знакомы его дела. И как догадываешься ты, Килох предложил и дальше способствовать моему продвижению в обмен на поддержку: теперь я жил у Брохвела и располагал возможностью замечать то, что нужно было заметить.
– И ты согласился, – мрачно заключил я.
– Да, Арф. Когда один обращает внимание на то, что другой обзавелся дворцом, это всегда подразумевает, что первому хочется знать, как второй им обзавелся. Я ответил тебе как. К тому же тебя наверняка волновал вопрос, чем я занимался эти годы.
– Как давно ты женат?
Я спросил нарочито бесстрастно, будто не был знаком с супругой лекаря, и тут же пожалел об этом, ощутив, что Бран понимает, почему я задал вопрос именно так.
– Через семь недель как раз будет год и день, – ответил лекарь. – У нас с Адерин есть странная мысль – устроить в это число небольшое празднество. Могу ли я надеяться, что ты почтишь наш дом своим присутствием?
– Можешь.
– Ты, по всей видимости, гадаешь, почему моей жены не было с нами за ужином? Она гостит у отца.
– А, живчик-глашатай. Как его здоровье?
– Хватит на нас двоих, – улыбнулся Бран. – Адерин – его единственный ребенок, и, как тебе известно, ее жизнь он ценит куда выше собственной, поэтому я не в силах отказывать ему время от времени видеться с дочерью.
– Похоже, он даже слишком дорожит ею, что так долго не отпускал замуж.
– Просто ей было сложно подыскать достойного жениха.
Я устремил свой взгляд на Брана и догадался, что тот тоже смотрит мне в глаза. До этого верховный лекарь лишь разминался, но теперь уже почти неприкрыто кольнул меня.
– Кстати, – бросил Бран. – Тебе, пожалуй, будет занятно знать, что наш брак сочетал твой собрат.
– Глин?! – встрепенулся я, еще не вполне осознав всю важность произнесенных слов. – Впрочем, я уже слышал о нем.
– И, вероятно, негусто, – предположил лекарь.
– Мне сказали, что он прослужил на Утесе три года и скончался от удара. Ты был знаком с ним?
– Мельком. По делам нелечебным наши пути почти не пересекались. Что же до здоровья, Глин появился на Утесе, когда я уже стал верховным лекарем, поэтому ко мне за помощью обратиться он не смог бы. Его врачевал один из моих подопечных.
– А чем он болел?
– Поначалу ничего особенно не наблюдалось. Он часто и тяжело простужался, что водится за многими приезжими, но, как выяснилось впоследствии, его тело скрывало и больший недуг: у Глина было никудышное сердце, а его врачеватель, к прискорбию, обнаружил это слишком поздно.
– Хочешь сказать, на его смерть не повлияли никакие внешние обстоятельства?
– Напротив, – возразил Бран, – житейские невзгоды в таких случаях, безусловно, ускоряют развитие болезни.
– Его притесняла Управа?
– Управа смотрела на его служение сквозь пальцы.
– Десятки лет чтецы не допускаются на Утес, и вдруг Глин – желанный гость, не странно ли?
– Странно, что этому удивляешься ты, чей хороший знакомый находился в опале десять лет, а потом по прихоти владыки в одно утро был пожалован званием и деньгами. С Брохвелом случаются припадки суеверия, друг мой, и в их власти он вполне способен на непоследовательность.
– Мне намекнули, что покойного мучила совесть, – вернулся я к здоровью предшественника.
– Насколько мне известно, доказанных убийств, воровства или насилия за ним не числилось. Однако, – добавил вдруг Бран, – у него не заладилось со служением. Это было заметно даже мне. Сперва читальня занимала, но через три года ее порог переступал лишь сам чтец.
– Любопытно, как он вел себя на чтениях, – произнес я, мысля вслух.
– Если это вопрос ко мне, Арф, то тут я тебе не помощник, – холодно ответил верховный лекарь.
– Что же ты даже ни разу не заглядывал? – притворно удивился я.
– Ни в щель, ни в скважину, Арф. Я стараюсь избегать бессмысленных занятий.
– И ко мне не придешь? – спросил я напрямик.
– Для меня достаточно говорить с тобой как с другом, чтецы же мне не требуются.
Я вздохнул и встал со своего кресла.
– Тогда позволь спросить по-дружески, – сказал я, подойдя к очагу, – как ты объясняешь то, что теперь происходит на Утесе?
– На Утесе, как тебе известно, постоянно что-нибудь происходит.
– Ты знаешь, о чем я, Бран. О сером бедствии.
– Серая болезнь неизлечима и чрезвычайно заразна, друг мой. К нам она пришла, по всей видимости, из-за моря. Чтобы преградить путь недугу владыка повелел отделить подгорный участок города укреплением, прозванным впоследствии Изгородью, и собрать там всех зараженных, допустив вход лишь лекарям. В данное время я и мои помощники облегчаем страдания несчастных обитателей этого участка вплоть до окончания лечения. Вот мое объяснение происходящему. Полагаю, единственно возможное объяснение.
– До окончания лечения, – повторил я за лекарем, – а тебе бывает жаль их до окончания лечения?
На кратчайший миг Бран промедлил, но тут же в языках каминного пламени я разглядел на его бледном лице ухмылку.
– Да, Арф, в какой-то мере я жалею их.
– В той же, в какой жалел ту девочку, дочь Брохвела?
– Понимаю, к чему ты клонишь, – произнес лекарь ровно. – Тебе претит, что я не гнушался лжи, выбиваясь в люди?
– Претит, Бран?! – взорвался я. – Ты не просто не гнушался лжи, ты построил всю свою жизнь на ней! Неужели ты не понимаешь, что это путь к гибели?!
– Отнюдь, – до жути веселым голосом возразил лекарь. – Это путь к процветанию. Тебе известно, почему я никогда не принимал россказней о Кариде? Потому что они утверждают, будто существует некая постоянная истина в виде Вышнего и его уроков, но прелесть жизни в том, что никакой истины нет. Тот мир, в котором мне и тебе приходится копошиться всякий раз, как мы открываем глаза, просыпаясь, основан не на истине, а на лжи. Мы впитываем ее суть с молоком матери, мы начинаем лгать с раннего детства, уже малышами понимая, как много выгод таит обман, сперва не умеючи, затем совершенствуясь в этом ремесле, и верх держит тот, кто достигает мастерства.
– Ты воспеваешь семя, из которого растет зависть, ненависть, боль, насилие…
– Именно, именно, Арф. Но беда в том, что иного семени для мира не нашлось. Люди могут продолжать жить, пока один обманывает другого и самого себя, ибо ложь – корень жизни, корень здоровой борьбы за нее. Когда человек перестанет лгать ближнему, ближний оболжет и уничтожит его, когда все перестанут лгать всем, остановится борьба, и люди просто лягут и помрут, Арф, потому что не смогут разделить работу без подчинения, потому что не смогут урвать куска, зная, что тем обрекут на голод соседа. Когда же человек перестанет лгать себе, он осознает, что даже если обустроит теплый уголок и добьется всех вожделенных удовольствий, ему никогда не миновать точки, на которой все прервется. Его наводнит черное леденящее отчаяние, и он быстренько захлебнется им. Самое смешное, что семя истины, которое воспеваешь ты, – тоже ложь, утверждающая, что якобы есть некто, желающий спасти нас от нас самих, если мы сдюжим просить об этом вопреки собственной извращенной воле, стремящейся к мукам и тлению. Однако этот некто, Карид, – лишь плод воображения Братства чтецов, являющихся, как и все прочие, слугами лжи. Но заметь, ваша ложь – самая опасная, поскольку она учит бессмысленному добру, лишающему человека способности обороняться. Ты и твои союзники – большие враги людям, чем, такие как я.
– По-твоему, любовь вредна?
– В высшей степени. Этот разрушительный самообман сродни болезни. Чем больше любишь, тем больше жертвуешь собой, но в то же самое время ты заражаешься и корыстью жертвенности, полагая, что умаляясь ради ближнего или вашего Карида, возвышаешься духом, хотя попросту губишь себя.
– Если любовь – ложь, то, несомненно, ложно и все сущее, но тогда обманчивы и любые цели, зачем же жить?
– Чтобы бороться и торжествовать, пока можешь.
– И ты торжествуешь, господин верховный лекарь: никогда ты еще не распоряжался участью стольких больных, но, боюсь, меня тебе не излечить, ведь следуя твоим собственным рассуждениям, ты обманываешься, как и все остальные.
Бран поднялся и подошел ко мне.
– Обязательно, например, я обманываюсь нынче, полагая, что спорю о важных вещах, хотя для меня наша беседа, скорее, просто приятная болтовня в дружеском обществе. Однако время позднее, и завтра нам обоим на службу, так что мне, пожалуй, пора проводить тебя к выходу.
– Благодарю, – остановил я его жестом. – Выход я найду сам.
VII
Я нагнулся и провел рукой по камню, который долго искал среди поля его многочисленных собратьев. Рыхлая грубая поверхность глыбы была мокрой – с неба все еще капало. Ночью водяной поток словно вошел в раж, бичуя собой безмолвную землю, однако теперь после рассвета его размах сменился какой-то будничной суетной моросью. Теплота первых осенних недель, будто уходящая навсегда женщина, обещала вернуться совсем скоро, но по глазам читалось, что она уже не придет никогда. Место, где я находился, располагалось почти сразу за крепостной стеной на юге. Предки-воители тщательно вырубали южный лес, грозящий подойти близко к укреплениям, дабы не быть застигнутыми врасплох, но столетия спустя предоставленное себе зеленое племя подобралось к самой реке, так что между ним и стеной осталась узкая полоса голой земли. А тем временем в разрушающейся кладке, поглощенной густыми зарослями мха, около полувека назад образовалась прореха, через которую без особого труда мог просочиться любой не слишком упитанный обитатель Кимра. Многие жители Утеса знали о ней и частенько пользовались. Знали о ней и в Управе, но вместо того, чтобы восстановить стену, советники решили не только оставить лазейку, но и расширить ее, впрочем, перекрыв проем вратами. Причиной столь странного шага послужило старое городское кладбище – последний приют в сердцевине Утеса под боком Ратушной площади закончил прием желающих, а вернее, переполнился подобно суме мытаря в ярмарочный день, а поскольку стены Утеса не давали свободно дышать живым, то уж тем более не на что было рассчитывать и почившим. Так пристенный участок в излучине реки начал засеваться свежими надгробными камнями. И теперь по прошествии полувека, вдыхая бодрящий слегка кисловатый дождевой воздух, я стоял над одним из них и продолжал смотреть на безжалостную и неопровержимую надпись, свидетельствовавшую о том, что где-то под его основанием рассыпаются пылью останки некогда печалившихся и радовавшихся, рыдавших и хохотавших, скучавших и любивших, ошибающихся и находящих выход, спотыкающихся и встающих на ноги, отчаивающихся и надеющихся людей, бывших моими родителями.
Мать покинула нас, когда мне едва исполнилось три. В моих воспоминаниях сохранилось лишь смутное чувство теплоты и нежности и неясные очертания светловолосой бледнокожей женщины. Только иногда во снах на неспокойные волны моих мыслей со дна вырывалась одна отчетливая картинка. Я ношусь по кухне. Бегать я научился давно, но не гнушаюсь по старинке и четвереньками. Я вскарабкиваюсь на стол, проползаю пару вершков и, конечно же, ненароком смахиваю ногой какую-то утварь вроде супницы. Утварь рассеивается по всему полу с таким оглушительным треском, что о случившемся наверняка узнают на другом конце улицы. На миг я замираю, но тут же спрыгиваю и бросаюсь наутек с места преступления. Однако бегство не спасает меня – мой проступок видела посудомойка. Она не медлит сообщить об этом старшему слуге не только ради наказания виновного, но, прежде всего, чтобы не подумали на нее. Однако такие тонкости мне еще невдомек. Я продолжаю давать деру наверх, но на втором ярусе уже появляется не предвещающий ничего доброго лик отца и притаившаяся в пяти шагах от него, довольная своей шустростью харя старшего слуги. Я оборачиваюсь: пути к отступлению перекрыты отцовыми подмастерьями. Понурив голову, я плетусь к отцу и, видимо, посчитав, что усыпил бдительность, кидаюсь мимо его ног, намереваясь проскользнуть под руками. Эта отчаянная попытка оканчивается провалом: длинная длань отца обволакивает мое ухо и подтягивает меня к себе. Почти в тот же миг мой затылок осеняет смачная затрещина. Я реву и вдруг оказываюсь в гладких уютных руках матери, они прижимают меня к груди, и я слышу ее умиротворяющий, звучащий, как напев, голос.
Вспоминая этот случай, я порой ловил себя на мысли, что в глубине души завидую Двириду, поскольку тот хранил в своих мыслях ее лицо, тогда как мне уже не дано было на него взглянуть. Всякий раз я одергивал себя тем, что старшему брату тяжелее было расставаться с матерью. Но куда как тяжче, чем малышам-несмышленышам, утрата далась отцу. Наш с Двиридом родитель, Амлоф-оружейник, был волевым человеком, но, к несчастью, привыкшим подавлять свои чувства. Как это обычно водится, подобный подход к жизни приводил к двум отрицательным последствиям: во-первых, он требовал того же от окружающих, во-вторых, время от времени, его душа наполнялась до краев и в какой-то злой час он либо закатывал гулянку с немногочисленными друзьями, веселясь и горланя что-нибудь во всю глотку, а порой даже читая из бардов, либо (что, увы, случалось чаще) по ерундовой причине устраивал судилище над всеми домочадцами, используя различные способы внушения от розог для слуг до стояния на горохе для нас с братом. Когда не стало матери, он совершил худшее, что мог – замкнулся в себе. Впоследствии став чтецом, я начал понимать, какую боль он испытывал, как изо дня в день он просыпался в своей постели один, и бес возвращал его думы к образу возлюбленной, постепенно слепляя из этого образа господина, а его самого превращая в раба, как боль одиночества вплелась в его кровь и он стал испытывать ту особую жажду постоянного соприкосновения с ней, что, будучи обманом, как и всякое зло, ни на каплю не утолялась растравлением, а, напротив, разжигалась им. Но в детские годы я еще не мог понять зла, мучившего отца, замечая лишь зло отца, мучившее нас. Конечно, он не утратил любви к сыновьям, но вместо того чтобы черпать из нее противоядие, он неуклонно отдалялся от нас с Двиридом. Не нашел он себе и женщины. Когда могила матери уже поросла шиповником, по обрывкам пересудов слуг я слышал о паре-тройке увлечений владельца, но и их пора пролетела бесследно. Почти весь день отец проводил в мастерской или у заказчиков, а если и выбирался развлечься, то возвращался назад в сильном хмелю, но не веселым, а не по-доброму буйным, и те, кто попадались ему под руки в такие вечера, могли и взаправду попасть под них. Он стал заурядным заложником своей власти, потому что вокруг него не оказалось ни одного человека, который был бы выше его положением и серьезно беспокоился бы о нем, а люди, бывшие ниже его, попросту боялись. И хотя слуги уважали его как умного хозяина, а городские мастера, работавшие с ним, как знатока дела, человека в нем видели и ценили все меньше. Таким был мой отец, и год за годом холод остывшего очага дома Амлофа разрастался, застуживая жизни его обитателей, пока не превратился для них в безнадежный склеп. Стоит ли удивляться, что почти все свободное время я тратил за пределами родного дома, возвращаясь туда настолько редко, насколько мне позволял малый возраст, и, стремясь также вытащить брата, но Двирид унаследовал от родителя проклятую замкнутость, и далеко не всегда мои попытки имели успех.
И все же отец не оставлял нас окончательно – иногда нас вызывали в мастерскую. Со зрелых лет до последнего вздоха родителя волновал вопрос наследства, но я в тайне надеялся, что он зовет сыновей не только для того чтобы обеспечить будущее оружейной, а чтобы хоть на вершок свечи побыть с единственными оставшимися на земле родными. С первых занятий между мной и Двиридом обозначилось разное отношение к учебе. Мы оба на лету запоминали названия и назначение орудий, но как только дело касалось самой изготовки, на брата нападала тоска, тогда как мои глаза загорались. Отец подметил это сразу же. Он не отстранил Двирида, но вскоре я почувствовал, что родитель объясняет ту или иную тонкость одному мне, а на брата не обращает внимания. Недвусмысленные выражения по поводу того, «что старший и младший у него перепутались местами» не заставили себя долго ждать. Однако отца не сильно волновало старшинство Двирида: по законам Кимра старший брат имел неоспоримое преимущество в наследовании, но зная слабоволие первенца, он был уверен, что тот не станет возражать, если управление оружейной перейдет в мои руки. Куда как сильнее его беспокоила моя воля. До поры до времени все шло по замыслу родителя, но одно знакомство окончательно оторвало меня от дома, развернув мои мысли от оружия к пергаменам и Кариду.
Мне на всю жизнь запомнилось обманчиво-безмятежное утро в самом конце лета, когда я, наконец, поведал отцу, что собираюсь присоединиться к Братству. Светило остывающее, но еще добродушное солнце. С улицы доносился привычный шум простого люда. Мы завтракали. Отец был на удивление весел и разговорчив. Он рассуждал о хорошей вероятности войны на севере и вслух подсчитывал, сколько снаряжения понадобится войску. В нужный миг я поднялся и сказал, что хотел, как можно более твердо, неимоверными усилиями сдерживая дрожь в теле и голосе. Выслушав, не перебивая, отец решил, что сталкивается с обыкновенной отроческой блажью, в меру покричал и встал из-за стола, собираясь идти работать. Тогда я, уже понявший, что в этом мире свитки действуют лучше слов, протянул ему письмо одного из чтецов-наставников, заверенное печатью и одобрявшее мой приезд. Родитель больше не кричал, а просто спросил, когда я уезжаю. Я уезжал в тот же день. Кладь была собрана, а извозчик нанят, и мне пришлось немало потратиться, чтобы сохранить в тайне свой отъезд. Услышав последние слова, отец каким-то странным движением опустился на кресло. Его лицо побелело и перекосилось. Мы с Двиридом и бывшие рядом слуги бросились к нему и перенесли на постель. По счастью, один из подмастерьев распознал удар и принял нужные меры до прихода лекаря. Отъезд задержался на три дня: я не изменил своего намерения. Отец так и не пустил меня к себе.