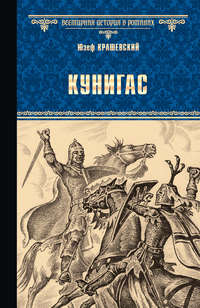
Кунигас. Маслав (сборник)
Действительно, внутренность городища представляла странное и ужасное зрелище, которое могло возбудить жалость. На голой земле, на соломе и просто в грязи лежали в страшной тесноте, один к другому, люди всех возрастов и сословий, так что негде было пройти между ними. Тут были матери с детьми на руках, подростки, жавшиеся к коленям стариков, воины в разорванных кожаных панцирях и старые сморщенные старики с непокрытыми головами и обнаженной грудью – полураздетые. Кому негде было лечь, сидел, опираясь спиной о плечи соседа или об его ноги. Некоторые от истощения, а может быть, от голода спали так крепко, что их не могли разбудить ни свет, ни шум голосов, ни даже толчки проходивших мимо них и задевавших их ногами. Другие же, страдавшие бессонницей, сидели, подперев голову руками, с рассыпавшимися в беспорядке волосами. Еще третьи в испуге срывались с земли, не понимая, что произошло, и с криком хватаясь за дротики в защиту от неприятеля.
Около конюшен и амбаров, в сенях – всюду виднелись целые массы этих несчастных. По их изжелта-бледным исхудалым лицам видно было, что и здесь с трудом только можно было поддерживать жизнь. Новоприбывшие, войдя в эту толпу и следуя за Белиной, часто должны были невольно наступать на ноги и руки лежавшим, Белине достаточно было показать прибывшим, что у него делалось, чтобы сразу оправдаться в своем первоначальном отказе впустить их.
Пройдя другие ворота, путники очутились во внутреннем дворе, где стоял дом Белины. Они увидели несколько разбитых палаток и наскоро сложенных шалашей, но и здесь была такая же невообразимая давка: все было заполнено людьми, лошадьми, коровами и овцами. Скот прятали в хлеву и конюшне и зорко стерегли, чтобы изголодавшиеся люди, как это уже случилось несколько раз, не убивали ночью потихоньку животных себе в пищу.
В палатках жило знатнейшее рыцарство и шляхта. Их жены, дети и более слабые из них жили в самом доме. Старый хозяин с пасмурным лицом ввел их сначала в нижнюю горницу, которая в лучшие времена служила столовой. Это была большая, длинная зала с дубовыми колоннами; в ней стояли столы и лавки, а в одной стене был вделан огромный камин, обложенный камнем. Все остальные стены были увешаны сверху донизу одеждой и оружием всякого рода. Здесь тоже вповалку лежали люди, разместившиеся где попало: на полу, на лавках, на столах, а некоторые чуть не в самом камине.
– Смотрите, – сказал хозяин, обращаясь к новоприбывшим, – смотрите и не вините меня. Уж давно у нас не осталось ничего, кроме небольшого количества соленого мяса, круп и муки. Мы варим из этого похлебку и тем питаемся.
Он указал рукой на пол и пробормотал, избегая лишних объяснений:
– Размещайтесь, как и где можете. Женщин я отведу к своим. Что Бог дал, то и дал!
Люди, лежавшие на полу, на столах и на лавках, разбуженные светом и разговором, подняли головы и стали приглядываться к вошедшим. Из разных концов послышались возгласы:
– Лясота! Мшщуй! Вшебор!
Богдася Топорчика захватил в объятия сын Белины, с которым они были в большой дружбе еще при дворе королевы и королевича.
Молодой Белина обнимал друга и восклицал:
– Не вини нас, брат, не вини, а взгляни только!
Старый Лясота, едва державшийся на ногах от утомления, ни о чем не расспрашивал, а присмотрел себе местечко среди лежавших, да тут же и свалился головой кому-то в ноги. Тот даже и не шевельнулся. Старик тотчас же громко захрапел и застонал во сне.
Проснувшиеся охотно подвинулись, давая место вновь прибывшим. Так, в тесноте и духоте провели приезжие первую ночь, расположившись где пришлось, – молодой Томко Белина, уложив Богдася в удобном уголке, сам пошел на стражу.
Как только свет погас, все снова улеглись, а еще спавшие лежали тихо, чтобы не мешать другим.
Собек и Дембец остались на первом дворе вместе с конями. Так окончилось это путешествие, исполненное опасностей, и окончилось более счастливо, чем можно было надеяться.
На другой день, уже на рассвете, многие стали подниматься и выходить из духоты на валы, где уже слышны были говор проснувшихся людей, плач детей, монотонное убаюкивание женщин и громкие голоса споривших.
Вся эта картина днем казалась еще страшнее, чем ночью, когда нельзя было разглядеть лица человеческого и когда сон смягчал страдания. Теперь, пробужденные от сна, все задвигались и заговорили, словами и стонами жалуясь на свою недолю[2]. Матери, имевшие грудных детей, теряли молоко, и ночью несколько новорожденных умерло от холода и голода. Громко плакали и причитали женщины, обступившие пожелтевшие и посиневшие трупики. Стонали больные, просили пищи голодные, а все, кто был еще в силах, носили воду и прислуживали немощным. Старшины, выбранные Белиной, расхаживали с посохами в руках, наводили порядок и призывали к тишине. Здесь ни одна ночь не обходилась без жертв. В эту ночь умерло несколько больных взрослых и несколько детей.
Много хлопот доставляли похороны, ради которых приходилось открывать калитку в воротах; люди с лопатами шли в ближайший лес, где и погребали умерших. При этом надо было торопиться и все время быть настороже, чтобы не напала на них караулившая их чернь.
Эго было первое, что бросилось в глаза прибывшим, когда они вышли утром на валы. Не успели они спуститься вниз, как раздался призыв к обедне на втором дворе; служил ежедневно бенедиктинец Гедеон, человек святой жизни, спасшийся из Пшемешеньского монастыря и пользовавшийся этим обрядом для ободрения и подкрепления несчастных.
Он один среди всех этих людей, жертв страшного разорения и уничтожения, в отчаянии своем усомнившихся в милосердии Божием, остался тверд и спокоен и умел и в их души вливать надежду.
Для того чтобы вся эта многочисленная толпа могла молиться в часы Великой Жертвы, алтарь был устроен на возвышенном помосте, который был виден издали. Все, кто хотел, могли видеть капеллана через широкие ворота из первого двора во второй и могли молиться вместе с ним.
Это было печальное, но и прекрасное зрелище, когда все стали тесниться, – мужчины и женщины, чтобы продвинуться поближе и вознести молитвы к тому Богу, в котором теперь была вся их надежда на спасение.
Настала глубокая тишина, прерываемая только плачем и вздохами женщин. Здесь было много таких, которые, подобно Спытковой и ее дочке, потеряли мужей, отцов и братьев, погибших в битвах или пропавших без вести. Большая часть из них в белых кисейных покрывалах, чепцах и накидках сидели или стояли на коленях в сторонке, так что невозможно было разглядеть их лиц. По приказанию отца Гедеона в этой тесноте и давке женщины стояли по одну сторону, мужчины – по другую.
Все эти беглецы, происходившие, подобно Лясоте, из зажиточной шляхты, теперь не имели на себе даже целого платья и были одеты в чужие сермяги, в рваные плащи, забрызганные грязью, кто в чем пришлось, некоторые были прямо в лохмотьях. Белина, сжалившись над старым израненным Лясотой, принес ему утром чистых тряпок для перевязки ран и приличный плащ. Панцирь выбросили вон, да и кафтан, насквозь пропитанный кровью, уже никуда не годился. Собек, который умел и за ранеными ухаживать, обмыл и перевязал ему раны. Со своей стороны, Томко Белина одел Топорчика, у которого от сырости давно уже испортилась и прогнила одежда. Но в этот день ослабевший Богдась не мог даже встать в час обеда, и когда подали пищу, пришлось отнести ему его порцию в тот угол, где он лежал.
Пища была плохая. Уже давно нельзя было печь хлеба, и все обитатели замка – мужчины и женщины – довольствовались мучной похлебкой, к которой иногда прибавляли кусочек мяса или жира.
Никто не смел жаловаться на голод, все тревожились только о том, надолго ли хватит пищи на всех, если положение не изменится к лучшему. Старый Белина сам ежедневно заглядывал в мешки и бочки, соображая, на много ли было в них жизни.
Хотя чернь, осаждавшая замок, и отступила от него, но все отлично понимали, что мир был непрочный и что враг рассчитывал взять их измором.
Не раз высказывались предположения – прорвать осаду и уйти за Вислу. Но тогда надо было или покориться Маславу, или вступить с ним в бой. Большая часть рыцарства, замкнувшегося за валами Ольшовского городища, относилась с презрением к Маславу с его язычеством и не хотела даже думать о спасении через него.
Каждый день происходили совещания, не приводившие ни к какому решению, и отец Гедеон заканчивал все споры и беседы всегда одними и теми же словами:
– Помолимся Господу и будем верить, что Он нам поможет!
И только молодость счастлива тем, что даже в такой тесноте она хоть на минуту может забыть обо всем.
Трудно было поверить, что на другой день первой заботой обоих братьев Доливы было проследить, где скрывались голубые глазки Каси. Они оба, как только встали, принялись всюду бегать и расспрашивать, где помещались мать с дочерью.
Уже в дороге, поссорившись из-за девушки, они избегали смотреть прямо в глаза друг другу и почти не разговаривали между собой, Вшебор за одни сутки дороги так расположил к себе мать, что мог быть уверен в ее сочувствии, однако он не принял в расчет того, что веселая и бодрая еще женщина заглядывалась на него не ради дочки, а ради себя самой. Остаться вдовой без защиты – говорила она себе, – было очень трудно… И она искала мужа… не столько для себя, сколько для дочери, которой он мог заменить отца, а она охотно принесла бы ей эту жертву.
Мечты Вшебора были совсем иные.
Мшщуй, ничего не добившийся во время пути от пугливой Каси, влюбился в нее еще сильнее. И оба брата думали только о том, как вести дальше свои сердечные дела.
В обоих текла одна и та же горячая кровь, но, как это часто случается в семьях, нравы у обоих были неодинаковые. Оба легко воспламенялись, но шли к своей цели разными путями. Во время охоты Вшебор выслеживал зверя, а Мшщуй загонял его и убивал; первый готов был провести целый день в шалаше в ожидании зверя, второй не терпел долгого ожидания и охотнее гнался и преследовал. Так и во всем. Вшебор всего добивался упорством и ловкостью, Мшщуй – горячим сердцем и собственными усилиями.
В Ольшовском городище, где женщины были отделены от мужчин, трудно было в этой давке найти кого-нибудь вообще и еще труднее – увидеть женщин. Вместе с женою и дочерью Белины они занимали отдельное помещение, и почти никто из них не выходил из него уже потому, что не было такого укромного уголка, где бы за ними не следило несколько пар глаз и не подслушивали чьи-нибудь уши.
Поэтому и оба влюбленных, расхаживая по дворам и задирая головы кверху, словно высматривали воробьев под крышей, не могли нигде увидеть тех, кого искали. А тут еще нашелся третий соперник, в лице молодого Белины. Придя утром к лежавшему Топорчику, он принялся с жаром расспрашивать его о Касе Спытковой, заинтересовавшей его своим серьезным личиком. Топорчик тоже завидел ее издали, но был так измучен и угнетен, что даже женская красота не произвела на него впечатления.
– Оставь ты меня в покое! – отвечал он. – Я не знаю и не ведаю, что это за женщина! Я встретил их в пути, когда был сам едва жив, старшая дала мне напиться – да наградит ее за это Бог. Спрашивай о ней Долив, если они захотят только тебе ответить, потому что мне сдается, что они сами точат зубы на этого подростка. Мне же не до того.
– Девочка, как малина! – сказал Белина.
– Да хоть бы она была, как ангел, каких ставят в костелах, не время теперь думать о девушках, когда враг схватил нас за горло, – сказал Топорчик.
Белина рассмеялся и умолк но, должно быть, грешные мысли засели крепко у него в голове, потому что, когда братья Доливы, проискав напрасно по дворам, вернулись в горницу, он пристал и к ним, расспрашивая их о женщинах, с которыми они приехали. Но те неохотно отвечали на его вопросы. Им было неприятно, что еще кто-то кроме них заинтересовался девушкой.
Так среди туч засияло на радость молодым глазам, как ясное солнышко, чудное девичье личико. Такова уж привилегия молодости, что и под самым страшным гнетом она не перестает волноваться сердцем и мечтать. Старшие беседовали о защите замка да о хлебе, а молодые только и думали о голубых глазах Каси. Хозяйскому сыну, Томку Белине, который мог свободно входить в помещение женщин, среди которых были его мать и сестра, посчастливилось раньше всех полюбоваться хоть издали на прекрасную девушку. Доливы же и думать не смели о том, чтобы приблизиться к ней.
Но под вечер Спыткова-мать вышла из горницы проведать того, кто так хорошо услуживал ей во время дороги и так внимательно слушал ее рассказы. Оба брата, увидев ее издали, так и бросились к ней навстречу. Вдова, помня услуги Вшебора, вынесла ему под платком немного съестного, оставшегося от дорожного запаса, чтобы угостить своего опекуна, и, увидев его брата, разделила свое приношение на две части.
Оба принялись расспрашивать ее о ней самой и о дочери.
– Благодарение Богу, – со вздохом отвечала вдова, – что мы попали сюда. По крайней мере здесь мы среди людей, и что они имеют, то и нам дают! Здесь было бы легче и умирать! Обе мы в добром здравии, хоть долго еще не забудем этот путь и все наши несчастия.
Так начав разговор, хотя и продолжавшийся жалобами на свою судьбу, Спыткова повеселела и, блестя белыми зубами, то и дело бросала взгляды на Вшебора.
Начав болтать, она уже не могла остановиться: ей надо было так много рассказать такого, чего Мшщуй еще не слышал, – о своем прежнем богатстве, о величии и могуществе своего рода, о любви мужа и обо всем, что она испытала в жизни. Теперь она уж помышляла о том, как бы ей пробраться на Русь к своим, где она надеялась найти защиту, помощь и нового мужа, так как там еще многие вздыхали по ней.
Долго болтала вдова, сопровождая свою речь то смехом, то слезами, кокетливо поглядывая живыми черными глазами то на одного брата, то на другого и энергично жестикулируя. Живая и говорливая, она отлично знала, что может еще нравиться мужчинам, но братья стояли перед ней в безмолвии и неподвижности.
Подходили и чужие люди послушать и посмотреть на нее, а она с увеличением слушателей становилась еще более словоохотливой, и когда пришла пора прощаться и возвращаться к дочери, глаза ее уж были совершенно сухи.
IVВ одно осеннее утро двое людей, одетых по-крестьянски, в простых сермягах, верхом на плохих конях с подостланным вместо седла куском толстого сукна, медленно подъезжали к широко разлившейся Висле, переполненной осенними дождями.
На возвышенном берегу ее виднелись издалека замок на холме и старый город, раскинувшийся у подножия его.
В городе и его окрестностях царило оживление. Около замка, окруженного валами, из-за которых выглядывал маленький костел без креста, принадлежавший бенедиктинцам (потому что еще в 1015 году их поселил здесь Болеслав), передвигались массы народа, напоминавшие войско, разделенное на отряды. Над толпой возвышались в различных местах изображения языческих богов на длинных древках, вбитых в землю, и красные знамена.
Всадники переглянулись между собой. Один из них, обветренный, морщинистый и уже старый, хотя бодрый, был Собек, верный слуга Спытковой, другой – молодой и более видный из себя, хотя и на нем была простая сермяга, был скорее похож на воина, чем на простого крестьянина. Это был Вшебор Долива. Обоих выслали на разведку из Ольшовского городища и велели добраться хоть до самого Маслава, лишь бы знать, что дальше делать и как выйти из беды.
Долива, принимая поручение, не обнаружил большой готовности: не хотелось ему уезжать от Спытковой и ее дочери, но нельзя было отказаться, потому что все настаивали на его выборе, помня его уверения, что при дворе Мешка он был коморником вместе с Маславом и пользовался его дружбой и доверием. Теперь этот самый Маслав, нечестным путем превратившись из ничтожного мальчишки в плоцкого князя, мечтал уже о завоевании всей страны.
Сидевшим в замке надо было разузнать, как обстоит дело и пристало ли им, спасая жизнь от черни, рассчитывать на Маслава, Вшебору не грозила опасность, и, кроме того, он надеялся на свою находчивость.
Собек – простой человек – не боялся ничего. Долива был бы очень рад избегнуть всякой встречи с Маславом, но делать было нечего. В городище сильно истощились запасы пищи: попасть в руки черни значило то же самое, что положить голову под плаху, следовательно, надо было искать каких-нибудь путей к спасению.
Проводником Доливе дали старого Собека, который не терял присутствия духа в самых затруднительных случаях; он остался верен себе и на этот раз, когда надо было постоянно обходить стороною вооруженные отрады, избегать поселений и прокрадываться чаще ночью, чем днем. Собек провел его так искусно, что они, не встретив никого по дороге, прибыли целыми и невредимыми на берег Вислы. Вшебор, который сначала говорил очень уверенно о встрече с Маславом и надеялся на его дружбу, теперь, когда увидел перед собой город и представил себе, как он предстанет перед Маславом, задумался не на шутку.
Он уже начал сильно сомневаться в том, как его примут и вспомнят ли о прежней дружбе. С тех пор как они оба встречались при дворе, многое изменилось, а вести, доходившие со всех сторон о Маславе, не предвещали ничего доброго.
Но нельзя же было возвращаться назад!
Собек молча взглянул ему в глаза и указал на реку.
Вшебору пришло в голову, нельзя ли как-нибудь, не открывая своего имени, издали все высмотреть и не встречаться совсем с Маславом. Здесь было много народа, и они могли незаметно вмешаться в толпу. Что из этого выйдет, он и сам не знал. Они ехали шаг за шагом, и Долива еще придерживал свою лошадь. Поначалу они сговорились с Собеком, что он постарается добраться до самого Маслава. Но теперь это казалось и неудобным, и опасным.
– Послушайте-ка, – тихо сказал Вшебор товарищу. – Не лучше ли будет не лезть на рожон, а только издали присмотреться? Нас здесь никто не знает.
– Как вы решите, так и будет, – возразил Собек. – Я ничего не знаю!
– Но как вы думаете? – спросил Долива.
Вместо ответа Собек указал ему рукой на Вислу. Они стояли на лугу, на открытом месте.
Отсюда видны были, как на ладони, неподалеку от них, на реке, две связанные вместе большие ладьи, на которых гребли к тому месту, где они стояли.
В ладьях были кони и люди.
Вшебор увидел издали, что люди были вооружены и одеты в рыцарскую одежду, и, верно, это были какие-нибудь знатные рыцари, потому что доспехи их блестели на солнце; на голове у одного из них развевался красивый султан, а на плечи был накинут богатый плащ, из-под которого сверкало оружие.
Мальчик, стоявший позади него, держал в руке птицу, другой слуга приманивал взлетавшего кверху сокола, а третий держал на привязи собак.
Лиц еще нельзя было различить.
Впереди стоял мужчина с султаном на шапке, а несколько поодаль – придворные его или слуги. Должно быть, они ехали на берег Вислы на соколиную охоту.
Нетрудно было отгадать, кто был тот, кто мог свободно забавляться охотой в такое время.
Таким образом счастливый или несчастный случай как раз в минуту нерешимости и колебания облегчил Вшебору выполнение задачи.
Уклониться от встречи было невозможно, спасаться бегством – опасно, значит, надо было смело идти навстречу судьбе.
Так и решил в душе Долива.
Не задерживая больше коня, он спокойно поехал вперед, а тем временем и ладьи пристали к берегу, и можно уж было различить лица сидевших в них людей.
Вшебор узнал Маслава, хотя он сильно изменился с того времени, когда Долива помнил его взбалмошным и дерзким мальчиком при королевском дворе. Он держался или, вернее, старался держаться с княжеским достоинством.
Бедно одетые, Вшебор и его спутник не привлекли его внимания – Маслав горделиво оглядывался по сторонам. Заложив руки в боки, задрав кверху голову и поставив одну ногу на край ладьи, он имел такой вид, как будто ему хотелось поскорее выскочить на землю.
Человек этот, крепкий и ловкий, был словно вырублен секирой.
Сквозь панскую внешность в нем ясно проглядывала холопская кровь. Лицо у него было румяное, обветренное и самое обыкновенное; в маленьких, юрких глазках и рыжей бороденке не было ровно ничего княжеского, но он был силен и хорошо сложен, а так как ему, видимо, везло в жизни, то он возомнил о себе и держался с людьми надменно и свысока. Его светлые брови непрерывно морщились, и даже когда он молчал, казалось, что он обдумывает новые приказания, чтобы ни на минуту не сойти с того пьедестала, на который ему удалось взобраться. С первого взгляда в нем чувствовалась сильная и предприимчивая натура, которая ни перед чем не останавливалась.
Когда ладьи приблизились к берегу и всадники подъехали ближе, Маслав, окинув взглядом их серые сермяги, хотел с пренебрежением отвернуться от них, но что-то в лице Вшебора поразило его. Он не узнал его сразу и, строго нахмурив брови, стал пристально всматриваться в него. В это время Вшебор не спеша снял меховой колпак и поклонился ему.
Как раз в эту минуту Маслав, одетый совсем не по охотничьему, а так, как будто собирался принимать у себя послов, и в рыцарском поясе, с которым он никогда не расставался, готовился выйти на берег.
За ним шли его приближенные, одетые так же неуместно, как и он сам, в колпаки с султанами, пояса и нарядные плащи.
Вшебор едва не рассмеялся при виде этой ненужной пышности, но вовремя сдержался, принужденный думать о своей безопасности. Маслав, заметив его поклон, вздрогнул и, взглянув на окружающих, по-видимому, собирался отдать приказание схватить его, но Вшебор, приблизившись к нему, сказал вполголоса:
– Я к вашей милости, пришел к вам с поклоном.
Маслав уже не сомневался, что видит перед собой прежнего знакомого. Тревога снова овладела им, он не знал, как отнестись к нему, и недоумевал, что могло его сюда привести.
В нерешимости он отступил назад, присматриваясь к Вшебору.
Видя его колебания, Долива быстро распахнул сермягу и показал ему, что, кроме небольшого меча, у него не было больше никакого оружия. Топор остался привязанным к седлу коня, с которого Долива сошел, оставляя его на попечение Собека.
– Что вас сюда привело? Что вы хотите от меня? – заговорил Маслав, стараясь придать своему голосу гневный и строгий тон. – Говори, да поскорее, у меня нет времени!
Проговорив это, Маслав подступил к Вшебору, словно желая показать, что он его не боится, а когда тот не сразу ответил, Маслав отошел от своих людей, принудив и Вшебора следовать за собою.
– Милостивый пан! – начал Вшебор. – Не так это легко – рассказать в двух словах свое дело. Вы знаете, что у нас теперь делается, и только вы можете нам сказать, что будет с нами завтра. К вам и надо идти спрашивать, что делать дальше.
Маславу, видимо, польстило, что ему приписывают власть над будущим. Его мужественное, энергичное лицо, обнаруживавшее в нем присутствие большой звериной силы, приняло выражение еще большей гордости и самомнения, и он вымолвил без гнева уже:
– Что делать? Все, кто хочет сохранить голову на плечах, должен мне повиноваться. Кроме меня, ни у кого здесь нет силы. Скоро мы освободимся от немецкого и чешского гнета, и я буду править!
Говоря это, он оглянулся, чтобы проверить впечатление, которое производили эти слова, и засмеялся диким, насильственным и неискренним смехом.
Вшебор молчал, не поднимая головы. Маслав ударил рукой по мечу, который висел у него за поясом.
– Спроси меня, по какому праву я буду править, – прибавил он. – Вот мое право! Кто силен – тот и должен править, а у кого есть ум – у того есть и сила, если же нет ума, то и сила не поможет, потеряют ее, как они там потеряли (он указал рукой на запад). Обленившееся, ни к чему не годное, онемеченное племя надо было выбросить за дверь, а крестьянам вернуть старую свободу и прежнюю веру. Мы должны жить по-своему, а не перенимать чужих обычаев. Не нужно нам ни чужих богов, ни чужих князей. Пясты продавали нас императорам и панам. От немецких матерей рождались онемеченные дети. Казимир, мать которого записалась в монахини, пусть себе сидит у дяди в Хольне и поет в хоре, там его место, а не здесь на царстве. Мы ведь не монахи!
Говоря это, он шел вперед и бросал пытливые взгляды на Доливу, подзадоривая себя собственными словами.
– Мазурская земля – моя, а со мной пойдут пруссаки и литовцы; все те, которые привязаны к своей старой вере. Нас – множество, а вас – горсть, да и той скоро не станет. Земля без государя достанется тому, у кого сила. А сила – у меня! У меня!
Он разгорячался все более, поглядывая на Вшебора. Но, не дождавшись от него никакого ответа, стал перед ним и повелительно сказал:
– Говори же мне, кто тебя послал?
К Доливе, ввиду грозящей опасности, вернулись мужество и хладнокровие. Он равнодушно пожал плечами.
– Кто же у нас может посылать? – сказал он. – Из старого рыцарства, шляхты и магнатов немногие уцелели – на паству волкам. Мы, двое братьев, спаслись от чехов и черни. Может быть, найдется еще несколько человек, спасшихся и укрывающихся в лесах. Кто бы мог меня послать? Вы были когда-то мне другом, теперь могли бы взять меня хоть в слуги! Моя жизнь не имеет для вас никакой цены, но, может быть, я вам на что-нибудь пригожусь.

