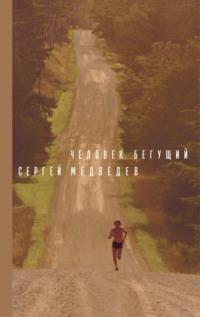
Человек бегущий
Ко мне гора была милостива, ветер продолжал дуть сильно, но ровно, как в аэродинамической трубе, после разворота дороги на 180 градусов я рывком одолел финишный торчок, знакомый по стольким кадрам, – иногда из-за крутизны последних метров и встречного ветра победитель даже не может традиционно вскинуть руки, и его подхватывают волонтеры – остановился и огляделся окрест. Равнина была затянута знойной дымкой, на востоке виднелись снежные хребты Альп, на юге оловянно поблескивала гладь Марсельского залива, над которым из черных туч шел дождь. Я пытался представить те мысли и чувства, что испытывал путешественник семь веков назад, неважно, был ли это Петрарка или Буридан, и, подобно поэту, пришел к мысли о безграничности человеческого духа, который может в одной точке соединить пространство и время, и поскольку у меня не было с собой карманного издания «Исповеди», то достал свой старенький мобильный телефон, одну из первых моделей с камерой и сделал фото. Обнаружив недавно этот снимок в архивной папке компьютера, я увидел лишь мутное, размытое пятно в плохом разрешении; в этом смысле память – более надежный союзник.
Большой термометр на метеостанции показывал +7, на 30 градусов холоднее, чем внизу, меня начал колотить озноб, и я пошел внутрь, чтобы выпить чашку шоколада в кафе и утеплиться для спуска: теперь я понимал, почему так одевались велосипедисты, ехавшие навстречу. Спуск с горы в сторону Малосена оказался широким и раскатистым, повороты все хорошо читались, и можно было распустить велосипед до 80 километров в час. На полпути вниз внезапно начался густой сосновый лес, замелькали тени на асфальте: я словно попал в горячую хвойную ванну, так что пришлось спешно останавливаться и снимать лишнее. Я влетел на скорости в сонный Малосен, объехал хребет Ванту против часовой стрелки и направился в сторону холмов Люберона, где пейзаж был спокоен, умиротворен и облагорожен тысячелетиями труда. В полях уже отцвела лаванда, оставив аккуратные бурые грядки, и на вершинах холмов расположились средневековые деревни – словно защитники крепости, плечом к плечу, на склонах стояли по кругу каменные дома, обороняясь от мавров, каталонцев, жары, мистраля, времени. История в них застыла, и когда я, буксуя на крутых мощенных камнем улочках, заезжал туда набрать в фонтанчике воды, то на пустых, уснувших площадях с наглухо закрытыми ставнями мой велосипед был единственным свидетельством современной эпохи.
Где-то между Руссийоном и Боньё, признанными «одними из самых красивых деревень Франции», я ехал на закате среди полей, остывающих от дневного жара, шелеста трав и неумолчного стрекота цикад, как вдруг все резко затихло, природа замерла. Я остановился и в недоумении огляделся вокруг. Прямо на меня на бреющем полете бесшумно летела тройка истребителей. Черными птицами, затмевая солнце подобно всадникам апокалипсиса, «Миражи» беззвучно пронеслись над верхушками деревьев на юг, к базе французских ВВС в Марселе, и следом за ними, раздирая небо, обрушился невыносимый грохот, заставив меня пригнуться, бросить велосипед, закрыть уши. И я подумал, в очередной раз за этот день, как велик гений человека и как порой страшны дела его.
Самолеты скрылись, природа очнулась от ужаса, и поначалу робко, а потом все громче и радостнее продолжила праздновать окончание долгого жаркого дня.
2Взбирался ли Петрарка на Мон-Ванту или вообразил это в порыве вдохновения – горы еще долгие века оставались для человека преградой и источником опасности, с обрывами и пропастями, где обитали тролли и заблудшие души. Ходить по горам, тем более восхищаться ими казалось странным; легенды рассказывали об охотниках и пастухах, которые терялись в ущельях и на горных кручах, пропадали насовсем или объявлялись годы спустя в виде призраков. Европейский пейзаж, который стал развиваться со времен современника Петрарки Джотто, подступался к горам осторожно: поначалу они были фоном к сюжетам священной истории, аллегорией божественного – или опять-таки символом опасности, преодоления, как в образах бегства святого семейства в Египет или у святого Иеронима в пустыне. Отношения человека и пейзажа впервые заявлены у Леонардо, в скалистом ландшафте за спиной Моны Лизы: он написан в манере «сфумато» – расплывчатым, голубовато-зеленым, словно под водой или во сне; неясность этого горного пейзажа, его ускользающая светотень так же загадочны, как и полуулыбка Джоконды.
Еще более интимные отношения с пейзажем сложились к северу от Альп: одним из пионеров горного пейзажа считается немецко-швейцарский художник Конрад Витц, живший в первой половине XV века в Базеле и изображавший снежные пики во многих своих работах, например, в алтаре собора Святого Петра в Женеве; а столетие спустя в холстах и гравюрах Альбрехта Альтдорфера и других представителей «Дунайской школы», объединившей Австрию и Баварию, появляется и чистый пейзаж как объект созерцания. В Нидерландах в это же время появляется тип композиции под названием Weltlandschaft, «панорама мира» – воображаемый панорамный вид с горами и низинами, строениями и маленькими фигурками людей, словно видимый с возвышенности: именно такой взгляд характерен для Питера Брейгеля-старшего, например, в «Охотниках на снегу», где за типичным голландским пейзажем вдруг встают фантастические высокие горы.
Идиллический пейзаж периода классицизма, где горы становятся декоративной кулисой, аллегорический пейзаж эпохи барокко, стремившийся передать отношения людей через бурную жизнь стихий, уступают место естественному идеалу эпохи Просвещения, экологической утопии Жана-Жака Руссо, утверждавшего, что природа – это свобода. Наступило время сентиментализма и романтизма, где герой может излить душу природе и в ней же почерпнуть жизненную силу. Манифестом новой эпохи становится Der Wanderer – «Странник над морем тумана» немецкого романтика Каспара Давида Фридриха.
Молодой человек, в котором по растрепанной светлой шевелюре угадывается сам художник, взошел на вершину и, стоя спиной к зрителю, смотрит на расстилающийся под ногами горный ландшафт, затянутый клочьями тумана. Перед ним расщелины и хребты, поросшие деревьями; горизонт проясняется, туман поднимается. Как и во многих картинах Фридриха, мы входим в пейзаж через фигуру странника, одинокого человека, созерцающего ландшафт, но здесь он представлен более фактурно, является центром композиции: романтический герой, гордый и сильный, смотрит на горы взглядом равного, буря чувств в его душе соизмерима со стихией перед ним, он признает ее величие, но одновременно бросает ей вызов, в нем чувствуется фаустовский дух исследователя.
«Странник» был написан в 1818-м. Наполеон доживал последние годы в ссылке на острове Святой Елены, но фермент свободы бродил по миру: Симон Боливар завершал освобождение Южной Америки от испанского господства, в России был создан «Союз благоденствия», из которого впоследствии вышло движение декабристов. В Британии выходили последние песни «Чайльд-Гарольда», воображение Европы захватил байронический типаж, провозгласивший свободу тела, мысли, поведения и непочтительность к любой власти. Эпоха романтизма явила нового героя-одиночку, покорителя стихий и сердец, свободолюбивого и готового бросить вызов правителям, вступиться за угнетенных – лорд Байрон защищал восстание луддитов и права женщин, испанских крестьян и греческих повстанцев.
Важной составляющей этого образа была телесная крепость, смелость и ловкость, которые герой должен был проявить не только в бою, как в рыцарском идеале прошлых веков, но в испытаниях и приключениях. Тот же Байрон прославился тем, что переплыл Дарданеллы, что впоследствии считал своим самым большим достижением: „I plume myself on this achievement more than I could possibly do on any kind of glory, poetical, political or rhetorical“3.
Рожденный хромым, со склонностью к полноте (говорят, что в 17 лет он весил больше 100 килограммов при росте 172 сантиметра), он решил преобразить свое тело, занявшись в Кембриджском университете плаванием – и стал одним из лучших пловцов своего времени, без труда проплывая по 8–10 километров. В своем первом зарубежном путешествии, двухлетнем гран-туре по Средиземноморью в 1809–1810 годах, он посетил Испанию и Португалию, Албанию, Грецию, Турцию и Малую Азию, – и там же совершил свой легендарный заплыв.
Дарданеллы, который древние греки называли Геллеспонтом – это узкий и бурный пролив между Европой и Азией, соединяющий Эгейское и Мраморное моря. Из-за разной солености Средиземного и Черного морей здесь существуют два течения, поверхностное, с опресненной черноморской водой, идущее вдоль европейского берега из Мраморного моря в Эгейское, и придонное течение, с более соленой и плотной водой, идущее в обратном направлении. Из-за множества бухт в проливе возникают водовороты, а сильный ветер постоянно поднимает волну. В самом узком месте, между европейским Сестосом и азиатским Абидосом, всего полтора километра, но из-за сильных течений плавание здесь крайне опасно. В античном мифе юный Леандр из Абидоса полюбил Геро, жрицу Афродиты, жившую на другом берегу, в Сестосе, но их любовь должна была оставаться тайной. Каждую ночь Геро зажигала огонь на башне, и ее возлюбленный переплывал пролив, ориентируясь на этот свет; но однажды в бурю пламя погасло и Леандр сбился с пути. Наутро его тело прибило к ногам Геро, и в отчаянии она бросилась в море с башни.
Эта легенда, воспетая Овидием и Шиллером, а также Кристофером Марло в своей знаменитой эротической поэме, была, несомненно, хорошо известна Байрону, и он решил покорить Геллеспонт в том же самом месте, чтобы доказать, что заплыв Леандра был вполне возможен и история двух возлюбленных – не миф. Первая попытка состоялась в апреле 1810 года, но из-за сильного течения и холодной воды заплыв был остановлен. Вторая попытка была удачной: 3 мая 1810 года лорд Байрон и лейтенант Королевского флота Уильям Экенхед переплыли Дарданеллы в сопровождении лодки, и хотя расстояние между двумя берегами по прямой составляет полтора километра, пловцы из-за сильного течения проплыли более шести. Плыли они брассом – кроль пришел в Европу лишь в середине XIX века от американских индейцев, но еще долгое время считался «варварским» стилем – при этом Байрон истратил 1 час 10 минут, а Экенхед был на 5 минут быстрее, хотя об этом факте Байрон впоследствии упоминал весьма расплывчато. В любом случае, это было выдающееся достижение: сегодня рекорд на том же маршруте (вольным стилем и в гидрокостюме) составляет 48 минут. Байрон этим по праву гордился и даже упоминал в своем «Доне Жуане»: описывая, как его герой плавал в родном Гвадалквивире, поэт без ложной скромности замечает:
He could, perhaps, have passed the Hellespont,As once (a feat on which ourselves we prided)Leander, Mr. Ekenhead, and I did 4.Герой-романтик и герой-покоритель рождался и как герой-атлет, для которого его физические достижения и рекорды были ничуть не менее важны, чем успехи на военном, политическом или поэтическом поприще – новой эпохе нужно было новое, спортивное тело.
3С заплыва Байрона началась эпоха плавания на открытой воде – пловцы по всему миру покоряют реки, озера и проливы: Гибралтар и Ганг, холодный Иссык-Куль и Мессинский пролив на Сицилии, Байкал и пролив Кука в Новой Зеландии, известный своей холодной водой и акулами (британец Адам Уолкер рассказывал, что во время заплыва рядом с ним постоянно были дельфины, которые отгоняли акул), Берингов пролив (американка Линн Кокс пересекла его в пятиградусной воде) и, конечно, 35-километровый Ла-Манш, плавание в котором превратилось в отдельную дисциплину. С первого пересечения пролива в 1875 году в Кале или в Дувре финишировали почти 2 тысячи человек возрастом от 11 до 73 лет, причем у некоторых этот путь из-за течений удлинялся до 105 километров, которые англичанке Джеки Кобелл пришлось плыть почти 29 часов.
И, конечно, вслед за Байроном пловцы преодолевают пролив между Европой и Азией – только не Дарданеллы, а Босфор, в самом сердце Стамбула, между мостами Султана Мехмеда Фатиха и Босфорским мостом. Заплыв через Босфор проходит каждый год в июле уже тридцать лет и считается входным билетом в мир большой воды. Нередко говорят, что переплыть пролив может каждый, умеющий плавать и не боящийся открытой воды, но Босфор не так прост, как кажется. Трудности все те же, что были во время заплыва Байрона: три разнонаправленных течения, одно по центру и два других вдоль берегов, волны и ветер. Но главное, что он проходит в Стамбуле, самом бурлящем и ностальгическом городе мира, где сходится мощь двух континентов, двух мировых религий – и одновременно оседает пыль веков, античной, византийской, османской, кемалистской эпохи, где тени прошлого населяют запущенные ялы, виллы османской знати, смотрящиеся в свое отражение на воде, и где в дух города, по словам его сегодняшнего певца Орхана Памука, входит «хюзюн»: печаль, тоска по минувшему.
Собственно, книги Памука, что привили мне любовь к этому городу и ностальгию по чужому прошлому, и привели меня на старт этого заплыва – мне нравилась идея увидеть Стамбул с воды, из той стихии, которая его и создала: «Здесь, в сердце огромного, древнего и осиротевшего города, живет свобода и сила глубокого, могучего и своенравного моря, – пишет Памук, и слог его подобен течению пролива. – Человек, быстро плывущий на пароходе по неспокойным водам Босфора, чувствует, что грязь и дым перенаселенного города остались на берегу, чувствует, как он наполняется силой моря, и понимает, что и здесь, в этом людском муравейнике, все еще можно быть одному и оставаться свободным. Это водное пространство в центре города не похоже на амстердамские или венецианские каналы или на реки, делящие пополам Париж и Рим, – нет, здесь движутся морские течения, дуют вольные ветра и волны вздымаются над темными глубинами».
Я готовился к Босфору не в бассейнах, а на даче под Москвой, возле Звенигорода, плавая против течения в Москве-реке. В наших местах она домашняя, почти ручная: где-то мелкая, по колено, а где-то и с головой, со стремнинами, раскидистыми ивами и старыми купальнями по берегам, с песчаными косами и островками, поросшими крапивой и иван-чаем. Я каждый день купал в ней свою собаку Бруно, метиса легавой и отличного пловца, наблюдал, как он с усилием выгребает против потока, стремясь за заветной палкой – и решил попробовать сам. Найдя место поглубже, я надел плавательные очки и поплыл. Течение было бодрым, вода журчала вокруг меня, и я не без труда продвигался вверх. Перед глазами шныряли мелкие рыбки, проплывало дно с отборным речным песком, уложенным аккуратными волнами, словно пюре на тарелке в школьной столовой, там и сям поблескивали перламутром ракушки, струились длинные пряди водорослей, как волосы Офелии.
С тех пор я регулярно бегал тренироваться на реку – два километра по полям туда, заплыв против течения на условных три километра, и два километра бегом обратно, – храня в теле речную свежесть. Бывали жаркие дни, когда вода, тихая и прозрачная, журчит над песчаным дном, которое ты то и дело цепляешь рукой, и я далеко заплывал вверх, почти до самого Звенигорода. А после дождей, или когда сбрасывали воду из верхних водохранилищ – Рузского, Можайского, Озернинского, – река поднималась на метр—два, становилась мощной и мутной, несла ветки и смытые с корнем растения, и я с трудом удерживался на месте, гребя на полной мощности, борясь со встречным потоком и быстро сдаваясь на его волю.
Но главным было ощущение реки как живого существа, ее силы и нежности, запаха чистой речной воды, ее неумолимого безмолвного бега. Словно это река времени, и ты борешься с его потоком, проходишь сквозь него. Гребешь и думаешь: это же та самая река, на которой прошла добрая половина русской истории, и баржи подваливали к причалам Зарядья, и зимой лабазники выпиливали кубы льда и везли на санях в магазины, и на масляную сходились на льду кулачные бои стенка на стенку, и смывали кровь с разбитого лица – и журчит все та же вода, век за веком, безразличная к царствам и судьбам, как метафора вечности, которую ты сейчас разгребаешь собственными ладонями, но она ускользает сквозь пальцы.
И все же эти домашние тренировки не могли подготовить меня ко встрече с Босфором. Я прилетел в Стамбул утром накануне заплыва и сразу отправился на ознакомительную прогулку на пароходике, предоставленном организаторами. Пара сотен пловцов сгрудились у борта, отмечая ориентиры – пролеты моста Султана Мехмета, маяк Румели Хисар, Военная академия и остров Галатасарай. Шутки затихли, когда мы увидели всю ширину и мощь Босфора, неумолимое бурлящее течение, волны и водовороты, гигантские танкеры и сухогрузы с ржавыми, потертыми бортами: завтра движение судов закроют на время заплыва, но сейчас их внушительный размер был под стать величию этого места.
Вечером я пошел ужинать к пристани Эминеню у входа в залив Золотой Рог. Это настоящее сердце Стамбула, рассылающее потоки крови по артериям города, где бьется вода под винтами десятков паромов, ежеминутно отчаливающих в разные районы на обоих берегах Босфора, сшибаются двухметровые волны, выхлопные трубы пароходов выплевывают сизый дым вперемешку с водой и с криком пикируют чайки на взбаламученную пену. На Галатском мосту уже зажигались огни, под яркими лампами бурлил Египетский рынок с полными лотками специй, призывала к вечерней молитве Новая Мечеть, и ей сверху эхом вторила азан сказочная воздушная мечеть Сулеймание. Вдоль пристани стояли жаровни, где продавали «балык-экмек», багеты с филе макрели на салатном листе, и мидии, нафаршированные рисом. От жажды жизни и полноты ощущений я умял два бутерброда, запив их свежевыжатым гранатовым соком, который продавал тут же из тележки меднолицый турок в феске, разрезая надвое большие гранаты и давя их прессом с длинным рычагом. Я купил и третий экмек, но уже не осилил его и поделился с ленивыми бездомными псами, обжившими центр Стамбула и ставшими городским достоянием – их тут берегут, чипируют, лечат, поят, и каждый желающий может их покормить из специальных автоматов, отсыпающих им в миски сухой корм в обмен на пустые бутылки. Большой добродушный пес с чипом в ухе понюхал булку, из вежливости взял кусок рыбы, подержал в пасти и уронил.
Пить кофе я отправился на полусонный вокзал Сиркеджи, расположенный в двух шагах от пристани, в затейливом здании в стиле модернистского ориентализма. В былые времена сюда прибывал «Восточный экспресс», но сегодня о былой роскоши свидетельствовали лишь ретроресторан и станционный колокол, когда-то возвещавший об отправлении и прибытии поезда. Вокзал был пуст, одиноко горели лампы на пустых столиках, бармен дремал, уронив на грудь гордый нос с роскошными усами – эпоха, несомненно, завершилась.
Наутро я проснулся в шесть от молитвы первого луча, голоса минаретов вступали один за другим в пронзительной полифонии. В моем мини-отеле завтрак так рано еще не подавали, и, подхватив рюкзачок, я выскользнул в утреннюю прохладу района Ортакёй – в лабиринт узких улочек, спящих рынков, книжных развалов, накрытых пленкой от ночной сырости. Кафе еще были закрыты, но на углу работала круглосуточная лавка с шаурмой, где подавали свежевыпеченные лепешки и пили чай из маленьких пузатых стаканчиков мусорщики и работники ночных смен. Я тоже взял чайник медного, густого чая с мятой и чабрецом и к нему «симит», горячий бублик с кунжутом, в который клали масло и сыр. Утреннее солнце дробилось на пятна сквозь листья платанов, и в глубине ветвей уже вовсю горланили птицы.
К парку Куручешме в районе Бешикташ стекались сотни людей, разминались на траве, мазались солнцезащитными и разогревающими кремами – вода в главном течении по фарватеру пролива будет холодной. У пристани нетерпеливо качались и фыркали катера, сверху жужжал рой операторских дронов, еще выше над ними завис вертолет. В 9 утра мы начали заходить на два трехпалубных парома, которые должны были отвезти нас к месту старта на причале Канлыджа на азиатском берегу: сотни людей разного возраста, пола и комплекции в плавках или купальных костюмах, шапочках и очках – часы, гаджеты, браслеты, кольца строго запрещены, так же, как и неопреновые гидрокостюмы, и маршалы зорко следят за этим на входе. На пароме везут твою голую жизнь, помеченную только номером на шапке и чипом на ноге, чистую человеческую экзистенцию, нервно вибрирующую от предстоящей встречи со стихией. Чувство беззащитной телесности усугублялось тем, что все были в одинаковых тряпичных тапочках, как в гостиничном номере, которые выдали организаторы.
Паром долго швартовался к стартовому понтону, в 10 часов была дана команда на старт, и мы медленно и торжественно, палуба за палубой, стали спускаться на понтон, один за другим прыгая в воду. Внизу оказался ковер из сброшенных белых тапочек: разбежавшись по нему, я услышал писк чипа и прыгнул солдатиком, придерживая очки руками, чтобы заплыв не закончился, едва начавшись. Вынырнув, я быстро отплыл вперед, чтобы не угодить под прыгающих следом, увидел впереди мост Султана Мехмета, и поплыл, ориентируясь на красный флаг в его среднем пролете. Довольно быстро я ощутил, что попал в прохладную воду, и это был хороший знак – попутное течение из Черного моря в Средиземное на 2–3 градуса холоднее встречных потоков и заметно быстрее, скоростью до 5 узлов, 9 километров в час. Оглядевшись вокруг, я обнаружил, что рядом почти никого нет – пловцы растянулись широким фронтом по проливу, каждый ловя свое течение и траекторию. Я был один на один с Босфором, в окружении мостов, ялы, мечетей, чинар и далеких холмов, что едва угадывались в дымке.
Сверху набежала густая тень, сразу похолодало: мы вплыли под мост. Но вот мы его миновали, а сумрак все не уходил – это набежали низкие облака и поднялся сильный встречный ветер, нагонявший волну. Пристрелянные ориентиры на берегу скрылись в пелене, а компьютера на руке не было, чтобы отмерить расстояние. Я начал считать гребки, чтобы понять, какую дистанцию проплыл и когда надо сворачивать к европейскому берегу по параболе – иначе течение унесло бы меня к Босфорскому мосту (переименованному пару лет назад в Мост мучеников 15 июля): под ним дежурили лодки спасателей, отлавливавших неудачливых пловцов, чтобы тех не унесло в Мраморное море, и возвращавших их на финиш с бесстрастной пометкой DNF (Did Not Finish) в протоколе. По плану я должен был начинать поворот напротив острова Галатасарай, но за волнами и моросью начинавшегося дождя он все не появлялся. А когда я наконец увидел европейский берег, то был уже напротив двух больших желтых буев, обозначавших финишный створ, и течение неумолимо несло меня мимо них к мосту.
Повернув под 90 градусов, я начал изо всех сил грести на берег, но желтые шары уходили все правее, и я уже думал оставить борьбу и сдаться на волю течения, доплыв до спасателей, как вдруг почувствовал, что тяга его ослабла и вода потеплела: я попал в противоток из Мраморного моря в Черное, который начал потихоньку нести меня к финишу. Еще несколько минут напряженной, до судорог в ногах, работы, и я приближаюсь к финишному понтону с лесенками, но возле него встречное течение особенно сильное и сносит меня вверх. Вместе со мною борются еще десяток пловцов, мы гребем бок о бок, задеваем друг друга руками – тут я понял, почему нельзя брать с собой часы – кто-то цепляет меня за лодыжку, одновременно я получаю удар пяткой в ухо, но все же подбираюсь к спасительному поручню, хватаюсь за него ослабевшими руками и вытаскиваю себя наверх. Меня подхватывают сильные руки, снимают чип, укутывают полотенцем, я унимаю стучащие зубы и что-то отвечаю на вопросы, а сам смотрю на разволновавшийся серый пролив, на разрозненные группы пловцов, сражающихся с течением перед понтоном, на укрытые одеялами тела, что лежат под капельницами в палатке медиков – и ко мне приходит ощущение финиша и масштаба всего того, что произошло. Нам обещали увеселительный заплыв по течению, а в итоге получился античный эпос с битвой стихий.
Позже я узнаю, что встречное течение оказалось небывало сильным, как бывает раз в десять—пятнадцать лет, и те, кто заходил на финиш по правильной глиссаде, не могли с ним справиться и гребли на месте по 30–40 минут, пока не лишались сил и не поднимали из воды руку с шапочкой, сигнализируя спасателям; в результате почти треть участников, 700 человек, не смогли финишировать или не уложились во временной лимит в 2 часа. А мне, напротив, повезло: потеряв в непогоду ориентиры, я гораздо позже свернул на финиш, и в итоге противоток мне помог. Дождь припустил сильнее, перешел в ливень, и я пошел в раздевалку, сочувствуя сотням людей, еще борющихся с волнами. Мое итоговое время было 1 час 20 минут – на десять минут медленнее, чем у Байрона, покорившего похожую дистанцию больше двухсот лет назад, без спасателей, вертолетов и плавательных очков.
4Байрон был не только первоклассным пловцом, но во время учебы в Кембридже преуспел также в верховой езде и боксе – необходимых умениях истинного джентльмена – не отказывая себе, впрочем, в попойках, кутежах и картежной игре, отчего постоянно залезал в долги. Он стал иконой своего времени, на многие десятилетия вперед задав западной культуре образ бунтаря-одиночки, бросившего вызов обществу, власти и филистерской рутине – но также и физическим пределам организма. Герой времени был романтическим мечтателем не только с тонкой душой, но и с закаленным телом. Спорт входит в кодекс джентльмена как основа, на которой развивается деятельная, предприимчивая и гармоничная личность эпохи.