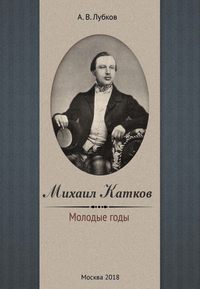
Михаил Катков. Молодые годы
Круг друзей и знакомых
– Москва! – Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси – бездомный.
Мы все к тебе придем…
М. Цветаева. 1916 годПочти за век до появления этих строк о Москве здесь родился Михаил Катков, у которого в родном городе на протяжении многих лет не было собственного дома. Были – бездомность и безотцовщина, но не было сиротства. Русский человек, как писал Георгий Федотов, «был сыном Великой Матери, лишенным отца»[30], имея в виду предстояние всякого православного перед Господом и его неразрывную духовную связь с Богородицей и Матерью-Церковью. И всегда в душе Михаила Никифоровича Каткова были Отечество и Москва, в которой жили добрые знакомые и друзья матушки, предоставлявшие кров и помогавшие кто чем мог бедному семейству, оставшемуся без отца-кормильца.
В течение жизни Катков, особенно в детстве и молодости, не раз менял московские адреса, обретая пристанище. Как только Миша подрос, Варвара Акимовна по праздникам стала брать его с собой к княжне Анне Борисовне Мещерской, иногда они гостили у Яковлевых, у княгини Хованской и Голохвастовых[31]. Друг с другом эти семейства общались по-родственному и были соседями.
Дом княжны Анны Борисовны находился на Малой Бронной, и его не тронул пожар 1812 года, тогда как дом княгини Марьи Алексеевны Хованской сгорел. До постройки или покупки нового княгиня Марья Алексеевна со всеми домочадцами и многочисленной прислугой поместилась у княжны, в деревянном флигеле с мезонином, на одном дворе с большим домом княжны, который после смерти Анны Борисовны и достался Марье Алексеевне в наследство. Голохвастовы жили рядом, их усадьба была отделена садом от двора княжны Мещерской и своим фасадом выходила на Тверской бульвар. Когда-то, если въезжать на бульвар с Арбата или Пречистенской площади, это было второе здание по левой стороне. Сейчас в сохранившемся, но полностью измененном и перестроенном доме (Тверской бульвар, 13) трудно узнать бывший особняк Голохвастовых (с 2012 года в нем размещается аппарат партии «Гражданская платформа»).
Княжна Анна Борисовна, как писал Герцен, была «набожна и благочестива»[32] и старалась всегда помочь ближним. Родственники и знакомые навещали пожилую княжну, но оставались не подолгу, чтобы не затруднять и не обременять ее. Входили к ней, не нарушая заведенного порядка, вполголоса говорили и, почтительно поцеловавши у нее ручку, удалялись едва слышными шагами.
Татьяна Петровна Пассек в своих мемуарах оставила очень ценные воспоминания о мальчике Мише Каткове, с которым она встречалась в хлебосольном доме княжны А. Б. Мещерской. Она отмечала, что «маленький Миша» спокойно и тихо входил в спальню Анны Борисовны, «как будто сочувствуя царившей в ней полной, глубокой тишине. Стены ее были обтянуты зеленым штофом, а пол зеленым сукном, по которому детских шагов его не было слышно. В этой комнате, на диване, против небольшого стола, всегда сидела или лежала старушка уже княжна, а по противоположной стенке шел ниш, одной ступеней выше; там стоял широкий, пуховый диван, на котором, спала княжна, а над ним в головах киот со множеством образов в богатых окладах, сиявших драгоценными каменьями. Перед образами теплилась неугасимая лампада. Посетители, входя, должны были сделать перед образами три земных поклона и затем поздороваться с нею»[33].
Княжна, часто жалея ребенка, думая, что он скучает в обществе взрослых, обращалась к матери Каткова: – Позволь, Варвара Акимовна, Мише поиграть в зале и в гостиных. – и посылала свою пожилую служанку Костеньку присмотреть за мальчиком. И Миша «молча уходил» бродить по пустым залам[34].
«После обеда, – продолжала Пассек, – Мишу снова отправляли поиграть и побегать в большие парадные комнаты, водили посмотреть обезьянку, сидевшую на цепочке на выступе печи девичьей, или Аресо, попугая в бронзовой клетке, болтавшего и дико кричавшего иногда в зале.
В этих комнатах всё напоминало давно отжившие времена: огромные люстры с пожелтевшими от времени, точно дымчатые топазы, хрустальными подвесками; фигурные подзеркальники перед узкими зеркалами между окон, фамильные портреты по стенам, сделанные гуашью, всего семейства Яковлевых в их молодости, пуховые диваны с подушками и едва слышные шаги проходившей иногда прислуги. Всё это как-то совпадало в тон с тихим, точно погруженным в самого себя ребенком. <…> Я всегда брала тарелочку разных сластей и относила в парадные комнаты Мише, которого в них не было слышно; так-то он резвился, что не трудно было беречь его. Большею частью я находила его, что он сидит, облокотившись у окна и смотрит на палисадник перед флигелем во дворе, где жила княгиня Хованская с семейством, после 1812 года, когда сгорел ее дом. В этом палисаднике было несколько тенистых деревьев, а большая аллея была окаймлена черной смородиной и множеством розовых кустов. У меня было тут любимое местечко, где я часто сидела и читала. За палисадником шел направо небольшой огород, засаженный капустой, тыквой, морковью и другими овощами. А налево от него развалины, после двенадцатого года, огромного дома Неклюдовой.
Летом я иногда водила гулять Мишу в палисадник и заходила на огород, где мы лакомились морковью, вырванной с гряды, репою, редиской. Зимою же я заставала Мишу на диване у столика, обнесенного бронзовою решеткой, кроме небольшого выема, на котором он читал разложенную книгу и смотрел картинки. Иногда я заставала его перед фамильными портретами, которые он внимательно рассматривал.
– Узнаешь ли ты, Миша, кто это молоденькая девушка с розою в голове, в растрепанных напудренных волосах? – спрашивала я, указывая на княжну Марью Алексеевну Хованскую. – А вот этот стройный молодой человек в щегольском мундире – Иван Алексеевич, которого ты видишь теперь в валенках и теплой фуфайке, а вот и княжна Анна Борисовна с напудренными волосами, и как она приветливо смотрит»[35].
Атмосферой уходящего времени и глубоким психологизмом наполнены строки Татьяны Петровны Пассек. Перечитывая их, современный исследователь приходит к выводу, что в «образе маленького Каткова уже проглядывает та особенность его натуры, которая, как мы увидим в дальнейшем, неизменно отмечалась всеми, кто его близко знал, – внутренняя углубленность, граничащая с отрешенностью, которая и позволила ему в зрелом возрасте на протяжении многих лет успешно совмещать редакторство в крупном литературно-аналитическом журнале и ежедневной газете. Редакторское поприще сделало Каткова на несколько десятилетий невольным затворником, не имеющим времени не только для светской жизни, но подчас и для общения с семьей»[36].
Как и у любого человека, мир детства Каткова был уникален, он был открыт для знакомства с разными людьми, как правило, со взрослыми, с их особыми характерами, привычками и судьбами, поэтому общение с ними приучало мальчика держать дистанцию. Но и запоминалось, рождало в нем проникновенное и уважительное отношение к старшим, к старине, к заведенным порядкам, соблюдаемым в домах, где они бывали с матушкой. Маленькому Мише дозволялось и пошалить, и поиграть в комнатах и залах, но он старался охранять тишину, прислушивался к ней, был внимательным ко всему окружавшему его: к портретам на стене, к природе за окном, к самому себе. Внутренней сосредоточенности способствовало одиночество. А оно порой ведет к индивидуализму, одной из граней которого может стать ранимость, повышенное чувство собственного достоинства.
Наверное, не случайно Т. П. Пассек в своих воспоминаниях обращает наше внимание именно на эти особенности поведения Каткова и приводит их вполне сознательно потому, что «каждого человека и его труд, – подчеркивает она, – можно вполне понять только в связи со всей его жизнью, а Катков выдвинулся из ряда вон»[37].
И вместе с тем любая взрослеющая душа подобна расширяющейся вселенной, в которой сокрыты свои тайны и загадки и проистекают сложные, неизвестные процессы. Что не могла не отметить проницательная Татьяна Петровна: «В умных чертах маленького мальчика меня поражали глаза его, – бледно-голубые, до крайности прозрачные, временами точно с изумрудным отливом и со взором до того как бы погруженным внутрь самого себя, что не знаешь, что в нем таится»[38].
Какие образы рождались в этих глубинах, какие мечты и грезы возникали в сознании бедного, скромного мальчика, росшего в материнской любви и ласке? Какие пути и дороги угадывались ему в его будущей жизни, когда он, сидя у окна, смотрел на цветы в палисаднике старого московского дворика?..
Вспоминая детские годы, Катков признавался в письме к брату, что «отделенность от людей, от живых общественных отношений, беспрерывное чтение рано разыграли во мне мечту и фантазию, а потом пошли потехи, и действительная жизнь приняла меня как водоворот»[39].
Среди того небольшого круга родных и близких, знакомых с детства людей, признательность и благодарность к которым Михаил пронес через всю жизнь, была семья князя Петра Ивановича Шаликова (1768–1852), родственника Варвары Акимовны. У князя-поэта постоянно собирался кружок известных литераторов, в нем позднее блистала его старшая дочь княжна Наталия Петровна, отличавшаяся умом, образованием и талантом. Н. П. Шаликова (1815–1878), первая в России женщина-журналистка, была на семнадцать лет старше своей сестры Софьи Петровны (1832–1913), будущей супруги Михаила Никифоровича Каткова. Будучи взрослее Миши, юная княжна Наталия любила с ним беседовать, находя его развитым и начитанным не по летам[40]. Впоследствии она сотрудничала в изданиях своего зятя и подолгу оставалась жить в его семье, ставшей для нее родным домом. И похоронена она была на кладбище московского Алексеевского монастыря в Красном селе, где упокоилась ее мать княгиня А. Ф. Шаликова (1867)[41] и был погребен М. Н. Катков и его верная спутница жизни Софья Петровна, обретшая рядом с ним в семейном склепе свой вечный покой…
Князь П. И. Шаликов, издатель «Дамского журнала», в течение 1823–1828 годов шесть раз на страницах размещал заметки о бедственном положении «бесприютной, не имеющей никакой опоры, вдовы с малютками сиротами», представляющей собой «самую трогательную картину взорам сострадательности и милосердия.», призывая присылать на ее адрес благотворительные частные пожертвования[42].
Мог ли предположить тогда искренний последователь русского сентиментализма, что его трогательная забота проявлена по отношению к будущему зятю, отцу его будущих внуков? Случайных совпадений не бывает. Став издателем «Дамского журнала», князь покинул свой скромный дом на Пресне, чудом сохранившийся после пожара 1812 года, и справил новоселье на Страстном бульваре. Он поселился на втором этаже редакторского корпуса университетской типографии[43], там, где через полвека стала жить семья Каткова, дети и внуки Шаликова.
Колоритная фигура князя Шаликова была весьма заметной и популярной в городе. Его часто встречали прохаживавшимся на бульварах:
С собачкой, с посохом, с лорнеткойИ с миртовой от мошек веткой,На шее с розовым платком,В кармане с парой мадригалов. —шутливо рисовал его портрет Пётр Андреевич Вяземский.
Но простые горожане-москвичи по-своему любили князя-стихотворца, прощали ему чудачества и ценили за добросердечие, любезность и простодушие. Снисхождение проявляли они и к его творчеству, вызывавшему немало насмешек, слухов и эпиграмм, но где всегда находилось место возвышенному чувству, благородству и чистому человеческому порыву.
Пётр Иванович Шаликов был сыном небогатого грузинского князя, получил домашнее воспитание, затем служил кавалерийским офицером, участвовал в турецкой и польской войнах. Он вышел в отставку премьер-майором гусарского полка в 1799 году и поселился в Москве, променяв гусарскую саблю на лиру. Первые стихотворения Шаликова появились в 1796 году в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» и в «Аонидах». Тогда же, по-видимому, состоялось знакомство его с Иваном Ивановичем Дмитриевым (1760–1837), видным государственным деятелем, поэтом и баснописцем, и с Николаем Михайловичем Карамзиным (1766–1826), первым писателем и будущим историографом российским, коих Шаликов почитал всю жизнь как своих учителей.
Еще до Отечественной войны 1812 года князь Шаликов прослыл поборником защиты общественных нравов. В редактируемом им в эти годы журнале «Московский зритель» он с негодованием писал о падении морали «почтеннейшей публики», падкой на сомнительные мимолетные удовольствия с «нимфами радости» и «Венериными жрицами». Он с негодованием отзывался о представителях высших классов, тратящих попусту время в дорогих заграничных магазинах на Кузнецком мосту и ресторанах – «школах разврата», как он их называл. Всё это наносило урон просвещению общества, за которое горячо ратовали Карамзин и другие уважаемые им авторы[44].
Хранитель твердых устоев и благовоспитанности москвичей князь проявил себя во время войны с Наполеоном, отказавшись выехать из города, захваченного неприятелем. То ли из-за недостатка средств, а может быть, и по другим, не менее значимым причинам, он остался в Москве, став очевидцем событий разорения и пожара древней столицы России. В 1813 году Шаликов написал и издал брошюру «Историческое известие о пребывании в Москве французов». Но литературную популярность принесли ему изящно изданные «Плоды свободных чувствований» и продолжение их – «Цветы граций», в которых сентиментальные прозаические миниатюры перемежались с чувствительными стихами, – всё это было вполне на уровне своего времени и в некоторых кругах, несомненно, пользовалось успехом. Его товарищами и приятелями были К. Н. Батюшков, Д. В. Давыдов, И. И. Козлов, И. А. Крылов, В. Л. Пушкин, а имя самого Шаликова тоже по разным поводам было хорошо известно современникам.
Характерно, что А. С. Пушкин, неоднократно смеявшийся над ша-ликовской чувствительностью в сатирических стихах и дружеской переписке, отзывался о нем как о поэте совсем не враждебно. Так, в первом издании «Разговора книгопродавца с поэтом» (1825) поэт, отказываясь петь для «женских сердец», отвечает книгопродавцу:
Пускай их Шаликов поет,Любезный баловень природы.В письме к Вяземскому Пушкин сам комментировал этот стих как «мадригал кн. Шаликову» и прибавлял при этом: «Он милый поэт, человек достойный уважения… и надеюсь, что искренняя и полная похвала с моей стороны не будет ему неприятна»[45]. Шаликов относился к Пушкину с неизменным благоговением. В «Дамском журнале» помещено немало стихотворений, обращенных к автору «Евгения Онегина» и «Полтавы». Личное знакомство Пушкина и Шаликова могло произойти в 1827 году в доме В. Л. Пушкина, где Шаликов бывал очень часто. В творчестве своем – и в прозе, и в стихах – Шаликов старался подражать Карамзину, который покровительствовал Шаликову, называл его «добрым» и защищал от насмешек друзей-литераторов.
Наделенный характерной внешностью (невысокого роста, худощавый, с большим носом, черными бакенбардами, в зеленых очках), Шаликов подчеркивал свою оригинальность эксцентричностью одежды, витиеватой речью и неестественной манерой держаться – он всё время разыгрывал роль «вдохновенного поэта». Кроме того, он обладал самолюбивым и отнюдь не простым нравом, чем и наживал себе множество врагов, был, по свидетельству П. А. Вяземского, «вызываем на поединки» и навлекал на себя злые эпиграммы[46].
Умер Шаликов 16 февраля 1852 года в своей небольшой деревне Серпуховского уезда, глубоким стариком, едва ли не последним из представителей русского сентиментализма. Его похоронили в Серпухове, в пределах Высоцкого мужского монастыря[47], на крутом берегу Нары, неподалеку от ее впадения в Оку. На следующий год его дочь Софья Петровна вышла замуж за Михаила Никифоровича Каткова. Но ни князь, ни мать Каткова не дожили до свадьбы детей, и им не суждено было увидеть своих многочисленных внуков, рожденных в этом браке.
Еще одно обстоятельство заслуживает внимания. Князь Шаликов и Катков в разные годы редактировали «Московские ведомости». Газета выходила с 1756 года два раза в неделю и являлась печатным органом Московского университета, но фактически была общегородской. Поистине всероссийскую и всеевропейскую славу издание приобрело благодаря таланту, энергии, организаторским способностям и стараниям Каткова. Но именно на время руководства газетой князем Шаликовым приходится и первый заметный рост ее популярности среди москвичей в XIX веке.
Место редактора «Московских ведомостей» князь получил после окончания войны, по протекции министра юстиции И. И. Дмитриева, и руководил газетой в течение 25 лет (1813–1838). О чем только не писали на ее страницах. Здесь размещались и указы императора, и государственные установления, и новости из-за границы, и светская хроника, и всевозможные объявления. Так, летом 1818 года читатель мог уточнить подробности пребывания в Первопрестольной прусского короля Фридриха Вильгельма III, прочитать о том, что итальянец Финарди «наконец представит на лошади пьяного драгуна в весьма забавном виде», ознакомиться с «Опытами о лечении чахотки смоляными парами», узнать о чрезвычайном собрании Общества любителей российской словесности, о концерте известного музыканта Фильда, о том, что в трагедии «Танкред» будет играть госпожа Семёнова, а за оною трагедией «последует дивертисман».
Или о том, что все восемь томов «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина можно приобрести у книготорговца Глазунова за 80 рублей[48].
Москва, 1818 год
1818 год запомнился москвичам чередой разных событий, больших и малых, знаменательных, важных и неприметных. Город постепенно восстанавливался после пожара 1812 года, хотя следы его еще долго были заметны во многих местах. Большие обгорелые дома зияли глазницами окон без рам. Целые кварталы, огороженные заборами, стояли без крыш, с обвалившимися стенами, а на пустырях виднелись остатки печей и труб на них. Всюду шла работа, большая стройка охватила город. Москва возрождалась из руин. Поднимались в своем достоинстве и красоте московские соборы, и звон колоколов сорока сороков вновь наполнял сердца москвичей благодатью и радостью.
На Святой неделе, в среду, 17 апреля, в 11 часов утра в Кремле, в Архиерейском доме Чудова монастыря в семье великого князя Николая Павловича родился старший ребенок, крещенный в честь августейшего дяди Александром.
Поскольку у старших братьев Николая Павловича законных наследников не было, то новорожденный младенец воспринимался как вероятный восприемник престола и будущий русский император. Именно такой ясный и внятный порядок передачи трона по нисходящей мужской линии в доме Романовых был установлен императором Павлом Петровичем в законе о престолонаследии 1797 года. Согласно этому документу, монархический принцип, освященный Промыслом Божиим, возводился в закон Российской империи, которому царствующий государь и все его подданные должны были неуклонно следовать. Как представлялось его автору, лишенному по деяниям своей матушки законного права на престол и ожидавшему своей очереди у трона более тридцати лет, таким образом создавались непреодолимые преграды на пути любого человеческого своеволия.
…Бедный, бедный Павел…
Вся императорская фамилия в эти апрельские дни встречала Пасху в Москве. Рождение младенца в великокняжеской семье придавало особый смысл празднику Светлого Воскресения Христова. По счастливому поводу был дан салют из 201 пушечного залпа. Так уж случилось, что Александр II был и остается единственным уроженцем Москвы, стоявшим во главе Российского государства с 1725 года.
Катков угадывал знак судьбы в факте появления на свет будущего цесаревича и своего собственного в один год, в один день недели (в среду) и в одном городе – Москве. В известном письме государю (1866) он отмечал это обстоятельство. История принца и нищего на русской почве виделась ему как указание свыше, предвосхищение пересечения жизненных дорог сына бедного чухломского дворянина и его венценосного сверстника. Увы, в чем-то очень похожей оказалась и посмертная память потомков.
Москвичи – земляки Александра II – повторно удостоили царя-освободителя бронзового памятника лишь в 2005 году. Его автор скульптор Александр Рукавишников планировал установку памятника в Кремле, там, где находился торжественно открытый в 1898 году первый памятник государю работы А. М. Опекушина, Н. В. Султанова и П. В. Жуковского, сброшенный с пьедестала большевиками в 1918 году, ровно сто лет спустя после рождения будущего царя-реформатора. По разным причинам новый памятник решили установить в сквере Храма Христа Спасителя. Избежать исторических аллюзий не удалось и на этот раз. Ведь практически на том же месте был поставлен (1912) и простоял всего лишь шесть лет бронзовый образ Александра III (также работы А. М. Опекушина). Снос с постамента фигуры государя-миротворца запечатлели объективы фото- и кинооператоров. Эти кадры были многократно растиражированы потом в своих целях советскими властями, решившими на этом месте воздвигнуть монумент «Освобожденному труду».
Память о Каткове в Москве не увековечена. До сих пор в городе нет ни одного мемориального знака, а усыпальница семьи и близких варварски уничтожена в конце 1920-х годов.
Бронзовые изваяния и благодарность соотечественников не всегда следуют друг за другом. Провалы и разрывы памяти случаются не только с отдельными людьми, но и с целыми народами. Ниспровержение былых кумиров опрокидывает и что-то внутри нас. Но неведомые повороты истории возвращают на круги своя национальных героев, восстанавливая их на заслуженном пьедестале.
Преходящее отступает – нетленное остается. Вечность – сильнее времени.
В том же 1818 году, 20 февраля, в Москве торжественно открыли памятник Минину и Пожарскому.
Памятник этот всегда в нашем представлении о Москве не просто достопримечательность столицы, украшение и доминанта Красной площади, сердца города, а гораздо большее – зримое воплощение непрерывности русской истории и ее героического эпоса, сопричастного с душой каждого нашего соотечественника, российского гражданина.
Катков, будучи уже в зрелых годах, в своей статье «Заслуга Пушкина» (5 июня 1880 года) накануне открытия памятника поэту на Тверском бульваре попытался соединить два контрапункта как части единой симфонии в пространстве города: «В Москве на Красной Площади, – писал он, – высится памятник Минину и Пожарскому. Их деяние золотыми буквами вписано в русскую историю, и воздвигнутый памятник будит в нас высокое чувство народного самосознания и веру в Промысел, управляющий судьбами нашего отечества. То было в смутную пору нашей истории, с лишком три с половиною века назад. Прервалось преемство царского рода: власть, так тяжко собранная и возвеличенная, утратила свою святость, переходя из рук в руки путем преступлений, обмана, измены. Государство зашаталось. Русская земля, казалось, погибла. Иноземный враг уже владел Москвою. И вот тут-то на голос простого человека из народа встала вся Русская земля. Всё поднялось, всё вооружилось; всё несло достояние и кровь свою за веру и отечество. Великое, беспримерное народное движение, исполненное силы и духа и вместе смиренное духом, простое и некичливое в своем величии! Иноземный враг был посрамлен и изгнан, крамола раздавлена, государство спасено, и верховная власть бережно и без ущерба передана избраннику всей земли Русской, родоначальнику нового царствующего дома, открывшего новую эру в истории нашего отечества. И вот в Москве, колыбели русского единовластия, поставлен памятник вождям свободного народного подъема, которым спасено было Русское государство и в котором впервые сказалось несокрушимое единство нашего народа и его дух, воспитанный церковью»[49].
Прошло двести лет после изгнания поляков из Москвы, а русско-польская тема приобрела совершенно новое выражение.
В марте 1818 года Александр I выступил на открытии польского сейма, посулив Польше новые земли, а России – конституцию наподобие польской. За два года до этого акта 15 ноября 1815 года Александр I утвердил Конституционную хартию Царства Польского, согласно которой оно становилось неотделимой частью Российской империи; российский император объявлялся наследственным польским королем, а его власть ограничивалась хартией. Она провозглашала равенство всех перед законом, неприкосновенность личности и собственности, свободу вероисповедания, печати и другие гражданские права, разделение властей, относительно демократичную избирательную систему и т. п. Управление Царством Польским осуществлялось наместником при участии двухпалатного сейма. Поляки получали то, что русские либералы и радикалы-революционеры из дворян, каждый по-своему примеряли в качестве образцовой модели общественно-политического устройства России.
Среди принципиальных противников либеральных реформ Александра I был Николай Михайлович Карамзин (1766–1826). Еще до Отечественной войны 1812 года он сблизился с великой княгиней Екатериной Павловной, возглавлявшей аристократическую оппозицию правительственному курсу. В Твери в ее «Очарованном замке» он читал главы из первых томов «Истории государства Российского» и в феврале 1811 года по ее просьбе составил «Записку о древней и новой истории России в ее политическом и гражданском отношениях» – своеобразный меморандум, трактат русского консерватизма, вызванный его неприятием преобразовательных планов Сперанского. «Мы стали гражданами мира, перестав при этом быть гражданами России»[50], – с сожалением признавал Карамзин.

