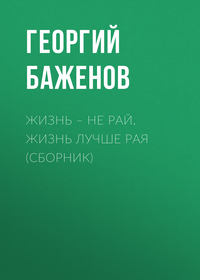
Жизнь – не рай. Жизнь лучше рая (сборник)
Первое время, когда Авдей оказался на ферме, работать устроился механизатором. Позже стал скотником. Еще позже, с открывшимся ревматизмом в ногах, – сторожем. Сторожем работал поныне…
Полина застала отца дома; только он, видно после ночного дежурства, полулежа-полусидя дремал на топчане, в заветном закутке близ печи. «Дыхание стало сбивать, – говаривал он не раз, объясняя, почему спит полусидя, – дышать трудно. А так вроде полегче…» Когда хлопнула входная дверь и Полина вошла в дом, отец, не меняя позы, не шевельнувшись, привычно открыл глаза – сторож всегда, даже если спит, глаз и слух держит начеку – и, узнав Полину, успокоился, вновь прикрыл глаза.
Полина, окинув намётанным взглядом жилье отца – грязновато, конечно, неухоженно, – тут же, не сказав отцу и слова, подхватила в углу веник, совок, побрызгала немного на пол водицы и давай для начала заметать к печи мусор.
– Ну, приехала опять – пыль подымать… – пробурчал, не открывая глаз, Авдей Сергиевич; пробурчал скорее ворчливо, чем недовольно.
– Не болеешь ли? – не обращая внимания на слова отца, просто спросила Полина, продолжая свое дело.
– А ты вылечить можешь? – усмехнулся Авдей Сергиевич.
– Да ну тебя! – махнула рукой Полина и, закончив подметать, выскочила в подворье, налила из бочки ведро дождевой воды, стянула с забора ссохшуюся каракатицей половую тряпку и легко, с полнёхоньким ведром влетела в дом.
Авдей Сергиевич уже привстал с лежанки, сидел на топчане, свесив босые ноги над крашеным полом, зевал; Полина, скинув блузку и закатав подол юбки («Отца бы постыдилась», – тем же ворчливым тоном пробурчал Авдей Сергиевич, на что Полина, нимало не стесняясь, брякнула: «Поди и нагишом видал, не растаешь, твоя кровиночка…»), начала замывать полы. Доски еще были крепкие, дюжие, а главное – тщательно прокрашенные, пропитанные олифой, – заблестели как умытые, как только Полина прошлась по ним даже и по первому разу. А мыла Полина всегда в два приема, так что, когда прошлась по досочкам еще раз, вся изба, казалось, засветилась ровным солнечным светом, – пол был выкрашен в тугой желтый цвет и, помытый, начинал словно гореть внутренним жарким огнем. Отец, осторожно обходя Полину – а работала она всегда широко, размашисто, не дай Бог попасть под горячую руку, еще и шлепнуть может шутя мокрой тряпкой, – зашел в закуток, который считался кухней, – печь, да стол, да пара табуреток, да крохотное окошко, глядящее на огород, – включил электрическую плитку, поставил чайник. Заглянул в осколок зеркальца, висевший тут же, на кухне, и, взяв расческу, привел в порядок бороду; на голове, пожалуй, упорядочивать было нечего: почти голый, блестящий череп, а вообще – большая окладистая седая борода да пара въедливых, углистых, серьезных глаз – вот и весь облик Авдея Сергиевича Куканова.
– А что, Полина, – уже веселей проговорил отец, – Женька-то твой жив-здоров, не хворает?
– Чего ему сделается, – тяжело, с придыханием – работает ведь, – ответила Полина. – Целыми днями на улице пропадает, – и, переведя дыхание, отжала тряпку. – Ох, и балбе-е-ес растет, ну балбес…
– Это вот и Петька жалуется. А я посмотрю, нисколько Серега не хужее отца, Петька-то сорванец похлеще был, куда там…
– Как живут-то они? – спросила Полина, сдувая мокрую прядь со лба.
– Да как живут… так и живут, – хитро ответил Авдей Сергиевич. – Живут да любятся, ругаются да мирятся.
Полина рассмеялась:
– От нашего недалеко ушли. Ох-хо-хо, грехи наши…
Закончив с мытьем полов, Полина принялась протирать пыль, облазила все потаённые местечки и уголки («Ну, Мамаево побоище…» – опять проворчал отец, на что Полина не обратила и внимания), и вот, кажется, не прошло и получаса, как появилась на пороге Полина, а изба будто обновилась, ожила, задышала уютом, светом и чистотой. Изба, конечно, у Авдея Сергиевича была невелика: как входишь – направо кухня, а прямо по ходу – одна-единственная комната: и спальня тебе здесь, и столовая, и гостиная… Причем кухня от комнаты отделялась не столько стеной, сколько русской печью, которой отец гордился и ни за что не хотел ломать, хотя на ферме не раз предлагали провести в дом паровое отопление; особенно настаивал на этом Петька, Петр Петрович Куканов, ставший к этому времени заведующим фермой, женившийся, естественно, и окончательно отделившийся от Авдея Сергиевича. (А Елизавета, Лизка-говорунья, лет семь как померла…) Настаивал-то Петька, видно, потому, что стыдил себя за Авдея Сергиевича: все люди как люди живут, у всех удобства, тепло, у него самого, у Петра Куканова, квартира не хуже городской будет, а отец на тебе… Одно выручало Авдея Сергиевича – уважал его Петька, особенно не тормошил; как началось еще уважение с давних пор, с памятного угощения хворостиной, так и продолжалось поныне…
Авдей Сергиевич заварил крепкого, «как самосад», говаривал он сам, чая, и хотя Полина не была настроена гонять чаи, совсем другое было на уме, но тут она с радостью согласилась: не посидишь с отцом спокойно, не поговоришь степенно – считай, зря приезжала, ничего от него не добьешься. А тут – тем более – дело такое деликатное…
Говорили о том о сем, Полина раскраснелась – поначалу от работы, а теперь еще от заваристого чая, пышущего ароматным духом крепости и сласти, и отец Полины то ли любовался ею, то ли просто радостно чувствовал в ней свою породу, во всяком случае смотрел на нее веселым, лукавым, как бы даже подначивающим взглядом: ну-ну, посмотрим, на что ты еще мастерица, поглядим… А когда услышал между прочим, что Полина в это лето успела побывать у Зои, у сестры, это черт-те сколько от Урала будет – тыщи километров, то и в самом деле удивился. Тут удивление-то было не только в том, что побывала, а что подхватилась как угорелая в отпуск за свой счет и айда мотаться по России, в далекую Зоину сторонушку…
– Знать, пригорело там, – усмехнулся Авдей Сергиевич. – Вот Варвара бы и поехала, так нет, все тебя черти носят.
И Полина, почти счастливая (но не показывая этого), что разговор повернулся в эту сторону и что отец сам помянул имя матери Варвары, как бы между прочим обронила:
– А здоровье?
– Чье здоровье? – не понял Авдей Сергиевич.
– А здоровье у матери Варвары? Каково ей ехать-то?
– Да она здоровая, как лешак, а то я не знаю… – Голос у отца сразу зазвенел твердостью и неудовольствием.
– «Как лешак»… – передразнила Полина. – И откуда только слова такие берутся?
– А из души, – обронил Авдей Сергиевич.
– «Из души»… – опять повторила его слова Полина. – А сам небось уж сколько лет не видал ее?
– Кого? Душу-то? – усмехнулся, но не весело, а недовольно отец.
– Да не душу, а мать Варвару.
– А я думал – душу. Душу-то людскую попробуй высмотри. Вот как плюнут в нее – тут она сразу на виду делается…
– Так и не плюй на других.
– Это я, значит, в кого плюнул?
– Да ни в кого, а так, к слову…
– Если ты о Варваре говоришь, так на нее я плюю и даже извинения не прошу.
– Отец…
– Вот тебе и отец! – Глаза у Авдея Сергиевича налились темным угольковым светом – сразу стал виден весь его строгий, непримиримый характер; попробуй обхитри, свороти такого.
Но Полина и сама была характером в отца, решила – раз уж настала такая минута, не надо и кривить душой, а лучше выложить в конце концов, зачем к отцу пожаловала; сам-то он не спросит – гордый, куда там…
– Из Свердловска-то я знаешь зачем приехала? – спросила Полина после некоторого молчания.
– Откуда ж знать… – поуспокоившись, но все еще ворчливо проговорил отец.
– Мать Варвару перевозила.
– Куда перевозила? – не понял Авдей Сергиевич.
– Дом-то наш совсем сгнил, жить невозможно, а тут как раз под снос попал. Завод расширяется, площади нужны под новые цеха. Дали матери Варваре квартиру однокомнатную; вот приехала, перевезла ее…
– А я при чем?
– При чем, при чем! – вспыхнула Полина. – Что вы как звери окаянные. А при том… думала, может, съездим к ней, посидим, новоселье отметим…
– И это ты мне говоришь?!
– Тебе. Кому еще.
Авдей Сергиевич как-то оскорбленно-осуждающе, будто пристыживая дочь, покачал головой:
– Эх, как ни кругла бабья голова, а все же больше на кочан капусты похожа… Да чтоб я к Варваре поехал?! Я?! Да ты ответь, на кой хрен она сдалась-то мне? Ну?
– Так и помрете врагами?
– Да не враг она мне, не враг. А так – тьфу! Пустое место. Поняла или нет?
– А я-то думала, ты хоть к старости смягчишься… Как сычи, спрятались по разным углам. Сидят, лупят глазами, эх, ну и люди!
– Я ни от кого не прятался… Я, как видишь, живу здесь, у всех на виду, кому надо – двери мои всегда открыты. А что ты с этой выжившей из ума возишься – это твое дело. Доброе-то слово от нее слышала хоть раз в жизни? Ты ей – и то, и это, и пятое, и двадцатое, и в квартиру вон новую перетащила, а она небось опять тебя костит?
– Костит, – охотно согласилась Полина, чтоб хоть как-то разрядить разговор, и улыбнулась покаянно – рассеянно.
– И поделом тебе! – тряхнул седой бородой Авдей Сергиевич, но в глазах его – это было видно – угольки несколько поугасли, подернулись успокаивающей дымкой.
– А чаю-то нальешь еще? – улыбнулась Полина. – Или все, вконец осердился?
– Эх, Полинка ты, Полинка, добрая душа… – совсем, кажется, отходя от гнева, проговорил отец, взялся за чайник, налил сначала крутой заварки, а потом плеснул кипятка. – Женьку-то чего не везешь сюда? Лето!
– Да в лагерь на днях поедет. А сюда его, хоть тресни, калачом не заманишь.
– Не любит нашенские места?
– Да разве в том дело? К бабке, говорит, приедешь – ворчит на деда, к деду приедешь – чтоб о бабке ни слова не скажи…
– Подрастет – разберется, – безразлично обронил Авдей Сергиевич. – Какие его годы…
– Да и Борька, дурак, тоже его науськивает. Перед тобой, говорит, светлая чистая жизнь, а там ты как в яме какой… Берегись, Женька, стариков да старух, из ума выживающих…
– Муж твой, Борька-то, сразу видать – человек серьезный, почтительный.
– Смеешься, что ли?
– А нисколько… Уважение-то в чем? В том, чтоб что думали, то и говорили. Правда – она человека не уронит. А потом ты на себя посмотри…
– Ну? – не поняла Полина и даже чашку отставила в сторону, оглядывая себя.
– Мечешься, как белуга угорелая, и там, и сям, аж под кошкин срам заглядываешь («Ну уж!» – махнула Полина рукой) – повсюду дерьмо хочешь вычистить, а ты скажи – получается?
– Получается, получается…
– А вот Борька твой тебе и говорит: не в том утеха, чтоб стариков мирить, а чтоб жили люди всяк на свой лад…
– Да никогда он такого не говорил!
– Не говорил? Зато об этом вся жизнь его говорит.
– И чего ты его всегда защищаешь? Мужика моего?
– Вот из того самого, что муж он, – усмехнулся Авдей Сергиевич, – из солидарности.
– А мать-то Варвара, знаешь, что говорит? Уедешь, Полина, в Свердловск – возьму веревку да и вздерну себя.
Авдей Сергиевич хрипло, долго, от души смеялся над этими словами; даже прослезился:
– Да никогда она не повесится! Ты сам ее повесь, выбей у нее табуретку из-под ног, убедись – все, конченая, а зайди хоть через десять минут – она уж в углу на табуретке сидит, живёхонькая, глазёнки мелкие горят, и вот поливает весь белый свет… «Чего это ты, Варвара?» – спроси у нее. А того, скажет, веревки еще такой на меня не сделали, чтоб я с ней не управилась, тьфу на вас, окаянных…
Полина, слушая долгую эту тираду отца, слегка наклонила в изумлении голову и сначала непонимающими, а потом веселыми, а еще потом – смеющимися глазами смотрела на воодушевленного своей речью отца. Чудные все же эти старики, ей-богу – чудные… С одной стороны на них посмотришь – вроде такие, с другой – совсем иные, не похожие ни на Бога, ни на черта, ни на ступу с кочергой…
– Ну, спасибо хоть – успокоил, – проговорила Полина. – Я-то ведь не на шутку встревожилась: мать Варвара, она с норовом, выкинет еще номер – тебе же потом хоронить придется.
– Мне, что ли? – не понял Авдей Сергиевич.
– А кому еще? – нарочно с серьезным видом удивилась Полина.
– Э-э, нет… – погрозил отец пальцем. – У ней Зойка есть, зять, внуки да твоя еще семья – хватит народу, чтоб запихать, куда следует, с почетом.
– А ты – даже и венок не принесешь?
– Не то что венок, а и знать не хочу, живая она или мертвая! Помрет – пускай сама с собой разбирается.
– А к живой, значит, в гости не поедешь?
– Снова осердить меня хочешь?
– И спросить нельзя?
– Спрашивала – ответил. Ты там как хочешь с ней, а я такую женщину, как Варвара, не знаю и знать не хочу.
– Ладно, поняла. Спасибо за угощение. – Полина поднялась с табуретки, засобиралась домой.
– Еще и обиделась? – удивился Авдей Сергиевич.
– А хотя бы и обиделась, но ехать надо. Сначала к матери Варваре, а там и в Свердловск, домой. Дела-то не ждут…
Авдей Сергиевич покорно проводил Полину до ворот, приостановил чуть, нарвал в огороде гороху и бобов, сунул дочери.
– Женьке там отдашь… Извини, угощение не богато…
– Да чего там! – махнула рукой Полина. И, чуть задержавшись у калитки, выпалила скороговоркой: – На всякий случай запомни: улица Металлургов, дом 15, квартира 6.
Отец пропустил ее слова мимо ушей, спросил свое:
– К матери-то не забегала?
– В другой раз, отец. Сегодня вряд ли успею.
– К Варваре время находишь шастать, а до матери руки не доходят, конечно…
– Мама простит: живым нужно наше участие.
– Мертвым, понятно, ничего не нужно.
– Забегу, отец, забегу. Не в этот, так в другой раз… Ну, до свиданья! – И чмокнула отца в щеку.
Глава 2
Варвара
Дом Ильи Сомова прилепился к самой окраине поселка. Дочери Ильи, Варвара и Катерина, перед самой войной совсем заневестились, особенно старшая, Варька: время ее подкатывало к девятнадцати годам. Девка она была с норовом, темная волосом – почти вороного крыла, глаза бесовские – с глубоким донным отливом, в которых то густо, а то еще гуще плавилась, казалось, сама чернота. Характером вышла взбалмошная, своенравная; Авдюшка Куканов, который ухлестывал за ней, и мучился с Варварой, и проклинал ее, а отстать не мог – приворожила. Девка – она ведь чем неподатливей да дурней норовом, тем сильней не то что парня, а и мужика к себе влечет. Будто самой природе, самой жизни хочется такому парню или мужику доказать, что нет, не выйдет с ним такое, сломит он хребет девке, переиначит на свой лад, заставит плясать под свою дудку. А вот и месяц прошел, и два, и год, и второй покатился, а девка не поддается: и делать с собой что хочешь дает, кроме главного, и твоя она вроде, с тобой ходит, гуляет, тебе время свое драгоценное – вечернее девичье время – отдает, а уверенности у тебя никакой. Руки, губы, тело – все рядом, а душа – Бог знает, где только она витает у нее. Да и есть ли вообще душа у Варьки?
Одно удобно – дом Сомовых на краю поселка, дотемна ли бродишь или, может, вовсе не хочет тебя видеть сегодня Варвара, ходить да миловаться, – потихоньку проводил ее к калитке и был таков – никто тебя не видел, ни позора твоего, ни твоих крадущихся шагов, никто вслед не прошептал зло, не крикнул насмешливо: «Кукушонок вон, бес его возьми, опять по ночи шастает, на девок оружие свое оттачивает…» К тому же и нрав у Ильи Сомова, отца Варьки, был похлеще дочериного, только и сказал однажды ей: «Принесешь в подоле – убью!» – а отсюда вывод: не любил он, когда дочери его по вечерам в гулеванье ударялись. Не любил, понятно, и Авдюшку Куканова. Не потому, что не нравился ему парень, наоборот – по дневному-то делу он ему по душе был: спокойный, хозяйственный да и не дурак к тому же, – а вот по ночному, по тому, что в темной да зрелой ночи может натворить с его старшей дочерью, девкой дурной и заполошной, – тут Илья Сомов не мог себя превозмочь, опасался, косился на Авдюшку Куканова настороженным глазом, ждал подвоха, а то и подлости. Потому что, рассуждал он здраво, были бы у парня серьезные мысли, не прятался бы по огородам да не кукарекал у калитки (позывной такой у них с Варькой был: ку-ка-ре-ку-у!..), а пришел бы сам к Илье Сомову, сказал бы: так, мол, и так, – а еще лучше – сватов заслал, глядишь бы – и породнились с отцом его Сергием…
Только не знал Илья Сомов, что заковыка-то была не в Авдюшке Куканове, а в Варьке. Вертела она им, как хотела, а на самую его главную мольбу – пойти за него замуж – бросала особо насмешливо, даже зло: «Дурень ты, Кукушонок, не люблю если – так это тебе не слаще оглобли покажется…» Так что Сомов Илья, косясь на Авдюшку Куканова, делал это зря.
Поселок у них в то время был хоть и рабочий, но все же напоминал скорей большую деревню, особенно по окраинам. Металлургический завод, некогда основанный здесь знаменитой уральской династией купцов и заводчиков Демидовых, особого размаха не получил, имел не более чем областное значение, не разрастался, и заводской люд, как это всегда бывает при небольших фабриках и заводах, был наполовину крестьянской закваски, а еще точней – имел собственное натуральное хозяйство: здесь и коровы, овцы, куры, гуси, огороды, делянки, покосы… отсюда и особая психология большинства посельчан: завод заводом, там, конечно, план, смены, металл, но здесь, дома, ты сам себе хозяин, огород не вскопаешь, сена не накосишь, считай – зиму не проживешь, семью не прокормишь…
И нравы в поселке, и говор, и обычаи, и сам ритм жизни – все, пожалуй, так и продолжалось во времени: полудеревенское-полугородское. Никого это не удивляло, не расстраивало: что естественно, то хорошо и разумно. И поэтому, когда в никем и ничем, казалось бы, не примечательном поселке появилось несколько не просто новых, а совершенно других, другого склада и вида, людей, может, даже из самой столицы, как поговаривали, посельчане разом и возгордились, и насторожились. Люди эти и в самом деле из Москвы – военспецы, каких никогда не бывало на их заводе. Толков и слухов о будущей войне, как и по всей России, хватало, конечно, и у них, но теперь, когда не где-нибудь, а в их забытом богом поселке, на небольшом заводишке появились военные специалисты, – тут посельчане призадумались. И пока они думали и по закоренелой полудеревенской привычке чесали лбы, жизнь продолжала катиться вперед, и так вскоре эта жизнь притерла военспецов к нравам и ритмам поселка, что вскоре и перестали на них обращать внимание. Хотя помнили, конечно, помнили о них – суды да пересуды о войне что-то не утихали сами по себе, скорей наоборот.
Одно оказалось неудобство в поселке – не было в нем гостиниц; не то что гостиниц, даже захудалого какого-нибудь дома для приезжих – и того не было. Больше того, посельчане и не представляли, что такие дома, оказывается, где-то существуют. Пришлось военспецов распределять на жилье по домам рабочих – где получше, почище, где поудобней. Дом Ильи Сомова, например, выбрали именно по третьему признаку – где удобней. Как срубил его Илья когда-то, так он и стоял – окраинный и как бы одинокий, – дальше в ту сторону строить не разрешали, потому что неподалеку начинались цеха. А раз совсем рядом были цеха, Егор Егорович Силантьев, старший военспец, и выбрал для себя дом Сомовых: днем ли, ночью ли, утром – завод всегда рядом. Выделили Егору Егоровичу маленькую, но опрятную (с окнами на завод, с одной стороны, с видом на огород – с другой) комнату-«малушку», и с тех пор в доме Сомовых – необычное для них дело – поселился чужой человек, «жилец». Покато привыкли они к Егору Егоровичу!..
А Егор Егорович Силантьев, хотя и военспец, оказался человеком мягким, добрым, правда, малообщительным, но это его качество все понимали и уважали: во-первых, у военных всегда есть свои тайны, а во-вторых, он ведь человек не как все, не поселковый какой-нибудь и даже не из Свердловска – а из самой Москвы, из далекой загадочной столицы, – чего ему особо разговаривать с посельчанами, о чем?
Неразговорчивость Егора Егоровича, правда, имела другую причину, но это выяснилось гораздо позже. К тому же старший военспец был настолько поглощен заводскими делами, настолько весь, как говорится, ушел в металл (задачей военспецов было – найти особый режим плавки для производства специальной, высокопрочной марки стали), что неразговорчивость Силантьева можно было объяснить и занятостью, и усталостью, и просто нерасположенностью после трудового дня к пустым разговорам.
– Что ж не жалеете-то себя, – вздохнет, бывало, глядя на него, как на сына, одинокого, безродного, неутешного, Евстолия Карповна, хозяйка дома. – Почернели совсем…
Егор Егорович, задумавшись и как бы слепо вглядываясь в какую-то одному ему известную, заветную точку в окне, забыв о ложке с супом, которая на полпути ко рту застыла в воздухе, вздрагивал от слов хозяйки, но не смущался, а только хмурился, будто становился недоволен собой.
– О себе теперь думать преступно. – И слова его звучали жестко, твердо, совсем не похоже на его мягкую добрую натуру.
– Стало быть, вы полагаете, Егор Егорович, – вставлял свое слово Илья Сомов, стараясь говорить степенно, умно и грамотно, – война с немцем надвигается? Или, может, другое что в этом роде?
– Да, война, – коротко отвечал Силантьев и, словно выйдя из забытья, принимался хлебать щи.
– А я говорю – никакой войны не будет! – неожиданно выпалила однажды Варька и смело, как бы поддразнивая военспеца, уставилась на склоненную над щами фигуру Силантьева.
– Цыц ты! – прикрикнул на старшую дочь отец; младшая, Катя, от испуга и стеснительности сидела, опустив глаза.
Егор Егорович оторвал взгляд от тарелки, набрякшие его веки – было видно – с трудом поднялись вверх, и он с непониманием, с тяжелым осуждением взглянул на Варвару.
Варька выдержала его взгляд; глаза ее искрились озорством, вызовом, лукавством и той особой, счастливой беспечностью, которую недаром в народе окрестили: молодо – зелено.
Вот так они и смотрели друг на друга – глаза в глаза, лицо в лицо. И Силантьев не выдержал, вдруг легко согласился с Варькой:
– Ну, значит, не будет… – И улыбнулся странной своей, мягкой и доброй улыбкой давно уставшего, мудрого человека, принявшего на себя все заботы о несчастных, заблудших людях, улыбнулся удивительной своей улыбкой так, что с этой секунды что-то перевернулось в девичьей душе Варьки…
Варька, независимая, гордая, бедовая девка, которая только и делала, что смеялась всегда над парнями, смеялась тем больше, чем больше нравилась им (Авдюшку Куканова, к примеру, совсем иссушила, сделала глупым ручным теленком, каким тот по характеру и по природе своей вовсе никогда не был) – эта взбалмошная девчонка изведала наконец, что такое душевная, необоримая тяга к другому человеку; из тяжелых, серьезных, умных глаз Егора Егоровича будто влился в девственную и слепую пока душу Варьки сладостный ток чувственного томления; томление самого Егора Егоровича, по всей видимости, было иного рода, разрядом или рангом выше обычной чувственности и личной эгоистичной любви, его томление было думой о людях, сопряженной с состраданием к ним, к их скорым, возможно, тяжким и лихим испытаниям, он как бы заранее любил всех, всех прощал, всем воздавал, оставляя в себе самом всеобщую грусть и тоску, аккумулируя эти чувства в душе – один за множество людей, как некий избранник слепой, но вполне реальной могущественной судьбы. Вот эту печать Силантьева – избранность его – Варька не поняла, нет, но почувствовала, на нее дохнуло неотразимой мощью человеческого духа. Как будто Силантьев – это недосягаемая вершина, а она, Варька, где-то глубоко в пропасти, но в глубину и бездонность ее пробился луч помощи, поднял Варьку на свое светоносное крыло, вызволил из пропасти и понес, понес, закружил, даже дух у Варьки перехватило!..
Однако сам Егор Егорович, конечно, не сознавал, какой властной и губительной силой оглушил вдруг Варькину душу; дел-то всего для него было – взглянул на девчонку, посмотрел ей внимательно в глаза и улыбнулся. Улыбнулся и, может быть, даже забыл о Варьке, хотя какое-то время перед глазами у него стояла ее лукавая, озорная, беспечная улыбка-вызов. Что с нее возьмешь – девчонка, с сосредоточенной печалью решил Силантьев и, наскоро покончив с обедом, заторопился на завод.
На завод они всегда ходили вместе – Илья Сомов и Силантьев, отправились вместе и на этот раз.
– Постойте, меня подождите! – крикнула Варька, но отец махнул рукой: «Не барыня – ждать тебя…»
Варька и сама толком не понимала, почему вдруг бросилась за ними, – та осиянность, которой одарил ее Силантьев всего лишь одним внимательным взглядом своих серых печальных глаз, то трепетное и чувственное томление, которым через край были наполнены ее душа и тело, словно требовали теперь, чтобы она, Варька, была всегда рядом с Силантьевым, даже не так – чтобы Егор Егорович находился всегда в виду ее глаз, где-то рядом – слышимый, чувствуемый, осязаемый. И вот она бросилась за ними – просто от испуга: как же так, она-то вот где, здесь, а они, он, Егор Егорович, уходит, исчезает, – это невозможно!