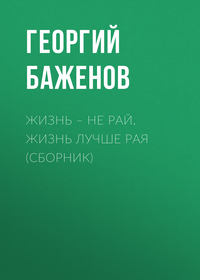
Жизнь – не рай. Жизнь лучше рая (сборник)
Отец с Силантьевым ушли, а мать Варвары, бросив на дочь внимательно изучающий взгляд, полуспросила- полуудивилась:
– Чего это ты, девка? Иль сама на завод дорогу не знаешь?
Варьке, странное дело, захотелось ответить матери что-нибудь грубое, резкое, но тут к ней подошла младшая сестра Катя, всегда такая ласковая, обняла за плечи: «Пойдем, Варя», – и Варька сразу успокоилась, только сверкнула на мать глазищами: вечно ты лезешь, когда тебя не спрашивают!
Варька, надо сказать, частенько ругалась с матерью: была в Евстолии Карповне какая-то елейность, неискренность, что ли, и Варька, став взрослой, чутко слышала в матери эту фальшивинку, и чуть что – у них с матерью шум, гам, ссоры. Катя была для матери гораздо больше по душе – ни слова грубого, ни взгляда косого, однако сама Катя была сердцем на стороне Варьки: ее восхищала Варькина прямота, смелость, бесшабашность. Только что окончив десять классов, Катя еще нигде не работала (а пойдет, конечно, на завод – обычная жизненная дорога большинства посельчан), Варька же рассчиталась со школой, как она сама посмеивалась, еще в прошлом году – сестры были погодами – и работала теперь в листопрокатном цехе, ученицей на сортировке, и хотя, если хотела, работала горячо, неистово, разряд ей никак не присваивали – срывалась, начинала грубить то бригадиру, то мастеру, натура такая… попала шлея под хвост – и понеслась Варька вскачь, как дурная кобыла. Так ей в цехе и говорили иной раз: «Кобыла ведь уже, но до чего дурная, а?..»
Варька с Катей вышли из дома и только было направились на завод, к ним из-за забора, усмехаясь и посмеиваясь, больше от робости, чем от наглости, вынырнул Авдюха Куканов.
– Привет честной компании! – громко поздоровался он, но вся его бравада, громкий голос, легкое постукивание прутиком по сапогам, начищенным до блеска черной ваксой, все это было напускным, ложно-панибратским.
– Дай прутик-то – поприветствуем тебя! – вместо игривого «здравствуйте-пожалуйте» ответила Варька, и обе сестры, переглянувшись, озорно рассмеялись – так прямо и прыснули.
– А чего, на, постегай. Попробуй! – Широко улыбаясь, Авдюха протянул Варьке прутик.
– И не заплачешь? – Варька, даже глазом не моргнув, перехватила из его рук прут.
– А ты испробуй! – отважно предложил Авдюха, подставляя спину, и даже, ерничая, ловким движением выдернул из штанин низ рубахи, оголил спину. Спина у него была видная – широкая, мускулистая, с мощным хрящом-позвоночником, который, как кряж, бугристо разрезал широкую долину спины. С такой-то мощью да силой ему, конечно, легко давалась работа на заводе – вторым подручным сталевара, на котором, естественно, лежала немалая физическая нагрузка.
И вот тут, в эти секунды, замахиваясь прутом, Варька и осознала (ее как бы пронзило), что такое главное она должна сделать в своей жизни… Не это вот, дикое и скоморошное дело, тьфу на него, на Авдюшку Куканова, хотя можно и хлестануть его пару раз – так, для острастки, из озорства, да еще чтоб не хвастался, и она в самом деле хлестанула его – да от души! – раза три по широкой спине, – но самое главное: она должна отвоевать Силантьева у жизни, завоевать его, она знает, поняла теперь, как сделать это, и чего бы ей ни стоила любовь – пусть хоть в тартарары потом, хоть к черту на рога, ей все равно…
И Варька, занятая этими мыслями, как бы даже не совсем поняла, что произошло вдруг: Катя, что так не похоже на нее, резко, с болью перехватила Варькину руку и даже не проговорила, а простонала:
– Да ты что, Варька, сдурела?! Ты что это?! Ты же прутом его, прутом… – И глаза ее налились слезным тихим укором, а чуть позже пролились две-три слезинки, как ни сдерживала себя Катя.
Разогнувшись, заправив рубаху в брюки, Авдюха Куканов с удивлением смотрел на Катерину.
– А чтоб в другой раз не хвастался, – хотела легко отмахнуться от разговора Варька, но младшая сестра продолжала крепко держать ее за запястье. – Ну, пусти ты, очумела, что ли… – дернула рукой Варька и, повернувшись к Авдюхе, проговорила презрительно: – Тебе вот за кем хороводить-то надо, за Катькой. А ты все за меня, дуру грубую, цепляешься.
– Дуры-то – они слаще, – в прежнем тоне напускной лихости и бравады парировал Авдюха.
– Дуракам, оно конечно, дуры всегда слаще… – И тут сестры, вновь переглянувшись, как ни в чем не бывало прыснули во второй раз; слезы, правда, еще иссыхали на Катиных щеках, но легкий ее, девичий смех говорил сам за себя: она уже не сердилась на сестру и, пожалуй, даже стеснялась неожиданного своего порыва.
И, не разговаривая больше ни о чем с Авдюхой, перестав вообще обращать на него внимание, сестры, толкаясь, побежали тропинкой мимо прясел, а там – прямой дорогой на завод… Катя, как всегда, провожала Варьку до самой проходной.
Работая в листопрокатном цехе, Варька редко видела Егора Егоровича, потому что военспецы пропадали главным образом в мартеновском цехе или в химической лаборатории.
Томимая ненасытной тоской видеть, чувствовать рядом с собой Силантьева, Варька, как только оказывалась дома, старалась под любым предлогом зайти или хотя бы заглянуть в «малуху» Егора Егоровича. Если его не было дома, а это чаще всего, Варька без всякого стеснения заходила в комнату и начинала мыть и до того уже до блеска вымытые полы, протирать несуществующую пыль, поправлять постель, наводить порядок на этажерке, задерживаясь взглядом на фотографии мальчика лет четырех, которая стояла на одной из заваленных книгами полок. «Как думаешь, это его сын?» – спросила Варька однажды у младшей сестры, но Катя только испуганно округлила глаза и ничего не ответила, язык присох к нёбу.
Варька не просто спросила, она держала в руках эту фотографию – мальчишка в матросской форме, взмахнув саблей, скачет на игрушечном коне, – взяв ее с этажерки и вынеся из «малухи» в общие комнаты. Никак не могла осознать Катя, как это Варвара так спокойно может заходить в комнату Силантьева, трогать его вещи, брать в руки вот эту фотографию, например, – как не стыдно хоть? «Подумаешь! – презрительно бросала Варька. – Да он мне сам разрешает все брать!» Мать Варьки, Евстолия Карповна, раза три пыталась усовестить старшую дочь: «Чего ты к нему шляндаешь, чего надо там, чего ты человеку тарарам устраиваешь?» – на что Варька, не поморщив лоб от размышлений, раздраженно отвечала: «Он мне спасибо за то говорит, а ты – тарарам, тарарам! Сама тогда убирай, а я больше пальцем не прикоснусь к его грязи…» – «Где ты у него грязь-то увидала?» – «Не видала, потому что прибираюсь. Им, мужикам-то, дай только волю… живо в грязи зачухаются». Евстолия Карповна не любила с Варькой связываться, махнула рукой и тут: черт с ней, не убудет ведь от девки, да и квартиранту от лишней чистоты не хуже. А что там Варька вбила себе в голову насчет Силантьева, так это – тьфу! Егор Егорович человек столичный, в Москве небось одних музеев вон сколько, неужто начнет пялиться на такую невидаль – Варьку, враз разберется, кто она такая есть на земле – зловредная цаца, все только и норовит мать да отца поддеть…
Егор Егорович, заставая у себя Варьку, особо этому не удивлялся, удивлялся другому: почему она не уходила, когда он хотел остаться в комнате один.
Удивлялся, конечно, про себя, вслух ничего не говорил. Не то что бы ему не хватало места или, к примеру, он терпеть не мог Варьку, нет, дело было в неудобстве, что ли, хотелось побыть одному, полежать, помолчать, подумать, заложив руки за голову, а тут – на тебе, все-то около него Варька крутится. Егор Егорович, впрочем, как бы замечал и не замечал ее одновременно. Старался делать так…
– А как его зовут? – ни с того ни с сего спросила однажды Варвара.
– Кого? – Силантьев, чуть повернувшись, приподнял голову с подушки.
Варька бережно сняла с этажерки фотографию и, держа ее, как икону, – чуть впереди себя на вытянутых руках, сказала:
– А вот его. – И тут же быстро добавила: – Это сын ваш, да?
– Гошка, – ответил Силантьев, внимательно и серьезно вглядываясь, словно в первый раз, в лицо мальчишки.
– А жена? – замерев душой, спросила Варька.
– Что жена? – не понял Силантьев. – Тебе сколько лет, Варвара? – без всякого перехода поинтересовался Егор Егорович.
– Девятнадцатый…
– И войны, говоришь, не будет?
– Нет, – помотала головой Варька: а хороша она в этот момент была: черные рассыпавшиеся волосы – при покачивании головы – всколыхнулись тугими волнами.
Егор Егорович привстал, сел на кровати, чиркнул спичкой. Курил он, непонятно почему, не папиросы, а козью ножку, как старый дед какой-нибудь.
– Жены у меня нет, – помедлив, покурив, сказал наконец Силантьев.
– Она и Гошку к себе забрала?
– Верно. И Гошку себе забрала.
– А сама сбежала с офицером? – Варька присела на корточки перед кроватью Силантьева.
Егор Егорович, удивленно взглянув на Варьку, вдруг громко, от души рассмеялся.
– С офицером, говоришь? – смеялся он. – Ох, Варька ты, Варька, девятнадцатый тебе годок… Почему именно с офицером?
– А с кем же? С кем же еще убежишь-то?
– Ну, вот я тоже офицер – и что? Побежишь ты, к примеру, со мной?
– А что? Запросто побегу!
Силантьев снова от души рассмеялся:
– Ох, глупая твоя голова, Варвара… – И, отсмеявшись, через некоторое время добавил: – Не сбегала она от меня, нет. Просто вышла замуж за другого. За товарища моего, кстати. И не офицер он вовсе, а инженер.
– Ничего себе товарищ! Да я б на вашем месте!..
Силантьев только грустно покачал головой.
– Хоть бы сына тогда отдала, – не успокаивалась Варька.
– Сына не отдала, – погрустнел Егор Егорович и, подложив руки под голову, снова прилег на подушку.
Теперь, однажды разговорившись о сыне, о семье, Силантьев был не прочь иногда поговорить с Варькой о своих делах-бедах, хотя разговоры эти, видно, ложились едкой солью на незарубцовывающиеся раны Егора Егоровича. Обычное молчание его, сосредоточенность, даже хмурость и нелюдимость – все это шло от беды, которую он носил в себе, ни с кем не делясь ею, и в то же время, как всякому страдающему человеку, ему – глубоко в душе, подспудно, даже неосознанно, может быть, – хотелось высказать свою боль, хотелось понимания, сочувствия, сострадания… Работа Силантьева и то, что внешне он производил впечатление «железного», замкнутого человека, – все это напрочь отделяло его от обычных, бесхитростных житейских разговоров и отношений, и тем дороже ему стало, что совсем молодая и глупая еще, конечно, девчонка своей непосредственностью, наивностью и прямотой словно вытащила его душу из брони отчужденности. И даже когда Варька переходила всякие границы, начинала, например, просить его посмотреть на нее внимательней, вглядеться серьезней и объяснить: что в ней такого страшного и дикого, что он, Егор Егорович, не воспринимает ее как женщину, не замечает ни ее страданий, ни ее… тут она хотела бы сказать: любви, – но, слава Богу, у нее никогда не хватало на это духу, – даже когда она несла всю эту несусветицу, он, Силантьев, был благодарен Варьке и иной раз ловил себя на том, что в самом деле вглядывается в нее: а чем она действительно так уж плоха, отчего так заведомо строго отделил он себя – от нее, а ее – от себя? Инерция? Разница в возрасте? Боязнь обидеть Варькиных родителей? Или дело было серьезней – в полной несовместимости их, как двух разных людей? Но почему? И пока, по-своему, она гадала об этом и пока, по-своему, о том же самом гадал Силантьев, они продолжали тянуться друг к другу, Варька – по необоримому влечению проснувшейся души, он – из чувства благодарности ее непосредственности, молодости, наивности, которые пробили брешь в его одиночестве.
Впрочем, ранними утрами, в часы полной отрезвленности от грез и ночных мечтаний, Силантьеву все это казалось дикой чепухой, чушью, и он, хмурый, раздосадованный, торопился вместе с хозяином дома, Ильей Сомовым, на завод…
Глава 3
Полина
Получив письмо от Зои, что дело совсем худо: «…Как ни бьюсь – все не так, все неладно, по всему видать – развалится вконец наша семья…» – Полина и думать не стала, засобиралась в дорогу. Борька, муж Полины, как всегда в таких случаях, когда Полину срывало с места и несло черт знает куда – доказывать истину, бороться, смешно сказать, за правду жизни, – Борька многозначительно повертел указательным пальцем у виска: что, старушка, того, да? Других средств, повыразительней и подоказательней, у него, как обычно, не было: все равно Полине ничего не докажешь, ничем не переубедишь, хоть кол на голове теши… Человек спокойный, уравновешенный, а во многих случаях даже равнодушный к чужой жизни, Борька и влюбился-то в Полину в пору их учебы в Уральском политехническом институте, потому что это была черт знает что, а не Полина. И взяла она Борьку вовсе не любовью, а скорей всего оторопью, лучше не скажешь, – Бог его знает, удивлялся он, откуда в человеке столько энергии, столько страстной жажды лезть везде и всюду, доказывать чью-то правоту, защищать обиженных, возиться с лентяями, дармоедами и просто недоумками. Учились Борька с Полиной на одном курсе, но в разных группах, знакомы были плохо, но это не помешало Полине однажды подойти к Борьке, взять, точней – схватить за руку и потащить за собой по коридору: «А ты чего стоишь тут? Люди стулья в актовый зал таскают, а он, как барин, поглядывает вокруг…» И Борька, неожиданно послушный ее воле, потащился за ней, хотя все время хотелось крикнуть: «Ты чего схватила-то меня? По какому праву? Отстань, черт тебя побери!» Дело было не в том, что не хотелось какие-то там стулья таскать, а просто всегда противно плясать под чью-то дудку, подчиняться чужой воле, – да и чего ради? Кто она, эта ненормальная, – староста группы? комсорг курса? профорг, наконец? Да никто, просто – так называемая активистка, каких терпеть он не мог в своей жизни: лезут везде, где надо и не надо, жить от их тормошенья невозможно… Но что больше всего его умилило, задело и разозлило – это все были оттенки одного чувства, – так это то, что она вдруг, когда он уже таскал вместе со всеми стулья, остановилась напротив него, улыбнулась ободряюще и похвалила: «Молодец! Вот видишь, как здорово, оказывается, взяться за дело сообща: сейчас уже и закончим…» И, сдунув прядь на взопревшем лбу, счастливая, побежала дальше… Дело было, конечно, ерундовое – ну, подумаешь, стулья помог перетаскать в зал, ничего страшного, но что-то в душе у Борьки никак не отпускало: злился, да и все, на эту взбалмошную активистку. Так у него было всю жизнь: меньше всего он любил подчиняться чужой воле и больше всего именно ей и подчинялся. Парадокс какой-то. И ладно бы еще, если б Полина, скажем, была симпатичная из себя, возвышенная какая-нибудь, ну хоть просто нравилась ему – так нет, даже ведь не городская была, какая-то ширококостная, широкоскулая, грубоватая на вид, неотесанная, честно говоря, настолько, что, даже когда они поженились, когда жили уже в городе, а там и Женька родился, да ведь и работала она не какой-нибудь там крановщицей или маляром, а инженером на ВИЗе – Верх-Исетском металлургическом заводе, – все равно: неискоренимо проглядывала в ней полудеревенская порода, никакой внешней интеллигентности, разговор, слова всегда самые простые, мысли и желания вообще Бог знает какие – куда-то мчаться, ехать, идти, кому-то помогать, что-то немедленно делать, кого-то выручать, что-то доказывать, – с ума можно сойти от ее напористости и жажды, неутомимой жажды жить, действовать, настаивать на своем… Помнится, Борька как-то признался своей матери, Екатерине Алексеевне – она еще жива тогда была: «Слушай, мам, я тут познакомился с одной ненормальной на курсе… Вот уж не завидую тому, кто на ней женится когда-нибудь!..» – «А что такое, почему?» – улыбнулась мать, лукаво-изучающе взглянув на сына. «Да ведь просто затормошит его. Ей-богу, затормошит!» И они с матерью почему-то весело рассмеялись, хотя мать ведь о ней ничего не знала. А он-то – вот дуралей, вот простофиля, ведь над кем смеялся? – над собой смеялся! Подумать только: не просто женился, а влюбился в нее; вот этим и взяла его – оторопью, хотя, конечно, как в воду глядел он тогда: затормошила она его вконец, дня не было, чтоб нервы его жили ровной, спокойной жизнью, все-то они натянуты как струна, все-то этой взбалмошной дуре чего-нибудь да надо. Другие, посмотришь, живут себе, работают, отдыхают, наслаждаются жизнью, во всяком случае хоть какой-то ритм в жизни есть, свое русло, свое размеренное течение, а тут… ну хоть головой об стенку!
Вот и сейчас – собралась, видите ли, к Зое… Куда? Зачем? Кто звал-то? Будут тебе рады там, что ли? Да муж Зойкин, Анатолий, терпеть Полину не может, за версту родной дом обходит, когда она у них «гостит», в подворотне своим дружкам жалуется: «Я-то? Я домой не ходок, не-a… Держите меня, ребята, вяжите мне руки, я за себя не отвечаю! Я ей… вяжите руки, ребята!» И приволакивают Анатолия дружки под вечер, а то и ночью – еле живого, «готового». В иных видах, как говорится, «дружба» у них с Полиной не получается…
Собственно, чем она тогда, в студенческие годы, доконала Борьку? Он ведь еще тогда смирился – не с ней, конечно, с собой, что не может жить по-другому: пусть она хоть какая, черт ее подери, такой уж она на свет уродилась, но он должен быть рядом с ней, тянуло его к Полине, как к магниту (есть такая заурядная побасенка: противоположности взаимно притягиваются; очень точная побасенка), и зло его брало, что это было чистейшей правдой, а все-таки поделать с собой ничего не мог… По субботам или воскресеньям, когда они гуляли по Свердловску, Полина обязательно сначала забегала в суворовское училище, которое находилось рядом с институтом – угол в угол, как говорится; Борька оставался ждать Полину на широченной, царского вида лестнице, по обоим краям которой – слева и справа – на постаментах возвышались две подлинных боевых пушки, – и ждал долго, терпеливо, потому что Полина порой пропадала в здании училища по целому часу. Борька знал: пока Евгений, или Жека, как они его по-свойски звали, собирается в увольнение, Полина разговаривает с офицером-воспитателем Николаем Михайловичем Петровым, подвижным, небольшого роста майором с совершенно круглым, начисто обритым блестящим черепом и, надо же, тоже круглыми блестящими темными глазами. Обычно он жаловался на Жеку: с дисциплиной неважно, физзарядку не любит, с подъемом дело хромает, но в общем терпимо, хотя… И тут, естественно, начинались всевозможные варианты разговора, к которому Полина относилась всегда серьезно, переживала, нервничала, ахала и охала, только суть-то дела была в том, что Николай Михайлович, майор Петров, наговаривал на Жеку немного про запас, – вероятно, из педагогических соображений, – чтобы Полина лишний раз пропесочила его, поддержала в нем дух спартанского отношения к жизни, где главное – здоровье, дисциплина и развитый ум. Жека, сколько его знал Борис, учился все годы только на «отлично», был здоров как бык, занимался гимнастикой, одно время был даже чемпионом училища, а что касается дисциплины, то, во-первых, он был небольшого роста (верный признак, что если и будешь дерзить, то не очень: получишь по лбу либо от начальства, либо от своих же, только поздоровей тебя, сверстников-дылд), а во-вторых, характер у Жеки был если и не покладистый, то мягкий, душа нежная, – какое там может быть непослушание? Наконец Полина с Жекой выходили из парадных – тяжелых дубовых старинных – дверей суворовского училища, и теперь уже втроем они отправлялись бродить по городу. У Полины была слабость: кормить Жеку пирожными и поить газированной водой. Первым делом шли в какое-нибудь кафе, чаще всего на перекрёсток Ленина-Толмачева, напротив главпочтамта, и тут Полина принималась за свое священнодействие. Жека, красно- и тугощекий парнишка, с наголо постриженным затылком и востреньким, косо подрезанным чубчиком, который время от времени привычным движением головы он смахивал со лба в сторону, с пухлыми красными девичьими губами и небольшой родинкой над переносицей, как у какой-нибудь щедро раскрашенной индийской красавицы, этот Жека при всех своих «отличных успехах в учебе и в боевой подготовке», как выражался офицер-воспитатель майор Петров, был еще сущим ребенком и с детской непосредственностью уплетал пирожное за пирожным, изрядно запивая их газированной водой, пока не раздувался как шар. Суворовская форма – черные брюки с лампасами, гимнастерка с красными погонами и золотыми буквами «Св. СВУ» – Свердловское суворовское военное училище – нисколько, казалось, не подчеркивали военную косточку, которая должна же быть в Жеке, как и в любом суворовце, – наоборот, эта форма в сочетании с его внешностью делали Жеку еще более ребенком (когда Борис увидел Жеку в первый раз, ему было двенадцать лет), каким-то лопоухим, беззащитным, девственно наивным и в чем-то по-девичьи прелестным. Но разве могло все это понравиться Борьке? Конечно, нет. И в первый раз, когда они сидели в кафе, он с какой-то смесью брезгливости и неуважительного любопытства наблюдал за тем, как этот краснощекий «вояка» уплетал одну за другой пироженки, словно ненасытный троглодит. И кто знает, может, Борька так бы и продолжал относиться к Жеке, если бы однажды перед ним не открылась одна небольшая тайна, после чего изменилось не только его отношение к мальчишке, но и произошло то последнее, что доконало Борьку и окончательно, бесповоротно привязало к Полине.
Отношения между Полиной и Жекой были такие, что Борька, естественно, принимал их за брата и сестру. Правда, вспоминая родной поселок, мать Варвару, отца, сестру Зойку, Полина почему-то никогда не упоминала имени Жеки.
– Слушай, а почему к нему никто не приедет? Недалеко же, – спросил однажды Борис.
– Кто не приедет? – не поняла Полина.
– Ну, мать, отец. Или хоть сестра, что ли…
– Нет у него никого.
– Как нет? – удивился Борис. – У тебя же есть мать, отец. Я серьезно, Полина…
– Да ты что, дурной, что ли? – Полина с искренним недоумением посмотрела на него. – У меня – есть, а у него – нет. В том и штука.
– Да как же это быть такое может?! – начал злиться Борис. – Не морочь мне голову…
– Ах, вон что-о… – догадливо протянула Полина. – Ты подумал, он мне брат? – Борька кивнул. – А он и не брат вовсе, нет…
– А кто?
– Кто? – Полина пожала плечами, задумалась. – Друг.
– Жека – твой друг? – вытаращил глаза Борис.
– Да. Друг. А что такого?
– Но послушай… как же так… я всегда думал, – стал бормотать Борис, – что ты сестра его, старшая сестра… Между вами такие отношения… и потом ты же ходишь в суворовское училище, встречаешься с его офицером-воспитателем, разговариваешь с ним о Жеке… ты меня разыгрываешь, а?
Оказалось: нет, не разыгрывала его Полина. Просто однажды в кафе она подсела за столик к суворовцу: это был Жека, который занимался любимым делом – ел пирожное и пил лимонад. Толстощекий, смешной, он так понравился Полине, что она заговорила с ним. Жека ответил так, будто был знаком с Полиной сто лет: просто, легко, нисколько не кочевряжился, что вот он суворовец, красавец в форме «генерала», пуп земли… Такой он был непосредственный, наивный; даже когда сказал (в ответ на ее вопрос, кто у него родители), что у него никого нет, и то нисколько не стал спекулировать на этом: не вызывал ни на сочувствие, ни на жалость… И как вдруг задел этим сердце Полины, как болезненно сжалось оно у нее от сострадания!
– А можно с тобой познакомиться? – спросила она.
– Можно. Я суворовец второй роты третьего взвода Евгений Ковшов. Прозвище – Ковшик, Жека Ковшик. А вас как зовут?
– Полина, – ответила она. – А ты знаешь, нам повезло: я учусь совсем рядом с тобой, в политехническом институте.
– На каком курсе?
– На втором, – ответила она и удивилась: надо же, курсом поинтересовался.
– Это хорошо, – сказал он и незаметно от всех – только Полины, кажется, не стесняясь – облизал пальцы, вымазанные пирожным.
– Почему? – не поняла она и улыбнулась: ей ведь это тоже показалось неплохим.
– Вам долго еще учиться. И мне долго. Времени дружить много…
Отец у Жеки, лейтенант запаса Григорий Ковшов, умер через четыре года после войны – доконало-таки ранение в позвоночник (Жека помнил отца смутно: родился он сразу после войны – по возвращении отца с фронта, который до войны служил в погранвойсках; и когда отец скончался в госпитале, Жеке шел всего пятый год). Мать умерла недавно, два года назад, и так как у Жеки никого из близких родственников не осталось, военком, друживший некогда с Григорием Ковшовым, выбил по разнарядке направление для Женьки в суворовское училище. Вступительные экзамены Жека сдал на «отлично» и в возрасте одиннадцати лет стал суворовцем, мечтая стать в будущем, как и его отец, пограничником.
Встречалась Полина с Жекой почти каждую субботу или воскресенье – позже к ним присоединился Борис, потом Полина познакомилась с майором Петровым, стала для Жеки, как говорится, названной сестрой, в зимние и летние каникулы возила к себе домой в поселок…