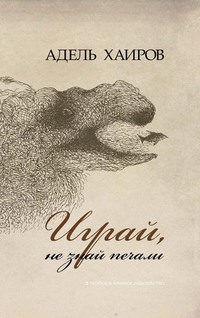
Играй, не знай печали
Наверху в спаленке у изголовья лежал в истёртом кожухе бабушкин Коран, и повсюду, даже в бане, были развешаны шамаили с мечетями, вырезанными из фольги от шоколадок. В буфете сидел фарфоровый пёсик, которого Мубарак называл «Святым Христофором» и подкладывал под него денежку. Обязательно должна быть новенькая. Молился он своим богам нагишом. Объяснял, что перед силами небесными человек должен стоять в чём мать родила.
Соседи смотрели на Мубарака с ухмылочкой. Не общались, на свадьбы не приглашали. Не позвал и родной сын. Забор, которым он отгородился от отца, был глухой. Мубарак только по голосам понял, что стал дедушкой…
Интересно, как он к внуку свою любовь проявлял. Проходя мимо, как бы невзначай, перебрасывал на «вражескую территорию» золотой ранет, который плодоносил только у него прозрачными райскими яблоками с плавающими косточками внутри.
В воскресные дни, помолившись, Мубарак облачался в тёмно-вишнёвый халат с зелёным пояском, натягивал узкие сафьяновые ичиги, нахлобучивал малиновую феску с кисточкой и не спеша, ханской походкой, направлялся в гараж. Внутри в бензиновом сладком облачке стоял одинокий экспонат – мопед «Рига-11». Мубарак сдёргивал попону – красный прикроватный коврик, и несколько минут любовался техникой, что-то подкручивая, подтягивая, где-то подтирая салфеткой. Мопед был как будто бы целиком отлит из золота. После покупки Мубарак разобрал его и возил по частям на Казанский вертолётный завод к приятелю, который работал в гальваническом цехе. Тот хромировал детали и покрывал золотой эмульсией. Собрав мопед обратно, Мубарак начал его украшать, как туземного вождя. К каждой ручке прикрепил по пять зеркал заднего вида и повесил два лисьих хвоста от воротника маминой шубы. Седло обшил каракулем. Сзади на шесте закрепил новогоднюю звезду и обмотал багажник гирляндой. На крылья налепил крупные алмазы. Сбоку у бензобака повесил транзисторный приёмник «Турист». Индюшиные перья распушил веером над фарой.
Подняв пыльную завесу в деревне, Мубарак устремлялся в Казань. Как-то он взял меня с собой, и я стал свидетелем, как советских граждан, облачённых во всё серое, неброское, хватал на улицах столбняк. Они разглядывали мопед и светлели лицом. Мубарака узнавали и махали ему с тротуаров, как Гагарину.
В конце августа я уезжал с филфаком на картошку. На прощанье мы распили с ним последнюю «Помпадур», а когда я вернулся, он уже лежал на мазарках. Быстро сгорел! Никому не нужный добрый волкодав играл у сельпо своими какашками. Я купил ему пряников, колбаса кончилась, а себе на талон – бутылку «Имбирной». Покрутившись возле дома Мубарака, притулился на какой-то трубе и помянул…
Уходя, всё же не удержался и заглянул в сад. Под яблоней была свалена в кучу старая мебель, на тахте лежала Мадонна, треснутое зеркало разрезало мокрый сад пополам. По земле были разбросаны книжки и виниловые пластинки. Окна – нараспашку. Во дворе сын Мубарака сосредоточенно обдирал с золотого мотоцикла лисьи хвосты…
Сверчки
Рауф забрался на холм и упал в ржавую траву, взъерошенную волжским ветродуем. Старый почерневший кузнечик вылез на мостик стебля, сложил лапки, чтобы помолиться, но не успел – окочурился. Откуда-то из спутанных извилин выскочили стишки, которыми Рауф баловался в юности.
Умирали сверчки от холодной росы,пчёлы сыпались в тёмный шиповник.Собирал помидоры садовник,в горьком дыме желтели усы.Тощих тетрадок с кривыми столбцами было всего две. Одну автор подарил первой жене – Мадине, вторую измусолил и потерял баянист Фаннур, пока перекладывал строчки на свой «фирменный» мотив, который всегда заканчивался убегающими по кнопочкам пальцами: «прыбабаба-па».
Рауфу нравилось, что человек искренне старается, переживает, чуть ли не рыдает над его «свершками». Этот романс был хитом на деревенских свадьбах. Невесты слёзки роняли в оливье и целовали Фаннура под косые взгляды пьяных женихов. Потом он повторил судьбу сверчка – заснул, нырнув в дырявый шалаш бродяги с матрацем из первого снега. Это произошло за придорожным кафе, где гуляли. Утром он был как мрамор, с белыми пальцами, притопившими кнопочки клюквы, проросшей в шалаш. Баян в руках участкового, хрустнув ледком, спаявшим меха, выдал вступление к «Сверчкам», и в остекленевшем воздухе пробежала трещинка грусти с запашком вчерашней водки. А берёза поблизости с обледеневшими листочками аж вздрогнула, как сервант с рюмками во время драки. Прощай, Фаннур!
…Внизу от пристани отчалила пустая мошка. Рейсы в будни сильно сократили, дачники с октября ездили только по выходным. У окна сидела женщина в голубином платке. Она внимательно посмотрела на Рауфа и вдруг помахала ему. Он выдернул толстый стебель полыни с корнем и вдавил сношенные каблуки в землю, осыпав вниз камушки. Это же Машка! Её платок, её движения. Мошка, отфыркиваясь, затопала на фарватер. Рауф начал рассматривать руки, они были все в кладбищенской рыжей глине. Закопал он свою Машу и полез на холм.
Фазенда их стояла у самой пристани. С высоты холма она была как на ладони: рубероид лоснился от дождя кожей бегемота. Забор упал, и по нему дачники ходили как по мосткам, а на его месте вымахали лопухи. Попробуй пролезь! Единственная яблоня, как нарочно, бурно плодоносила райскими яблочками только левой своей стороной, которая вся вылезла на дорогу. Яблоки прыгали к пристани, торопились на рейс. Маша, должно быть, сунула парочку озябших себе в карман плаща.
В кассе молотком гробовщика стучала равнодушная печать…
Некрашеная будка уборной закачалась. В неё влезла непомерная тёща и там разворачивалась. Родственники суетились во дворе, все в тёмном, как налетевшие вороны. В избе накрывали поминальный стол. Включили днём люстру, распахнули окно. Вон Санёк на полусогнутых, звеня коленками, бережно втащил две спортивные сумки, полные водки.
Рауф тихонечко сползал с холма. Задница вся намокла. О том, что увидел Машу в окне мошки, он, конечно, никому не скажет. Померещилось!
…Все уже сидели и жевали. Он появился в дверях, как на сцене сельского клуба, и собрал сочувствующие взгляды. Двоюродная сестра жены Лидия посмотрела на него оценивающе, как будто ношеное пальто покойницы примеряла. Подвинулись, усадили. Подали кастрюлю с картошкой в мундире. Лида своими пальчиками положила ему в тарелку распухшую сардельку. Санёк, ответственный за водку, налил до краёв. Родня смолкла и уставилась на Рауфа. Знала, что завязал, и теперь желала видеть, как развяжет. Рауф послушно потянул пальцы к стакану. Движение, ставшее за десять лет трезвости непривычным. Холод водки входил в организм через пальцы. Бросил взгляд в окошко. Мошка на фарватере превратилась в «парус одинокий», Маша с палубы погрозила ему кулачком. Эхма…
Все вокруг бухали по-белому и по-чёрному, только они вдвоём, как старообрядцы, завели себе самовар, который Рауф привёз из родного аула Пшенгер Арского района как память о маме. Получается, земляк.
Пучки чайных трав висели на гвоздиках в сенях, источая успокаивающие волны летних полянок и косогоров вблизи деревни с ласковым названием Улиткино. Древние волжане были поэтами, красивые имена давали своим поселениям: Нижний Услон, Ключищи, Теньки, Шеланга, Ташёвка…
…Рауф сделал вид, что выпил, даже произвёл два громких холостых глотка и задвинул за коробку сока полный стакан. Лишь пальцы омочил. Демонстративно пожевал резиновый грибочек, и за столом спокойно вздохнули – «ну, слава те, Госпади!»
Маша была другой, непохожей на свою родню. Мягче, что ли, лиричнее. Не орала, только плакала. Иногда он готовил какую-нибудь татарскую еду. То, что умел. Например, куриный суп с лапшой, которую крошил квадратиками, потому что паутинкой не получалось. За столом Рауф говорил жене: «Маша, аша!», то есть «кушай».
Он тихонько вышел во двор. За вишнями, отрясая спиной капельки дождя с веток, растопил самовар. За нарубленными дощечками в сарай идти не хотелось. Там дымили мужики. Поломал о колено помидорные шесты, содрал со старой вишни шкуру. И самовар начал оживать: потрескивать в нутре, затягивать степную песню. Ну чем не живое существо?! Над ним набрякшее небо посветлело, расступилось кружком. Рауф, чувствуя коленями тепло, слушал самоварный плач, и вдруг лицо его сморщилось мочёным яблоком, скуксилось и брызнули слёзы. Соль зашипела на самоварной крышке, и тогда на надраенной латуни отразились двое.
– Рауф, не раскисай. Ты же мужик! Я тебя буду навещать, – пообещала Маша прокуренным голосом Лиды.
Самовар затрясло, и он откинул трубу – шипеть чёрным питоном в мокрой траве. Посыпал дождь, старый и безрадостный. Блёклая капустница до последнего держалась лапками за ветку, но точной горошиной дождя была сбита на землю. Лидия за рукав телогрейки потащила вдовца в дом, где хозяйничали чужие люди.
За печкой в тишине распределяли Машины вещи, выдёргивая их из вороха. Случайно присвоили свитер и новое трико Рауфа. Пахло столовкой и носками. Сквозняк бил по ногам. Рауф под видом водки глушил минералку. Но как будто бы опьянел даже.
Ночью закопался под два одеяла, носом, как ёж, отыскал запах Маши. Почудилось, что подушка ещё тёплая, как будто бы жена встала посреди ночи и зашуршала, полупрозрачная, в холодные сени. Гладил вмятину. Сон прошёл. Рауф, прикрыв веки, начал смотреть кино про свою жизнь, которое для него одного крутил пьяный «сапожник». Плёнка рвалась, шла по простыне сикось-накось, чёрно-белая с рябью, но местами вдруг вспыхивала и становилась цветной. Вот они собрались с бухты-барахты и поехали с Машей в Вардане.
– И куды попёрлись?! – кудахтала вслед тёща. – Ну прям кино «Печки-лавочки»!
Волна сразу же сдёрнула с Рауфа китайские трусы, а он этого и не заметил. Вышел на берег, как татарский Адам. Потом они со стыда пляж поменяли. Большие пушистые персики запомнил, как она ими, захлёбываясь, упивалась. Красивые косточки аккуратно складывала на подоконнике. Там он не пил, только домашний кисляк из баллона потягивал. А это не считается. Но дома сорвался. В кадре – стол с объедками, по которому бутылка катится, а под ним продрогший мужик кутается в скатёрку. Потом в избе появилась тихая иконка «Неупиваемая чаша». Запах лаванды по утрам туманом висел, и губы Маши шептали:
– О милосердная Владычица! Молитвы моей не презри, но услыши тяжким недугом пианства одержимых…
Десять лет – это срок. Чаша высохла, растрескалась, чуть сама не рассыпалась, и в ней паук издох – тот самый, который «зелёному змию товарищ». Затем запрыгали кадры про прежнюю жизнь – до Маши. Казань, белые рубашки. Не воздух, одеколон! Веер брызг из поливальной машины. Водила – монгол в мохеровой кепке, промазал по клумбе, зато дал струю по тюльпанам в вёдрах, заодно и по старушкам. Те завизжали, как девочки. Капельки прилипли к экрану, и тут же их смахнуло подолом платья. Студентка, похожая на Варлей, выпрыгнула прямо из вазона в голубом плиссированном колокольчике. Белыми ножками, ловко перебирая по ступенькам лестницы, взбежала к университету. Помахала ему сверху. Если чуток отмотать назад, то… Вот за поворотом они стукнулись лбами.
– Чё ты бодаешься, олень? – Она стояла красивая, с красной лампочкой на лбу.
Он ей соврал, что в универе химики разлили ртуть и все занятия отменили. Пригласил в новую пиццерию на углу Ленинского сада. Там, в кафе, они опять приложились, но уже губами. Вкус у Мадины был – «кофе с молоком». И он тоже тогда пил кофе.
Когда сын пошёл в третий класс, они, поднакопив деньжат, впервые поехали к югу – в Вардане. Зачем-то и Машу он потом туда же повёз! Даже отыскал ту самую харчевню, где аджичным огнём пылала его глотка, которую повар Сурен пытался залить прохладной «Изабеллой». Сурен умер, харчо стал жидковат, а вино зауксусилось. Гуляя, завёл Машу на окраину, где когда-то снимал скворечник с первой женой. Сунул голову за ограду – в «их» окошке торчала заплаканная мордочка ужаленной солнцем девочки.
Поначалу первая жена Мадина пыталась и во сне вытеснить Машу, она к нему даже с Маратиком приходила. Смотрела с укором, и тогда он не выдерживал и убегал из сна. Лежал на спине и разглядывал, как стукаются лунные черепа на потолке.
Сынок ему всегда вспоминался маленьким. Как он на первой их съёмной квартире осторожненько по стеночке ходил, как в окошко кулачком стучал, провожая папу в редакцию, как от медсестры со шприцем прятался в шифоньере и оттуда верещал жалобным голоском: «Малат усол, тётенька. Погулять!», как обкакался на столе на важные папины бумаги…
Рауф дивился способности головы неожиданно доставать и выбрасывать наверх откуда-то из неясных глубин клочки, казалось бы, давно уже омертвевших дней. И тогда колючка, обрызганная дождём, вспыхивала жёваным цветком, который, расправляя оборки, заполнял весь мозг. Рауф вдруг унюхал влажную от слюнок рубашечку сына, почувствовал его любопытные пальчики у себя во рту, услышал «гр-р-р» из алого беззубого рта и даже руки развёл, чтобы обнять сына. Такая любовь в нём забушевала!
…А ночью Рауф плакал. Всё во сне было правдоподобно. Обнимашки, сопельки. Не удержался и посреди ночи принялся писать письмо сыну на старый казанский адрес. Через месяц пришёл ответ. Из Москвы! Оказалось, сын женился на москвичке, и Рауф давно уже стал дедушкой. Письмо ему переправила бывшая жена Мадина. Она жила в Казани с больной дочерью от второго брака.
Договорились, что когда сын в июне приедет к матери, то заедет к отцу – внучку показать. Рауф даже начертил ему схему, где продаются билеты в речпорту до деревни Улиткино, нарисовал Волгу и пароходик на ней – как он будет красиво плыть, огибая острова. А на палубе он изобразил двух человечков. Старался, конечно, для внучки.
…Поставил стол в саду в тени под старыми вишнями, бросил красный ковёр на сорную траву. Этот ковёр Маша берегла – ругалась, когда по нему ходили. Порхать заставляла! С книжки снял сбережения.
С большим трудом в свином царстве раздобыл барашка. Агроном-татарин выручил – заказал за триста кэмэ за тысячу рэ пять кэгэ своим родственникам. Деликатесов всяких Рауфу доставил спецрейсом знакомый капитан по фамилии Черномор на плавучем магазине: икорки красной, крабов консервированных, буженины, сервелата, пахучих сыров – всего того, чего в местный сельмаг не завозили. И самое главное, вискарь ирландский привёз – прямоугольную пятилитровую бутыль. Черномор вцепился в неё, накрыл кудряшками бороды и отдавать не хотел. Тельняшкой рваной театрально обтирал, целовал, причмокивая. Рауф сжалился, свернул башку ирландцу. Отлил полкружки. Липкое облачко заморского алкоголя повисло над ними, пока его не спихнул с палубы волжский бриз.
– За встречу с сыном! Ну, айда… Вуй какуй она вкусный! – закачался, прикрыв зенки, капитан.
Потом плавмагазин отлип от пирса, заложил крен, и Черномор заорал песню. Пока Рауф затаскивал сумки, вискарьная тучка над ним всё висела и капала. И вдруг хлоп – накрыла медузой. Еле отфыркался. Чтоб перевести дух, прилёг на жерди, и тут его ноздри, как рюмочки, до краёв наполнились сладким бухлом. Выдавило слёзы, язык прошуршал по губе. Он отщипнул от смородины соцветие, пожевал. Так Рауф всегда делал, когда пил от Маши тайком и нечем было закусить. Но спирт хорошо перешибали только мята или смородиновый лист, а лучше всех – лучок. Вспомнил, где делал схроны: в трубе, подпирающей уборную, в самоварном сапоге, ещё высоко на яблоню за шнурок подвешивал. Но у Маши была фантастическая способность отыскивать предметы. Она специализировалась по водке. С закрытыми глазами руку протянет и… буль-буль – в сорняк. Его прятки с питьём были, конечно, детским садом. Она даже глоток на другом краю огорода слышала, а глядя на спину Рауфа, уже понимала, что тот тяпнул. Жалела! Вот если бы орала ослицей, то не завязал бы, а иконка тут, кажется, и вовсе ни при чём. Тем более на татарина она никак не действует.
Кто-то нетерпеливо попинал ворота. Потом закричал: «Ра-а-ауф! Аткрой, это Лида пришла, вина тибе принесла». Он затих.
Осторожненько, чтобы пружины не застонали, прилёг и даже руки на груди скрестил. Умер для Лиды и для всей её родни. Они тоже нет-нет да и заглядывали. Мужики пытались пролезть ужом. Рюмочную хотели из его избушки сделать. Хрен вам!
Сын должен был приехать с внучкой на последнем омике. В письме он намекнул, что в Подмосковье у него большой коттедж. Хоть посёлок и называется Дурыкино, но люди здесь хорошие, а природа вокруг напоминает леса Поволжья. Зайцы даже к крольчихам в село забегают. Сынок с женой по утрам уезжают в город, а няньку держать накладно, да и доверия к чужим тётям нету. Рауф начал подумывать о продаже избы. Сосед, казанский дачник, вроде бы для своего зятя домик подыскивал, чтобы поближе к Волге. Рауф даже заходил к нему вчера, но того не оказалось.
На стол прыгнул червивый ранет. Посшибал рюмки и поскакал себе дальше. Рауф пошёл поправлять. С утра поползал по грядкам виктории и отыскал три спелые ягодки для внучки. Под каждую подложил листочек мать-и-мачехи. Подумал: «Виски со льдом подать или просто сунуть в морозильник?» Вспомнил из где-то прочитанного, что тогда вкус «цепенеет» и только при комнатной температуре «распускается, как букет». Напишут же! Вынес из сеней бутылку, как сонного ребёнка на руках. Плеснул осторожно в рюмку, чтобы понюхать этот самый «букет». Покрутил на солнце. Пьяные зайчики разбежались по саду. Поднёс к носу, втянул. Голова откинулась. Это был вдох, не глоток. Или всё же маленький такой, микроскопический глоток? И был он похож на пропавшего щенка, который вдруг объявился и заскулил у ног, тычась в брючину. Потом резво обежал все комнаты, куда давно не заглядывал. Легко толкая лбом тяжёлые двери, чихал, смеялся и под конец сделал весеннюю лужу под иконой «Неупиваемая чаша». Рауф нагнулся с тряпкой и тут был повален и зацелован. Щенок на глазах превращался в барбоса.
…Марат долго стучал в ворота, потом перелез через забор. Открыл дочке. Занёс сумки с едой и гостинцами. Отца нашёл под столом. Тот спал, накрывшись скатёркой. Ночью он замычал, ударился головой, но, выпив, опять затих. И спал, посасывая виски, три дня. Сын полил помидоры, внучка собрала ягоды. Оставила дедушке три спелые на блюдечке. Уехали они утром, положив подарок – французский одеколон на самом видном месте. Вот проснётся Рауф, пусть порадуется. Потом на комоде найдёт свою тетрадку со стихами, которые посвятил Мадине. У «сверчков» ведь было продолжение:
Для тебя для одной, для одной…на изломе вишнёвая веткатонко пахнет весной!Петькины бурдюки
Петька всё лето ходил в болотных сапогах. Худой, в пиджаке с пугала, он и в жару носил кепку с ворсом. Утром быстренько прошмыгнёт на консервный завод, зато вечером выходит из проходной очень важно, как гусь. За поворотом уже поджидают дружки. С Петьки стягивают ботфорты и осторожно сливают содержимое в тазик. А он сидит на упавшем заборе, прихлопывая ос на худых и белоснежных ляжках, от которых тащит винцом.
Дружки каждый раз шутили об одном и том же. Просили ноги шампунем помыть, а то, вишь, винный букет перешибает. Черпали пластмассовым ковшиком, закусывали ржаной буханкой, которую потрошили на коленках. Быстро дурели от яблочного вина, которое называли «Слёзы Мичурина». А Петька не пил, у него изжога от этого кисляка начиналась. Лечился стаканом самогонки. Целый день он на заводе кочевряжился, ящики блестящим пиратским крюком подтаскивал к влажному жёлобу, по которому разносортица катилась в зев, где сверкали равнодушные ножи. Им всё равно, что покрошить на кубики: крепкую антоновку, червивую скороспелку или Петькину кепку. Внизу в сырой преисподней жёлтое пюре растекалось в прозрачных трубках по чанам. Кисляк бродил и пенился, урча от всыпаемых порций сахара. Угрюмый инженер, грек по прозвищу – Ехал грека через реку, бродил от чана к чану, что-то записывал огрызком карандаша, который затачивал зубами, в амбарную тетрадь. Пробовал, припадая губами к кранику, сплёвывал и незаметно набирался. К концу смены из-под земли неслась его гундосая песня из непонятных слов. Наверное, то была «Илиада»!
Трезвенники на заводе не задерживались. Вороны и те ходили, как матросы, вразвалочку, а бурые крысы лежали прямо у проходной, и контролёр татарин Мансур перед приездом директора брал фанерную лопатку для уборки снега и метал тушки за забор. Так что птицы здесь ходили, а крысы летали!
Директор был ушлый дяденька-еврей, который прикрывался от солнца или дождя пухлой папкой. Он в первый же день своего назначения собрал рабочих и сказал, что пить яблочное вино и есть нерасфасованную по банкам солянку можно сколько душе угодно, но только на территории завода. Выносить за пределы возбраняется, и это будет караться штрафом.
Болотные сапоги – Петькино изобретение. Снабжал он вином не столько дружков своих, сколько девушку одну по имени Лиза. Она приезжала к своей бабке на майские и застревала здесь в объятьях ползучего хмеля до октября. Частенько засыпала в огороде у Петьки с заголившимися ляжками. Но Петька не пользовался, а тихо любовался из картофельной ботвы с травинкой в зубах. Пристроится рядом и пялится на задницу, как в телевизор.
Пришла осень, но для Лизы с Петькой наступила весна. Он её поил исключительно «Советским шампанским», пряники покупал. В мае она уже качала хныкающий свёрток. Петька хвалился: «Всё как у людей, ссытся и под себя ходит. Подрастёт, вино папке таскать будет, а потом мне морду набьёт!» К концу лета любовь завяла. Петька принялся поколачивать Лизу – и довольно крепко. Без фонарей она уже не ходила.
В моменты трезвости Петька упивался книжками. Особенно Шукшин ему нравился. Помню, лежит он в дырявой лодке, заложив страницу одуванчиком, и смотрит на город, покачивающийся на горизонте. Волны лижут сахарный Кремль и маковки церквей. Увидев меня, стрельнул сигарету и сказал: «Я вот в Казани лет двадцать как не был. А чё там делать? По рюмочным ходить, а потом в лоб от какого-нибудь жлоба получить? Не, я уж лучше здесь полежу». Лодка была излюбленным местом его уединений.
Каждое лето в отпуск из города приезжал родной брат Пети Васька. Первое же застолье заканчивалось мордобоем. Били они друг дружку красиво, напоказ соседям и дачникам. Даже не били, а убивали. Бегали с мотыгами, окучивая загривки и бока. Потом брались за лопаты и шли в штыковую. Если вначале в воздухе висел мат, то дальнейшее кровопролитие проходило стиснув зубы. Только «ах» и «ох» при прямых попаданиях.
Драка эта была традиционной. Ещё когда Васька входил во двор и стряхивал с мокрых плеч сумки и баулы, связанные носовым платком, он уже готовился к бою. Искоса присматривал, где стоит садовый инструмент. Петька же, заключая младшего брата в объятия, невольно отмечал, как тот поправился за зиму и теперь его будет сложнее завалить. Начало драки всегда было одним и тем же. Петька вскакивал на стол петухом и, исполнив боевой танец по рассыпанной соли, носком офицерского стоптанного ботинка заезжал брату в зубы. Тётя Люся орала голосом Зыкиной: «Убивают! Памаааагите!» Гости разбегались.
В сумерках братья шли в примирительную баньку. Были слышны влажные шлепки берёзовых веников и шумные обливания ключевой водой. Дверь скрипела, выплёскивая жёлтый свет в темень зарослей, где засыпала, посвистывая усталыми птицами, старая черёмуха. Угли, вытряхнутые из самовара, шипели в ночной росе. И я подумал: «А что если это любовь такая у них? Странная, жестокая, дикая?»
На следующий год я появился в деревне на майские праздники. Начальник пристани первым сообщил, что Петька помер. В крещенские морозы, когда Волга трещит под весом призрачного ледокола, Петька вышел из проходной… Накануне он особенно крепко побил Лизу за то, что строила глазки участковому. Был день аванса. Петя повстречал у сельмага кого-то из дружков. Раздавили беленькую, потом добавил одеколон.
…Вот он пнул калитку и зарылся в пушистый тёплый сугроб. И почему с «сугробом» так хорошо рифмуется «гроб»? Лиза, отодвинув весёлую в крупный подсолнух занавеску, посмотрела на Петьку, и не вышла.
Могильщик дядя Миша, которого я повстречал у трубы родника, сказал мне:
– Вона смотри, руки у меня болят, пальцы еле шевелятся. Зимой копать воще никаких сил нету. Так мне Петька-покойник посоветовал, ты, грит, дядь Миш, зимой их не копай, а зараний, осенью, когда земля ещё пух. Ну я, это, взял и выкопал в рядок сразу девять ямок. За зиму, так и есть, одна старуха померла, семеро – молодёжь, а девятым Петька представился. Замёрз, пока ночь лежал, как Иисус – руки в стороны. Я ему и могилку-то расширил, крестом сделал. Так и закопали. Хороший парень был, хоть и дурак!
Я толкнул Петькину избитую ногами многострадальную калитку. Посмотрел на проталину с пеной от последнего сугроба. На ней уже проклюнулись жёлтые цветочки. Может, он как раз на этом месте и…
Прошёл к вдове. В захламлённых сенях с верёвками, цепями и пучками полыни на гвоздике висели те самые болотные сапоги-бурдюки – носами в разные стороны, как будто рассорились. От них тащило кислым яблочным винцом…
Лестница в Небеса

