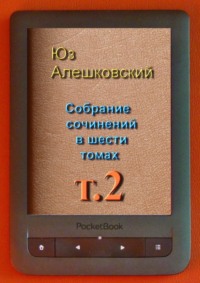
Собрание сочинений в шести томах. Том 2
Не знаю, как уж тогда башка моя скумекала, что надо махнуться с Леней документишками – солдатскими книжками. Он ведь был один на белом свете, сирота, и у меня, кроме Нюшки оставленной, тоже никого не было. Только вот биография моя, как говорится, тянула меня, ровно камень под воду. Отец с большевиками в чем-то не столковался, учуял зверя, над народом нависшего, хоть и сам был большевиком поначалу, в Кронштадте заварушку устроил, ну, ленинцы-сталинцы его и кокнули.
В школе, сами знаете, маршал, понимаете, жизни мне не было, травили, в техникум даже не взяли, не то что в вуз, а я ведь учиться ужасно хотел, голова была на плечах неплохая, толк бы вышел из меня. Не понимала этого дуpa зловредная – советская власть… В пастухах ходи, вражеский выблядок, яблочко от яблоньки недалеко упало…
Нюшку я за что полюбил навек? Выйти она за меня не побоялась. На всех харкнула с комсомолом вместе, с активистами, стенгазетами и прочей бодягой… Вот какая баба была, маршал.
Бес, конечно, тогда меня попутал, потому что понял, зараза, что совестливый человек на поле боя и перед Господом Богом глаза потупив стоит, грехам своим ужасаясь и людскому общему злодейству. Вот и надо его, следовательно, или, как Ленин наш выражается, – «эрго», под монастырь подвести. И подвел, гад такой. Что ему стоит?
Я и взял размокший Ленин документишко, карточку сорвал. Свой же засунул ему за пазуху. А бес, как сейчас помню, нашептывает: двух зайцев сразу, дубина, убиваешь, советской власти пятачок поросячий к носопырке приделываешь, и Леня будет у тебя вечно живой, вроде Ленина. Что с того, что Вдовушкина как фамилию ты похоронишь? Сам-то ты ковылять будешь по белу свету, хоть и на одной ноге. Леня же большое спасибо скажет тебе на том свете за живучесть имени своего… знаешь, сколько людей в петлю враз полезло бы, если б пообещали им, что имена ихние переживут надолго их самих после смерти, и не сумлевайся, Петя, Ленею будь…
Я и стал. Вот как было дело в натуральном виде, маршал, я и слова не соврал…
Простился с Леней, вернее уже с Петей, с ногою своей простился, портянку, правда, прихватил, чего добру зря пропадать, а так пол-России скоро, судя по всему, немец отхватит сталинской роже благодаря…
Присыпал окопчик землею. Могилку как положено соорудил. Каску свою положил на нее, а Ленину на себя надел поверх пилотки. Изнутри касок фамилии наши были выписаны.
Помянул затем друга. До гроба, говорю, теперь тебя не забуду, милый мой, прощай, прости, извини, может, так лучше для живого человека при варварской власти будет? Царство тебе Небесное и моей правой ноге тоже, куда же ей теперь направляться, не в ад же кромешный? Прихвати, будь любезен, Леня, и ее заодно с собою…
Еще раз помянул. Огляделся по сторонам, чтобы место это не запамятовать. Ужаснулся вновь тому, что люди с землею натворили и с самими собою, и пополз в низинку костыль какой-нибудь из сука сообразить… Бой тем временем в стороне где-то идет…
Выжил, одним словом, чудом выбравшись из окружения и самой смерти мосластой еще раз хрена с отворотом показав.
Гангрена, по-моему, начиналась у меня. Думал – все, хана, лучше бы прихватило тебя тогда вместе с Леней, хоть рядышком лежали бы до Страшного Суда…
Собака спасла меня, маршал. Такая же жалкая, бездомная, голодная и затравленная тварь, как я сам… Отмочил я тряпки кровавые, загноившиеся от культи, в речушке чистой, смотреть боюсь на то, что от ноги моей правой осталось…
Вдруг собака подходит. Хвостом весьма печально виляет. Обнюхивает осторожно и тщательно. Не немец ли? Убеждается собака, что русский человек пропадает тут ни за грош, и просто так, ровно форменная медсестричка какая-нибудь Машка, Танюшка, Нинка, Тамарка, Катька, Царство им Небесное всем, – принимается собака без долгих рассуждений, выполняя, так сказать, служебный свой долг, зализывать культю мою саднящую и внешне ужасную до отвращения и страха.
Шерсть на благородной псине в репьях, в грязище, брюхо подведено под хребтину от голодухи.
– Машка, – говорю, – накормлю я тебя сейчас, не боись, ежели выживу – скорей подохну, чем брошу, верь
Пете, верь Лене. Леня я теперь, Машка, Леня, Леонид Ильич Байкин.
А она хвостом ободранным повиливает, глазами, как доктор из-под очков, поглядывает на меня и зализывать культю не перестает.
Чем бы, думаю, накормить мне Машку? Тащусь в лесок, потрепанный боями. Нога подгибается, башка кружится, подташнивает от слабости, но тащусь. Не для себя же, в конце концов, стараюсь, а для собаки голодной. Машка за мной робко тянется, поскуливает от тоски собачьей, припугнула чертова война не на шутку тварь Божью…
В лесочке же ни вздоха живого ни на ветвях, ни под кустиками.
– Выходи, – говорю, – барсуки-суслики, из бомбоубе жищ, пожертвуйте собой ради человека и собаки. Галки, вороны, сороки, куропатки, куда вы запропастились все?… Тихо. Только комарики позуживают, на нервы, как самоле ты, действуют… Беда… Война… Смерть кругом… В двух гнез дах упавших птенцы полуголые, дохлые лежат, и глаза их ние приоткрыты, как у людей, посиневшими веками… Тошно было птенцов предлагать Машке, да она и сама есть их не стала, только обнюхала издали и вздохнула от тоски так, что сердце у меня ко всему прочему закололо… Что делать, как Ленин наш говорит, когда ему жрать охота… Брусника, ежевика и малина в зарослях – не для Машки еда… Хоть возвращайся в мясорубку на поле боя и неси собаке кусок человечины, елки зеленые… Это я так от безвыходности подумал и от тоски. Были такие собаки в войну, что бесстрашно околачивались около трупов, в ранцах солдатских и офицерских жратву отыскивали, но Машка была иного рода личность. Она войну по-человечески переживала… Погибла она на моих глазах от этого… Что делать? Знал бы, что встречу ее, придержал бы колбаски и сыра с булочкой…
Но если Ленин при таких обстоятельствах в уныние впадает и не знает, что делать, то Машка распорядилась умнейшим образом. Села, нос кверху вытянула, облизывается и меня приглашает взглянуть туда же.
Там чуть не на макушке высоченной сосны сова сидела, дрыхла себе, как всегда в дневное время… Не она ли над полем ржаным этой ночью носилась? Лишнего страха нагоняла, стерва.
Снимаю из-за спины винтовочку свою. Помехой она, конечно, была для меня, но и без винтовки на безобразие можно нарваться при встрече с нашими… Где твое боевое оружие, дезертирская харя?… Такой у вас разговор был, маршал, с несчастным солдатом, прорвавшим окружение. А вы его в расход пускали за потерю винтовки, чтобы другим неповадно было по приказу Сталина…
Снимаю винтовочку, а сил вскинуть ее, как некогда, словно пушинку, прицелясь немцу прямо между рог, нету, чую, таких сил в слабых мандражащих руках… Кровушка-то потеряна, душа от горя и страха истомилась в лоскуток, и коленка единственная подгибается, да еще приходится, чтобы не завалиться на глазах у Машки, равновесие придерживать, опершись о дрыну, из орешины вырезанную.
Сажусь на пенек… Не промахнись, Петя, то есть Леня, не то слетит сова и подохнет с голоду подруга твоя фронтовая – Машка… Тяжесть в винтовочке, как в болванке стальной, дрожат руки, глаз слезится, взрывом пораженный, но стреляю в бешенстве от своего бессилия, мать его, маршал, разъети… Фу ты, Господи, падает в траву сова, даже крылья от неожиданности не успев растопырить. Сова, конечно, не гусь и не курица. Тошно было ее ощипывать и потрошить, но пришлось и через это в жизни пройти… Всего я в ней, честно говоря, ожидал, но чтоб ощипывать сову?… И по пьянке в голову не влазила такая муть…
Костер сообразили. Чего уж жрать сырое совиное мясо порядочной собаке? Припалил я его как следует… Жрет благодарно. Пошикиваю, чтоб не давилась от безудержной жадности… И сам вдруг слюнки пускаю. Поделись, говорю, Машка, жизнь и во мне надо срочно поддержать. Подносит в зубах. Я и заплакал от жалкости нашей и полной невинности в происходящей с людьми и землею нашей подлости, а также от ярости на двух немыслимых вождей.
Вот, говорю, Машка, Сталин нам перед выборами говорил, что до коммунизма рукой подать, что расцветут скоро в пупках наших сытых вечные фикусы, а мы не работать в основном будем, а петь, плясать, мечтать и помогать другим закабаленным народам всего мира, чтобы и им как можно скорей дойти до нашего чудесного состояния… Но что мы видим вместо фикусов в пупках? Видимо, мы петь еще вроде бы можем, а плясать… на руках будем, дай только с фашистом сладить… Совиным мясом сонной ночной птицы обернулся нам с тобою, Машка, коммунизм рябой отвратительной хари, приятного тебе аппетита, сестрица…
Зря, думаю, ты собачью порцию, Петя-Леня, отполовинил. Все одно подыхать тебе от гангрены антоновой. Генералы и то от нее подыхают как миленькие, а ты и подавно загнешься. Мог бы и в чистом виде помереть, странным на вкус мясом не оскверненный… Мало я верил в спасение, плоха больно культя моя была, очень плоха…
Но вот день один проходит, потом второй, третий, Машка сама время процедур чуяла, неделя проходит, позуживает приятно культя моя, выглядит гораздо приличней, жара нет во всем теле, опухоль с коленки спала, а еще дней через десять стал я, ровно в детстве, по-пацански корочки с раны заживающей отколупывать… Кость, главное, затянуло рваной моей кожей…
Машка, говорю, ты ведь не собака, а хирург первого класса, Бурденко четырехлапая, век тебя не забуду, жизнь тебе постараюсь, несмотря на тяжелое положение Родины и народа, справить и письмо, пожалуй, накатаю Сулико – вонючей мандавошке, чтобы собак на фронте не под танки бросали, толку от этого все равно никакого нет, только Ворошилову тупому лишний орден Ленина повесят, а чтобы вас в медсестры пристроили на крайний гангренный случай… Спасибо, дай поцелую тебя в бедный нос, псина… Залилась тут Машка откровенно радостным лаем, а я замурлыкал, как всегда: «синенький скромный платочек…»
Вы, маршал, не смущайтесь, что я прерываюсь иногда. Черти – Маркс и Ленин – к бумаге рвутся, в считалочку играют, кому первому писать: «Троцкий, Сталин и Гондон сели все в один вагон и поехали в Тифлис разводить там сифилис. Раз, два, три – это будешь ты…»
Сейчас Марксу повезло, а я пойду покурю, отдохну, время три часа ночи, тоска на душе мрачная, но и надежда ее не покидает, что установите вы в конце концов истину военного времени и дадите человеку побыть хоть немного самим собой, завтра перейду к заключительной половине моего темного дела… поскольку выговорился и реже плачу от каменного невнимания к моим правдивейшим заявлениям. Не плачу, но и не пою. Сил нету петь. Допелся суслик…
1917-му КОМИНТЕРНУ
Не ирония ли это, товарищи, что я вынужден драться за каждый листок своей истории болезни, повторяющейся дважды: первый раз как трагедия, второй – как нелепый фарс? Только провонявшие насквозь жигулевским пивом и советскими сосисками бюргеры не понимают причины перерождения в СССР святой коммунистической доктрины в окостенелую структуру праздного существования партийной, военной и жандармской элиты и охрану ее от недоумения народа. Если написание «Капитала» было трагедией, то перевод этого труда на русский язык, который я начал было успешно изучать, является несомненным фарсом. Если бы перевод назывался не «Капитал», а «Состояние», что соответствует психофизиологическому восприятию капитала вообще не быдловым, а аристократическим сознанием русского человека, то развитие пресловутого движения за освобождение рабочего класса России, безусловно, пошло бы другим путем. Чистые и романтические принципы молодого Маркса мерзкая личность герра Ульянова ухитрилась вывалять в кровавом дерьме настолько, что их реабилитация представляется мне при самых оптимистических прогнозах делом второго цикла человеческой истории… Состояние в себе, как таковое, безусловно, первичнее капитала – для нас. В чем глубочайший смысл польских событий? В гангрене власти, в дошедшем до очевидной ручки противоречии интересов власти посредственных тупиц и нравственных дегенератов с интересами широких трудящихся масс. Тем более в последнее время рабочему классу стало ясно, что ни о каком превращении труда в капитал не может быть и речи, если объективированный труд не инъекцируется калорийными продуктами питания. Иными словами, для того чтобы произвести прибавочную стоимость, пролетарий должен есть мясо, масло, молоко и прочие продукты сельского хозяйства. Ничтожный недоучка, безграмотный философ и некультурный параноик Ленин просит Коминтерн признать вторичность продуктов питания в классовой борьбе с перенесением главного акцента внимания партии на вопросы идеологии. Нет. В организме человека базисом являются господин Желудок и мадам Печень, а надстройками – идеология, инстинкты труда и осознанная необходимость искусства. Поэтому: пролетарии так называемых соцстран, соединяйтесь в поддержке общенародных интересов рабочего класса Польши, Господин Улья…
Лаврентий Эдмундович
Не пора ли прекратить эту заразную игру в меньшевистские бирюльки с молодым Марксом? Никаких послаблений. Ни в коем случае не гладить по головкам этих господ, не выдержавших испытание временем. Только бить, бить и бить. В этом залог нашей победы над легальным младомарксизмом… И перестаньте вы, батенька, закупать у империалистов хлеб для нашего рабочего класса. Неужели вам не ясно, что разрушение объективно кризисной ситуации внутри всего социалистического лагеря не в ублажении желудков разуверившихся в нашем деле двурушников, а в активном развитии хаотических моментов экономики Запада и Японии, а также в поддержке любого терроризма (курсив мой. – В. Уле.), дестабилизирующего и без того разболтанную структуру капобщества, в импортировании наркотиков, во всяческом развитии оболванивающей пролетариев все стран культуры, в провоцировании роста преступности и расовых конфликтов, эрго – расшатывании оснований прогнившего общества насилия и эксплуатации.
Нам необходимо перенять у поповщины практику перехода на постную пищу вплоть до аскезы перед революционными праздниками. Причем количество этих праздников необходимо увеличить вдвое и даже втрое. Постные дни, недели и месяцы существенно укрепят наши стратегические наступательные силы. Почему мы продолжаем отдавать народ – эту движущую силу истории – на откуп поповщине? Или всенародный пост спасет советскую власть, или недостаток мяса, масла и зерна ее погубит. Все на борьбу с аппетитом, который, по словам великого Демокрита, приходит необходимо во время еды. Прошу срочно переименовать «Правду». «На боевом посту» – лучшее название для данного истмомента.
Ох, батенька, не нравятся мне эти польские настроень-ица.
Поздравьте Хафеза Амина с приходом к власти после Та-раки-какаки (смех мой. – Влиуль.). Очень симпатичный афганец. Просто – глыба. Матерый человечище.
Правда ли, что Москва наводнена бандами ходоков, разбазаривающих продукты рабочего класса столицы? Всех – под трибунал. Чем меньше ходоков, тем меньше едоков. Неужели вы забыли простую арифметику классовой борьбы, товарищи? А главное, санитары регулярно бьют меня по головке, по головке, по головке, по рукам, по ногам, по настоящему, по мудрому, по человечьему, по ленинскому огромному лбу. Иногда хочется все бросить к чертовой матери и лечь на свое место. Но мы дотянем, мы дотянем до конца предыстории человечества. Основное – наполнять наркотиками западный мир. Пусть пребывает под наркозом, пока мы удаляем из человечества раковую опухоль частного предпринимательства – этого мощного тормоза на пути к коммунизму. Не забывайте, что до Него социализм – это учет недовольных и инакомыслящих с последующей изоляцией их от общества. Дайте, наконец, санкцию на ликвидацию Маркса. Ваш Лену л… Бросьте…
Беда, генсек, с этими твоими деятелями. Фридриха и Сулико – однодельцев ихних – только здесь не хватает…
Маркс до чего дошел? Пасту зубную из пяти тюбиков выжал, в кружке развел чайком и хлобыстнул, не крякнув даже.
– Кайф, – говорит, – очень сейчас хочется не переделывать мир, а объединять и тискать алкоголический манифест. Ну, а если уж переделывать мир, картавая сковородка, то не твоими грязными руками, а, по крайней мере, силами социал-демократов и прочих партий народного благоденствия и защиты традиционной морали. Чего ты, как хорек, возненавидел весь мир, если у тебя братца ухлопали? За дело ведь повесили, а не просто за калмыцкий глаз, на царя ведь, сволочь, руку поднял, а не на какого-нибудь поганого инструкторишку райкома твоей дегенеративной, фантомальной партии… Об этом ли мечтали мы ночами с Фридрихом. Какое счастье, что он не дожил до такого невыносимого позорища. О, если бы можно было начать все сначала, пошли бы мы с ним вместе совсем другим путем. Где моя молодость? – Вот тут, маршал, начинается главная катавасия. Мы за животы с диссидентами и с Колумбом от смеха хватаемся, только Самосов сидит и как бы продукты людям отпускает. Мания величия у него застарелая: директором Елисеевского гастронома в Москве себя воображает. А я думаю так: если бы он на самом деле был директором, то и сидел бы в данный момент у себя в кабинете, а не на казенной коечке, как и я. Потому что если бы я был натурально Байкиным Леней, то я в земле сырой находился бы, и надо мной огонь негасимый горел бы синим пламенем с розовым венчиком, и вдовы безутешные лили бы слезы по сгинувшим без вести мужикам, и матери старые-престарые, выплакавшиеся до душевного донышка, устилали бы мое каменное надгробие ромашками и колокольчиками… Ну а Ленину если верить, то когда бы выполняла партия все его мысли и мечты, то капитализма не было бы уже на всей планете и люди сытые и свободные гладили бы друг друга по головкам, работая исключительно по желанию и беря в открытых распределителях все, что душе твоей коммунистической угодно, вплоть до птичьего молока. А на каждом столбе висели бы чучела бывших банкиров, зав. корпорациями, монополиями, чучела Картера, Рейгана, Садата, Сахарова, Солженицына и прочих менее значительных врагов коммунизма, вроде перебежчиков балерунов и шахматистов.
И лилась бы, не смолкая по ночам, нечеловеческая музыка советских композиторов из громкоговорителей и с тех же столбов. Сам же он – Ленин – лежал бы на своем законном месте, где сейчас враги и перерожденцы незаконно распластали труп проходимца какого-то, скорее всего, по прикидкам Ленина, палача и сволочи гнусной Ежова Николай Иваныча, потому что пропал он в тридцать восьмом году бесследно и нигде, кроме как в мавзолее, не мог по распоряжению Сталина расположиться…
И у Маркса молодого – одна и та же песенка. Капитал надо понимать как состояние, и тогда не будет никакого в мире бардака и власти бескультурных динозавров, вроде тебя и твоих дружков, маршал. Мне эти слова непонятны, ибо я не имел никогда ни капитала, ни состояния.
Одним словом, с обоими не соскучишься. Вот я пишу сейчас, а они сцепились вновь. Теперь Ленин в ответ вопиет:
– Ты приставал к Наденьке на Пражской конференции! Дело о твоих педерастских отношеньицах с Фридрихом было первым делом нашей партии, но его скрыли от проле тариев всех стран. Нонсенс… Ты продался, подлец, социалдемократам за чечевичную похлебку… Ты ведешь из-под койки провокационные радиопередачи в предательскую Польшу, чтобы проклятые забастовщики – враги партии и власти – вспомнили про прибавочную стоимость и права пролетариев. Прибавочная стоимость, батенька, кончилась, с вашего позволения, в 1917 году, в октябре месяце по старому и отныне вся до копеечки идет на развертывание народно-освободительных движений во всем мире и на дальнейшее насильственное расширение сфер нашего влияния. Я тебя теперь глушить буду, и плевали мы – большевики – на заключительные акты, мудро подписанные нами в марионеточной Финляндии… Ву-у-у-у-вы-ы-ы-ы-ввв-а-ав-ав-ав.
А Маркс наш запрещенным приемом пользуется. Тихо так и вежливо заявляет:
– Нет, никогда мы, конечно, не придем к победе коммунистического труда. Жамэ, месье Ульянкинд.
– Придем. Придем. Придем. – Кулачонками Ленин по тумбочке забил и ножками засучил очень нервно. Жаль даже человека. Лицо у него в такие минуты становится больно несчастным и пацанским. А я думаю, что это за зараза такая в головах у того и у другого с поражением всех остальных первонадобностей души? Что это за напасть такая дьявольская, что из-за нее ни нам, русским, ни полякам, ни евреям даже и афганцам житья нету вот уж седьмой десяток лет? На кой хрен нам все это надо? Почему кормят нас насильно мерзопакостью этой, как диссидентов в голодовку, если мы уже из души выблевали и социализм и коммунизм, а желудки, животы наши такой тухлой требухой не прокормишь…
Опять драка. Маркс – тот посильней и помоложе. Пригибает голову, промеж колен зажимает ее и «селедок» с оттяжкой выдает Ильичу по жопе сохлой. Крик. Шум. Втупя-кин пьяный из процедурной приперся. Гной в бесстыжих глазенках… В карцер обоих… Чудом меня со стыренной историей болезни не засекли. Думать страшно, что тогда было бы… Страшно… А зачем шуметь из-за идейных разногласий? Не надо. У нас тут не то что на воле – думай в любом плане и в любом разрезе, но режима не нарушай. Раз есть такое право – не шуми, хотя это право из нас разной нечистью в таблетках и шоками…
Вот человек, сосед мой по койке, Степанов Ваня. Что ему Втупякин толкует? Пока, толкует, не поверишь, сволочь, что советские профсоюзы – школа коммунизма, а польские – махрового капитализма, не выйдешь отседова, сгниешь с потерей диссидентской своей личности и обретением новой – хорошей, любящей партию, правительство наше родное, КГБ и ВЦСПС. Такие мрази, как ты, Польшу от нашего лагеря отторгают пятый раз за всю историю этого блядского государства, норовящего укусить мать-Россию в щедрую грудь. Брюхо свое шопены и мицкевичи всякие выше социализма ставят… Понял, гад народа, медицинскую мою истину?…
Что же это такое, генсек? Все мы правды, только лишь правды добиваемся здесь. Я – чтоб самим собой перед смертью стать. Ленин – чтоб его заместо ежовского чучела в мавзолей, можно сказать, личный вернули. Карла желает от души Гегеля своего с головы на ноги опять поставить, потому что они тогда с Энгельсом погорячились и промазали слегка. Гегель-то, оказывается, на ногах стоял, и перекантовывать его вовсе не следовало.
Или Степанов. Справедливо человек чешет, что нету у нас никакой диктатуры пролетариата, что раб он, загнанный до скотства за шестьдесят лет, и что все вы там в Кремле и на периферии в обкомах и райкомах – кучка сумасшедших туподрынов, изолгавшихся и заплесневевших в крепостях, охраняющих вас от народного взгляда. Разве ж не так, генсек?…
Или взять Гринштейна. Самолично книгу сочинил человек и в ней доказывает, что конституция наша – самая справедливая как бы в мире – нарушается на каждом шагу. Факты у него в руках, а не трепня. Он же и тычет вам вашей конституцией в носопыркалки и вежливо просит выполнять ее – и ничего больше. Не прав он, что ли? Человек сам книгу сочинил от большой души, болеющей за твою же советскую, по глупости, власть, а его – в дурдом, тогда как вы сами наболтали всем давно известную историю про войну бригадушке шабашников продажных и премию за это отхапали внаглую с золотым оружием. Думаете, Ленин не раскрылся нам за сто грамм конфет «Вперед», как оно дело было, как политбюровская шобла целую неделю обрабатывала беспрецедентно своего скромного и простого Ильича, пока не дал он согласие на премию вам в сто тыщ? Вы ведь самого Сулико в этом деле за пояс заткнули. Тот уж на что охамел в сосиску, а премий Сталинских себе не присваивал, воздерживался, стеснялся, видать, народа и Черчилля с Трумэном.
Это у вас, генсек, мания величия и преследования, если вы Степановых, Гринштейнов и меня с Карлой в дурдом упрятали. Ну, Колумб – хрен с ним, спятил действительно человек, доказывает, что он Америку открыл, но сообщить об этом в Москву, в ЦК не мог, так как тогда не было еще телеграфа… И Ленин, на что идиотик, а прав, что если бы вы его захоронили, несчастного, по-настоящему, на все века вперед, то не было бы в стране у нас никакого бардака в тяжелой промышленности и в сельском хозяйстве… Ну ладно. С вами насчет этих дел болтать, что гороха нажраться – в брюхе бурчит, а правды нигде не добиться. Вот как…
В общем, захоронил я тогда Леню и ногу свою правую. Как плакал над ними – один Бог, небось, слышал… Салют, помню, дал из винтовочки, хотя внимание привлекал вражеское. Плевать на вас, думаю, нельзя хоронить солдата и друга без воинской почести… Прощайте, дорогие, вечная вам память, вечная вам слава за все хорошее, что сделали вы для меня лично и для Родины нашей, попавшей под два ярма – большевистское и фюреровское. Могилки вашей век не забуду, не быть ей без цветочков, без яичка на Пасху и булочки белой в Родительский день. Клянуся…
Собаку, кстати, что жизнь мне спасла, а главное – вторую ногу, я тоже не забыл. При госпитале Машка кормилась. Променял я ради спасения живой твари верность своей Нюшке, Настеньке, Анастасии, променял. Врачиха одна пожалела из-за меня собаку.

