
Подстреленный телефон
Кланки покоробило, – уже второй раз за этот день он испытал сильнейшее потрясение, и всё, что казалось важным секунду назад – найти себя, вернуть себя, – отошло куда-то даже не на второй, а на какой-то сто пятнадцатый план. Проблемы же сегодняшнего утра – послать все к черту, уехать куда подальше – казались бесконечно далекими.
Всемила попыталась представить себе эту бесконечную череду веков – но воображение отказывалось ей подчиняться…
Вот над этим фрагментом надо бы как следует поработать. Ну и как-то слишком быстро наступает развязка, в которой мы узнаем, что Луг похищает души, запертые в туннеле не для того, чтобы скормить их каким-то кельтским божествам, а чтобы высвободить души, которые запутались сами в себе, в своем прошлом, в своей жизни.
И вот здесь вы, уважаемый автор, пожалуй, делаете самую большую свою ошибку: только сейчас вы вываливаете на читателя все прошлое героев, всю подноготную. Только теперь мы узнаем, чего стоило Кланки пробиться из маленького шотландского городишки в крупную столичную фирму, в высший свет, чего стоила ему свадьба с Эдит (только теперь мы узнаём, зачем была свадьба с Эдит), потом было неумолимое чувство, что жизнь катится куда-то в никуда, утренний скандал, бегство из дома, в машину, во Францию, почему во Францию, он и сам не понимает, прочь, прочь, в никуда…
Вот эти истории героев – Фарид, который бежит от нищеты в своей деревушке, Кланки, который пытается прожить не свою жизнь, Всемила, которая ищет, сама не знает, что, бежит по миру не то от самой себя, не то в поисках самой себя – все эти вещи валятся на читателя как снег на голову. Лучше распределите эти подробности по книге, – тут Кланки волнуется, как волновался в день собеседования в крупной компании, тут Всемила вспоминает слова родных – чего тебе дома не сидится, что тебе еще надо, тут Фарид бежит от своих трех жен, от оравы детей, от маленького домишки из рекламных щитов, от какого-то тягостного беспросвета…
Так вот, все эти подробности разбросайте по книге. Пусть читатель постепенно догадывается, что движет героями, от чего они бегут, чего ищут. Пусть понемногу становится понятно, почему Кланки так недолюбливает Фарида, почему он сразу обвиняет бродягу, что это тот крадет людей у них самих. Пусть в памяти Всемилы вертятся жуткие россказни о том, что беженцы делают с женщинами – тогда станет понятно, почему Всемила падает в какой-то там водосток (откуда он там? Что за водосток? Вы чертежи туннеля смотрели?) и не торопится принять помощь незнакомого смуглого парня.
А следующие главы вообще ни в какие ворота не лезут. Ну ладно, я еще могу поверить, что Кланки уже готов признать, что все это время жил не своей жизнью, готов расстаться с этой не своей жизнью, бросить все, вспомнить что-то бесконечно забытое, кем он хотел стать, но не стал… Кстати, почему именно комиксы? Если в молодости Кланки был так помешан на комиксах, то он мог сделать на них неплохую карьеру, что его вообще потянуло в Сити?
ВАМ СООБЩЕНИЕ
ПРОЧИТАТЬ
Ну, вот как-то сомнительно, что человек может так сильно зависеть от общественного мнения, свято верить, что лондонский Сити – это вершина мира, и вообще.
Но если эта глава получилась более-менее убедительной, то все остальное просто не лезет ни в какие ворота. Как, по-вашему, какой переворот должен произойти в сознании Фарида, чтобы он решил вернуться в свою нищенскую лачугу и превратить грязный, бедняцкий город в столицу мира? Ну, хорошо, он помирился с Кланки, ну хорошо, давно умерший Кланки отвез давно умершего Фарида в город-призрак, на вересковые пустоши, где от Лондона остались одни руины, ну хорошо, Кланки показал Фариду город, – каким он был в двадцать первом веке, шумные улицы, огни реклам, причудливые иллюминации над тротуарами, чад пабов, красно-синие сувениры… показывает историю города, древние гравюры, которые показывают старый деревянный Лондон, душный, смрадный, и не верится, что за пару столетий он стал вот таким… Ну, во-первых, уважаемый автор, не надо романтизировать Лондон, называть его столицей мира. И я никак не поверю, что увидев всё это, Фарид воодушевится мечтой сделать такой же прекрасный город у себя на родине. Лично я очень глубоко сомневаюсь, – нужны века и века, чтобы изменить менталитет…
Ну и напоследок – я не понимаю, что ищет Всемила, если она сама признается, что не знает, что ей нужно. Что она ищет? Почему жрец не может ей помочь? Почему Всемила в конце концов уходит куда-то к звездам – ей мало путешествовать от города к городу, теперь она будет странствовать от звезды к звезде? У меня такое чувство, что даже вы, автор, этого не понимаете.
Немало вопросов по поводу самого жреца в древнем храме. Я не нашел ни одного упоминания про других людей. Жрец живет здесь совсем один? Но в таком случае откуда он берет еду, одежду – в рассказе ни разу не упоминается, чтобы он делал что-то в огороде, или в курятнике, или у него были какие-нибудь овцы, козы, свиньи… Если он живет не один, рядом есть какая-то деревня, городок – об этом тоже не упоминается ни слова. Я понимаю, что быт самого жреца не так уж и важен, и вам хочется овеять его ореолом чего-то мистического, потустороннего – но жрец-то как раз живой, реальный, из плоти и крови, так что…
ВАМ СООБЩЕНИЕ
ПРОЧИТАТЬ
…Ну, если его кормят жители городка, так опишите намеками-намеками шпили городка вдалеке, как там по вечерам загораются огни, разбросайте по тексту пару абзацев, как в святилище приходит какая-нибудь крестьянка, несет корзину яиц, или молодой пастух несет свежий козий сыр, подарок от своей жены… Кстати, местные жители не будут кормить жреца просто так, за спасибо – он должен что-то делать для них, например, быть знахарем, лечить людей, или читать проповеди…
ВАМ СООБЩЕНИЕ
ПРОЧИТАТЬ
Ну, что-то я сомневаюсь, что жреца кормят просто за то, что он помогает душам умерших обрести себя. Нужно как-то убедительнее, например, жрец обещает жителям городка, что после их собственной смерти он поможет заблудшим душам развязать свою карму, обрести самих себя?
ВАМ СООБЩЕНИЕ
ПРОЧИТАТЬ
Ну, если все люди тридцать первого или какого там века еще при жизни развязывают все кармические проблемы, или вообще их не создают, то жрец им не нужен, и кормить они его не будут…
ВАМ СООБЩЕНИЕ
ПРОЧИТАТЬ
Что значит, видели собственными глазами?
ВАМ СООБЩЕНИЕ
ПРОЧИТАТЬ
Нет, ну я с вами серьезно, а вы…
ВАМ СООБЩЕНИЕ
ПРОЧИТАТЬ
Ну да, конечно, мертвый я…
ВАМ СООБЩЕНИЕ
ПРОЧИТАТЬ
Стойте… и правда… вы… вы куда меня дели?
ВАМ СООБЩЕНИЕ
ПРОЧИТАТЬ
Так, я пока сам все это своими глазами не увижу, я не поверю. Даже не просите.
ВАМ СООБЩЕНИЕ
ПРОЧИТАТЬ
Так что да, я иду в ваше святилище, или что у вас там… встречайте. Козий сыр не надо, и лепешки тоже, я уже не живой…
ВАМ СООБЩЕНИЕ
ПРОЧИТАТЬ
…ну, знаете, я так даже навскидку и не скажу, что со мной не так, что у меня в жизни было такого… Ну, если бы все в порядке было, меня бы уже здесь не было, правда, я бы уже был бы где-то там… Не знаю… Разбираться надо… вспоминать…
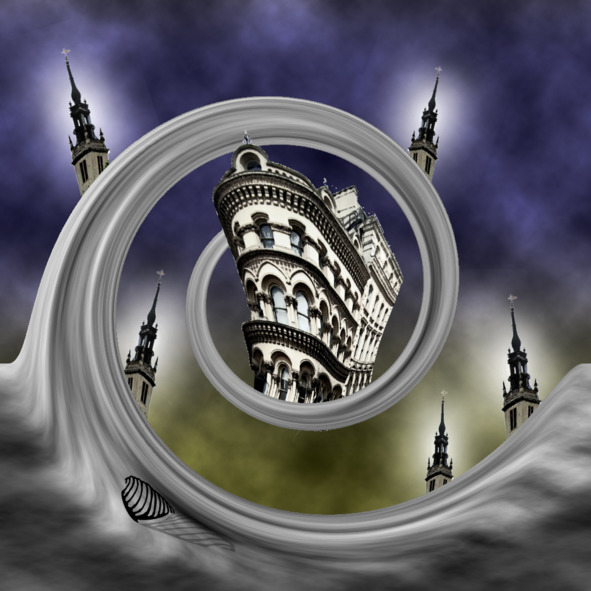
Что-то из дома
…его казнили за ересь – ну, нужно же было найти какой-то повод, какую-то причину, ну не за кражу же казнить, ведь он ничего не крал, вот так бывает, да, жил человек, ничего не крал. И не за убийство же его казнить, ведь убивать ему тоже не доводилось – так вот как-то обошлась у него жизнь без дуэлей – так что за убийство его тоже судить не получилось бы. И жены он чужой не желал, и долги отдавал в День Долгов, и брал в День Займов…
Так что казнили за ересь.
Ну а если не ересь, то что же это еще?
Она и есть.
Это ж надо же было такое ляпнуть, надо же было такое сказануть про дома.
Ни за что не догадаетесь, что он про дома сказал.
…что в них можно жить.
Вот так – не в зарослях вдоль дороги, не на деревьях, не в чистом поле, – в домах.
Кто-то еще пытался за него заступиться, обратить в шутку, вот как сострил человек, в доме решил жить – но уже все понимали, что шуткой здесь не отделаться, будут казнить.
Казнили в полночь, как положено, труп сожгли на костре, тоже как положено, пели псалмы.
Первый раз такое.
Нет, так-то всякое было, одного казнили за то, что повозку на колесах выдумал, чтобы легче было ехать по дороге – его казнили. Другой выловил в лесу что-то копытное, фыркающее, обвязал веревкой, подложил плед – чтобы было удобнее – другого тоже казнили, а то мало ли, ишь, чего выдумал.
Шли дальше по дороге, останавливались на ночлег, жгли костры, слушали песни Странствий, смотрели на звезды.
Сегодня мне показали картину.
Луиза показала.
Осторожно.
Из-под полы.
Странная картина, на которой не было неба, совсем не было, и стены домов со всех сторон, я первый раз такое видел, чтобы стены были со всех сторон, – ну два дома рядом, ну три дома, ну не четыре же.
Потом казнили Луизу.
Я так и не понял, за что, и вообще, это было неправильно, нет, ну я понимаю, других казнят, за ересь там, еще за что, но не Луизу же, потому что то другие, а то Луиза…
Кто-то где-то когда-то мимолетом шепнул мне, что там, на картинке, было не четыре дома, а один. Этого я уже никак не мог понять, как четыре стены, прижатые друг к другу, могут быть одним домом.
Не могут.
Просто.
Не могут.
Шли по дороге.
Боялись остановиться, боялись замешкаться, боялись того, что подкрадывается сзади, хотя никто никогда не видел, чтобы что-то было там, сзади, но раз шли от чего-то, значит, что-то было, как же иначе.
А завтра казнят этих.
У которых нашли два подсвечника.
Это один из советников сказал, что если подсвечники у них – значит, этих двоих казниь надо.
Тут уже мы не выдержали, вмешались, почему за подсвечники казнить, что за дела такие.
Ну как же, говорит советник, видели вы, чтобы такие штуки где-нибудь снаружи валялись? Не видели, то-то же. Значит, где они их взяли? В доме. То-то же. Значит, в доме были, а где это видано, чтобы в доме бывать?
Тут-то у советника и спросили, а ты-то сам откуда знаешь, что в доме такие штуки есть? Советник еще отпирался, ну, знать не знаю, а откуда им еще быть, на улице же нигде такого нет…
На эшафот отправили всех троих, и этих, которые с подсвечниками, и советника тоже.
И правильно.
Потому что нечего тут.
Потом спохватывались, тихонько думали про себя, а откуда вообще это слово взялось, подсвечники, а ведь взялось откуда-то, как будто…
…нет, нет, не думать…
Вечером судили да рядили, можно ли собирать что-то на крыльце дома, фонари, например, чтобы удобнее освещать путь, или там коврик какой взять – наконец, решили, что можно, но только по большим праздникам, и вообще не очень-то увлекаться, а то мало ли.
Потом пропали четверо.
Нам сказали – ушли в дома.
По вечерам осторожно перешептывались, а что там дальше с ними случилось в домах, а живы они вообще или нет, да нет, конечно, вы сами подумайте, как в доме можно остаться в живых, это же дом… Смотрели на огни, которые зажигались в домах по вечерам, волей-неволей искали движение силуэтов, не находили.
Потом была Кора.
Это было странно, тем более странно, что Кора ничего не знала про дома, и не говорила про дома, и вообще немыслимо было сопоставить, чтобы Кора – и дома. Это же не Луиза, которая осторожно показывала картину с не то с четырьмя домами, не то с одним домом, и не Аглая, у которой был подсвечник неведомо где найденный. Это была Кора, у которой даже и мысли не было, что есть где-то какие-то дома.
Потом была свадьба, со свадьбой тоже нельзя было говорить про какие-то дома, у свадьбы тоже и мысли не было, что есть какие-то дома.
Потом Коры не стало…
…нет, не так, вернее, сначала я понял, что её скоро не станет, её унесёт зима, её унесёт хворь, зима всегда кого-нибудь уносит.
Иди в дом, сказали мне.
И нет, даже не сказали. Это были обрывки слов, обрывки фраз на пожелтевшей бумаге, даже не наяву, а во сне, и даже не во сне, а в какие-то мимолетные секунды перед пробуждением, когда уже не сон, но еще не явь, и обрывок фразы на клочке пожелтевшей бумаги – иди в дом, и еще какое-то воспоминание о том, чего со мной никогда не было, что-то нужно было сделать в доме, что-то – у меня даже не было слов, чтобы сказать, что именно.
Я только знал, что нужно идти в дом.
Ночью – пока никто не видит.
Идти к дому, подсвеченному огнями фонарей, подниматься на скрипучее крыльцо, осторожно повернуть ручку двери…
…замереть…
…выжидать, не знаю, чего, поом стремительно – в коридор, налево, под лестницу, где дверь в кухню, к холодильнику – откуда только взялись эти слова, которых не было, и быть не могло – взять то, что подсказал не то сон, не то память, которой не могло быть, – и бежать, бежать на улицу, в холод зимы, раньше и не замечал, что у зимы есть холод, раньше и не чувствовал этого контраста с теплотой дома…
…раньше…
Потом была Кора.
Все-таки была.
Кора, которой я готовил настойку с этим, неведомым, взятым в доме.
Потом был дом.
Вернее, не так, все не так – потом были сны, в которых приходил дом, то усаживал у пылающего камина, то устраивал на мягкой постели, то укрывал пледом, то готовил на кухне что-то манящее…
Потом стали допрашивать, кто какие видел сны, потом стали что-то врать, потом кто-то из старейшин орал, что вы все врете, все-все врете, всех вас казнить, велено же – не обмани, а вы обманываете, да быть не может, чтобы никто не видел дом, кто-нибудь же да видел во сне дом, ну как же иначе, что значит, откуда знаю, я видел…
…тут-то он и попался, когда крикнул – я же видел…
…казнили на рассвете…
Потом была Кора. То есть, она и раньше была, но теперь нашла то, что я принес из дома, то, что спасло её зимой.
И я уже понимал, что она сделает дальше. Слишком хорошо понимал, чтобы оставаться здесь хотя бы минуту, и надо было бежать – в никуда, прочь от дороги, в заросли чего-то там, пока никто не заметил, не спохватился, не…
Дом ждет меня в стороне – почему-то одинокий дом, хотя обычно они кучкуются стаями.
…поднимаюсь на мраморное крыльцо, поворачиваю дверную ручку, еще почему-то надеюсь, что не повернется, не поддастся, что дом меня не пустит – нет, пускает, пробираюсь в прихожую, оглядываю просторный зал, лестницы, ведущие наверх, комнаты по обе стороны от меня, анфиладу впереди…
Дверь захлопывается.
Я уже чувствую, что можно не толкать дверь, не пытаться выйти – она не откроется.
Дом меня не выпустит.
Поднимаюсь по лестнице, оглядываю комнаты, думаю, что меня ждет…
…сейчас узнаю…

Запас времени
Сорок лет, говорю я себе.
Сорок лет.
Смотрю на бесконечно далекое солнце, крохотную звездочку в небе, говорю себе – еще сорок лет.
Я жду.
Нет, не сорок лет жду, гораздо меньше, Эльма приходит в четверть десятого, хотя обещалась в десять.
У меня белые цветы.
У нас в народе их называют солнцами.
Обнимаю Эльму.
Сорок лет, говорю я себе, у нас есть сорок лет.
Еще успеем.
Много что успеем.
Обнять Эльму, родную, теплую, зарыться носом в её волосы, в цветы, которые у нас в народе называют солнцами.
…упасть в траву…
…на рассвете посадить росток будущего дерева.
Построить дом. Своими руками, так положено.
Смотреть, как на свадьбе нас осыпают цветами, – у нас в народе их называют звездами.
(Еще успеем)
Обнять Эльму…
Взять на руки первенца. Дать ему имя. В честь солнца.
Выходить поутру из дома, смотреть на бесконечно далекое солнце, на дерево, которое ловит его свет.
Ловить свет бесконечно далекой звезды.
Видеть первые шаги дочери.
Втолковывать что-то сыну про два плюс два будет четыре, а три плюс три будет…
…не помню уже.
Надо будет вспомнить.
Для сына.
А вот это я помню.
Сорок лет.
Сорок лет в запасе.
Чтобы утешать жену, когда она будет волноваться, что сын поздно пришел домой. Чтобы смотреть сквозь занавеску, как сын обнимает не знакомую мне девушку…
…у моего сына еще будет время.
Время привести её в дом. Представить её нам. Её будут звать…
…я ещё не знаю, как её будут звать.
Я только знаю – она будет.
И дом, который построит сын своими руками.
И письмо, которое скажет нам, что родился внук. Или внучка.
Или не письмо, или это будет что-то другое, мало ли какие там будут технологии.
Не знаю.
У нас еще будет время, чтобы увидеть его или её первые шаги.
У нас еще будет время.
До того, как небо станет красным, до того, как вспыхнет солнце, которое кажется бесконечно далеким, его смертоносный свет будет приближаться все больше, больше, больше, сжигая землю.
Даже тогда у нас еще будет время.
Год.
Два.
Пять лет.
Потом будет ужин где-нибудь в подземелье, все за одним столом, пьют вино, стараются не думать о том, что там, наверху.
И даже тогда у нас будет время.
Три часа.
Два часа.
Час.
Полчаса.
Наверное, дети будут спрашивать, почему мы пошли вниз.
Мы не скажем им.
Не скажем.
Или что-нибудь соврем.
Что-нибудь такое, чтобы им было не страшно.
У нас еще есть время.
Обнимаю Эльму, смотрю на самого себя, который не пришел на встречу, ни в девять, ни в четверть десятого, который стоит где-то в полумраке, за островком фонарного света, смотрит на меня, срывается на крик —
– Придурок, придурок, ты что творишь вообще? Ты что творишь, я спрашиваю? Ты хоть понимаешь, что у нас еще есть время? Есть время?
Так он все время будет кричать мне, срываться на хрип – и когда я буду строить дом своими руками, и когда нас на свадьбе будут посыпать цветами, и когда я возьму Эльму за руку и отведу в дом, и закрою дверь, и я буду стоять снаружи, и кричать себе, что я идиот, и у меня еще есть время, а я его не трачу, вернее, трачу не на то, не на то, не на то…
А потом я буду долго смотреть в холодное ночное небо, и искать далекие земли под непогасшими солнцами, и ничего не найду, ничегошеньки-ничего, а потом я буду искать, как согреть землю, которой суждено остыть, и тоже ничего не найду, вернее, найду, но слишком поздно – а это одно и то же, что найти поздно, что не найти вообще.
А потом я буду в отчаянии искать способы, чтобы зажечь звезду, которая уже вспыхнула и погасла – буду искать просто так, в отчаянии, уже понимая, что ничего это не даст.
Потом буду в отчаянии рвать на себе волосы с криками – не успел, не успел, не успел.
Потому что сорок лет, это мало.
Слишком мало.
Поэтому я не смотрю на себя, который кричит что-то оттуда, из темноты за пятном фонарного света.
Я обнимаю Эльму.
Я не скажу ей, что видел сегодня ночью в подзорную трубу, я не скажу ей, что видел, как далекое солнце вспыхнуло и умерло.
Я никому не скажу.
У нас еще есть сорок лет.
Целых сорок лет…
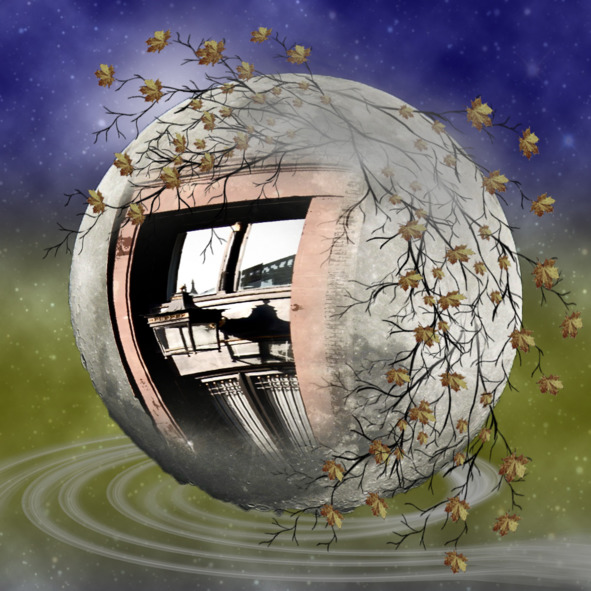
В половине третьего
…просыпаюсь каждый раз среди ночи ровно в половине третьего – минуту в минуту, когда меня убили. Долго лежу с открытыми глазами, жду чего-то, сам не знаю, чего. Стрелки часов не двигаются с места, время вязнет в самом себе, замирает.
Выбираюсь из теплой постели в холодок ночи, кутаюсь в прохладный халат, выбираюсь на балкон, сам не знаю, зачем, оглядываю огоньки фонарей, темноту ночного города, где не светится ни одно окно…
Меня убивают ровно в половине третьего, снимают одним выстрелом в голову. Я так и не знаю, кто это сделал, я уже никогда не узнаю.
Ухожу с балкона, ныряю в постель – досыпать, ну а что мне еще делать после того, как меня убили, что ж теперь, не спать, что ли, если убили. Сон приходит не сразу, еще устраиваюсь поуютнее, осторожно, чтобы не разбудить Бет, наконец, приходят какие-то образы, какие-то наваждения, я проваливаюсь в сон.
Когда открываю глаза – в окна брезжит свет сквозь неплотно прикрытые шторы. Приходит утро, еще одно в бесконечной веренице утр. Бет уже встала, Бет уже расчесывает свои длинные волосы перед зеркалом. Я все хочу спросить у Бет, во сколько убили её, и как – и все не спрашиваю. Вот про сына знаю, Алану перерезали горло в половине двенадцатого ночи, когда он шел с вечеринки, и мерзко так на душе, что он был уже мертвый, когда мы спали, видели десятый сон, мирно спали в комнате наверху, и когда-нибудь Алан припомнит мне это, в какой-нибудь ссоре, я ему тогда тоже припомню, ты во сколько домой должен был прийти, во сколько, а ты во сколько пришел, сам-то ты хорош, вот и получил по заслугам… очень надеюсь, что этого не случится, никогда-никогда, не надо, чтобы такое случалось, не надо…
Выхожу из дома, кланяюсь соседям, вот идет жена булочника, её застрелили в половине четвертого, а вот молодой автомеханик, его убили как меня, в половине третьего, поэтому мы останавливаемся и подолгу… молчим, говорить нам не о чем, мы слишком разные, нас объединяет только одно, – оба погибли в половине третьего.
Есть еще две девочки-близняшки, которых тоже убили в половине третьего, только с ними мне совсем не о чем говорить. Хотя какой-то приблудный астролог, который снимает комнату у пожилой пары, пытался составить какие-то карты с датами наших смертей, вплоть до секунды, пытался доказать, что все население городка делится на группы по пять человек – по времени гибели. Только у него так ничего и не сложилось, потому что не все такие, которые спокойно ответят, когда их убили, как вот, например, сын мэра, он еще газеты развозит – пожмет плечами, скажет спокойно – в три двадцать пять, – а есть и такие, которые и затрещину влепить могут за такой вопрос, например, торговка во «Вкуснях», а есть такие, что посмотрят, так посмотрят, что душа в пятки уйдет.
Нет, полиции, конечно, все признались – кто и когда. Ходили по домам, спрашивали, искали, кто не умер, кто еще жив. Каждый называл время смерти, только это ничего не значило, каждому из нас ничего не стоило соврать, выдумать какое-нибудь – пятнадцать минут после полуночи или двадцать минут второго. Косо посматривали на старушку, живущую напротив мельницы – она помнила, что её убили, но не помнила, когда. Впрочем, ей это было простительно, лично мне больше не понравилась дочь садовника, она сразу без запинки ответила время – пять часов десять минут – и это было похоже на заранее обдуманный обман.
Еще косо смотрели на одного дизайнера в доме на углу: его убили в восемь утра, и в этом было что-то неприличное, нас-то всех порешили ночью, а его утром, и это… это было как-то неправильно. Дизайнера сторонились, ну, почти все, кроме семьи садовника, кажется, у него даже что-то было с дочерью садовника, потому что её тоже сторонились, на всякий случай, ну мало ли.
Искали убийцу – сами не знали, зачем, сами себя спрашивали, разве убийца останется здесь, в городе, кто он вообще был, откуда пришел, зачем…
…просыпаюсь в половине третьего.
Долго лежу с закрытыми глазами.
Нехотя смотрю на часы.
Выбираюсь из теплой постели, кутаюсь в халат, выхожу на балкон, сам не знаю, зачем.
Меня убивают в половине третьего.
Ровно в половине третьего.
Одним выстрелом.
Возвращаюсь в постель, сбрасываю халат, иду досыпать – еще полночи впереди, что теперь, не спать, что ли, из-за того, что меня убили…
…иногда пытаюсь разглядеть что-то там, за деревьями.
Как всегда ничего не вижу.

Жрущий измерения
…проснуться.
Нет, не так, раньше не было такого слова – проснуться, не было такого понятия, проснуться, не было такого – проснуться.
А вот – проснуться.
Спросить себя, что случилось с миром, пока меня не было… или нет, вернее, что случилось с миром, пока я… это… как… а, да, спал.
Нет, сначала увидеть мир.
И не понять.
Спросить себя, почему мир стал плоским, как… даже не как лист бумаги, а как лист бумаги, на который я смотрю с одной стороны. Почему я смотрю на дом на улице, и вижу только две стороны дома, где еще две – то есть нет, я знаю, что где-то там, за домом, но почему я не вижу их, и крышу, и что внутри дома, я тоже не вижу.
Почему, спросить я себя.
Почему, почему, почему.
Запаниковать.
Вот теперь по-настоящему – запаниковать.
Двинуться вперед… нет, не так, попытаться продвинуться вперед, понять, почувствовать, что это невозможно, отчаянно забарахтаться в четырех направлениях, нет, в шести, нет, все-таки в четырех, потому что вверх (раньше у меня и слова такого не было вверх) – не получается, что-то тянет назад, а вниз тоже не получается, потому что то же самое что-то не пускает.

