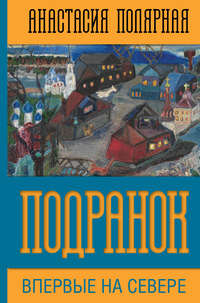
Подранок
„Придётся работать, – сказала она. – Или лучше сразу от меня откажитесь. Тем более что коллеги по кафедре вас поймут: у меня с ними сложные отношения“. Она обвела взглядом аудиторию. Никто из нас не встал и не вышел.
„Предупреждаю сразу, – объявила она, – что нудного молчания и жалобного смотрения в глаза на экзамене не будет… И забудьте про все эти вопросы, билеты. У нас экзамен будет проходить по-другому. Я хочу видеть вас, вашу работу, ваше творчество, – говорила она, и глаза её светились, казалось, заражая нас своим энтузиазмом. – А теперь проверим, что вы знаете из курсов старославянского и древнерусского языков…“
Когда выяснилось, что „коллеги по кафедре“ нас „не научили ничему“, она не стала сердиться, не стала никого ругать, а сказала: „Тогда будем узнавать вместе. Я никому не скажу о ваших пробелах, которые необходимо ликвидировать“.
И я, считавший себя прирождённым литератором, углубился в лингвистику, принялся изучать труды Фортунатова, Виноградова, Успенского… И хотя не настолько мне было всё это интересно, интерес придёт позже, я хотел не ударить в грязь лицом. Было очень стыдно не ответить, явиться на её занятие неподготовленным, а ещё хуже – ляпнуть глупость и тем самым разочаровать Никольскую, зная, как она будет смотреть на тебя, с какой надеждой ждать верного ответа и какими печальными станут её глаза, если ты не оправдаешь её ожиданий…
Однажды наша группа не подготовилась к занятиям. Никольская спросила одного – он не знал, спросила другого – то же самое. Тогда, глядя на нас пристально, и каждому казалось, что она смотрит именно на него, Никольская закричала: „Вы знаете, что меня всё время приглашают в другие страны?! Я могла остаться преподавать в Сорбоннском университете, а вернулась на родину, потому что видела смысл – учить наших студентов! Я выкладываюсь, ночами сижу!! А кому это всё надо, если вы позволяете себе не готовиться?!“
С этого дня мы поняли, что если кто-то из нас не был готов, в тот день ему лучше вообще не появляться на семинаре: мы боялись снова её огорчить. Никто из других преподавателей всерьёз не переживал из-за наших ответов и даже не делал вид, что переживает.
Никольская никогда не разочаровывалась до конца ни в одном из своих студентов: она надеялась до последнего и ждала от каждого яркой, умной мысли. Она всегда задерживала нашу группу после занятия, и преподаватель литературы, к которому мы опаздывали на следующую пару, выражал видимое недовольство. Но все понимали, что это задевало лишь его самолюбие; наше присутствие на лекции на самом деле не было для него важно.
Никольская имела свои, независимые и даже противоположные многим „корифеям традиционной науки“, концепции и идеи. Она даже разработала целую теорию о происхождении церковно-славянского языка. Но её путь в большой науке был тернистым. Её многие предавали в жизни. Те, кому она очень верила и помогала, – ученики, коллеги, муж… В университете у неё возник конфликт не с кем-нибудь, а с самим деканом из-за какой-то глупости, перешедший в серьёзную ссору, подогреваемую „коллегами по работе“.
…Я навсегда запомнил её пристальный взгляд в тот декабрьский вечер. Никольская стояла у лифта, одетая в элегантную шубу из натурального меха. Вдруг она обернулась и долгим взглядом посмотрела на меня так, словно решалась что-то доверить мне одному…
Однажды она заболела, а кроме семилетнего сынишки помочь было некому, и мы с другом оказались рядом. Какое это было счастье! Было так непривычно видеть её, строгую и гордую, в полосатой футболке, лежащей на диване с рукописью в руках. Даже в таком состоянии она пыталась работать…
На стене напротив дивана висела картина: летний пейзаж, выполненный в реалистической манере: лес, луга и уводящая вдаль тропинка, по которой идёт девчушка… „Эта картина неизвестного автора. Она мне досталась от родителей. Я про себя назвала её „Сирота“. Почему-то, когда я на неё смотрю, мне становится очень грустно…“, – сказала Никольская. Я знал, что её родители умерли.
А между тем вокруг Никольской плелись интриги. Она противостояла всей кафедре.
В доме Никольской царила творческая обстановка: там собирались интересные люди, проводились научные семинары и дружеские культурные посиделки. Помню белокурого мальчика, не отходившего от неё ни на шаг. Никольская, как мне казалось, излишне его опекала, буквально „тряслась“ над этим ребёнком, старалась оградить от всего, уберечь, одновременно требуя от него недетских решений и поступков. „Твой отец – подонок!“ – как-то, вспылив, крикнула она. А однажды, это тоже было при мне, раздался телефонный звонок. Звонил этот самый Антон Антонович, её бывший супруг-учёный с какой-то сложной фамилией, не то литовской, не то греческой: то ли Бахиус, то ли Герингус… Он сказал, что решил отдать свой компьютер сыну, так как недавно приобрёл себе новый, и минут через десять заедет. „Вспомнил о ребёнке“, – сказала Никольская и ушла в свою комнату. К нему она даже не вышла, а когда он уехал, я заметил в её глазах слёзы.
А потом… было всякое… Были проводы на вокзал с огромными чемоданами, была разбитая антикварная лампа „под керосинку“ у неё дома, был сооружённый мной книжный стеллаж, „плывший“ на моих и друговых руках прямо по Комсомольскому проспекту… Были бесчисленные коты, искусно сделанные для неё из разных материалов, во всевозможных видах и позах, был снеговик под дверью с розочкой в голове и нарисованным красной гуашью сердцем, исписанная несмываемыми красками стена, которую она „полдня безуспешно тёрла мочалкой“, там же – унесённый из одного из домов на Красной Пресне огнетушитель, а на полу к нему надпись: „Не потушишь даже этим!“, был альпинист, под Новый год „влетевший“ в окно в костюме деда Мороза, разумеется, в моём лице. Она терпела все мои выходки, прощала всё, что я вытворял, пытаясь тем самым привлечь её внимание. Я знал, что она никогда не предаст меня…
В доме Никольской я по-прежнему бывал довольно часто. Её стены украшали уже и мои этюды.
…Это длилось больше года. Я на что-то надеялся, переживал и постоянно удивлялся, почему она не решалась откровенно поговорить со мной, честно расставив все точки над i.
Она очень остро переживала положение брошенной на самотёк большой науки, ситуацию в университете, предательство бывшего мужа – её же ученика. Однажды, когда я пришёл к ней, Никольская поделилась со мной своей жизненной трагедией, и в какой-то момент мне показалось, что мы думаем об одном и том же… Что ещё мгновенье, и сомкнутся объятья… Она смотрела на меня пристально, как-то по-особенному, призывно. Но… ничего не произошло. Я тупо и робко кивал, поддакивал, успокаивал… А она говорила о том, что мне давно пора публиковаться, выходить на другой уровень.
А спустя полгода Никольская ушла из университета, гордо, достойно, красиво, и в одном из университетских туалетов появилась надпись: „Филфак мельчает!“, которую вскоре тщательно затёрли и закрасили белой масляной краской, в то время как прочие надписи и рисунки, даже самого неприличного характера, оставались нетронутыми».
Юноша отбросил блокнот и снова забрался на подоконник.
«Бред»
«Перемен требуют наши сердца».В. ЦойОкно родительской квартиры находилось чуть ниже барельефного пояса, замышлявшегося архитектором как украшение дома, и скульптуры, если можно было так назвать эти каменные изваяния в виде символов прошлой эпохи, казалось, давили ему на сознание. Особенно раздражала молодого человека массивная фигура грудастой колхозницы со снопом, нависавшая над его окном, заграждая густой тенью чуть ли не три четверти солнечного света почти на весь день.
За окном дрожали верхушки деревьев, тронутые ветром; со звоном проносились трамваи, оставляя за собой блеск на рельсах, словно след на льду от конька; потоком текли автомобили, обгоняя спешащих прохожих. Но вся эта будничная суета не трогала Константина.
Сессия была сдана. Сокурсники разъехались кто куда: кто устремился на юга, кто – в научную экспедицию, кто решил подзаработать на жизнь. Теперь и он до осени был свободен. Но эта свобода не радовала Константина, скорее, наоборот, тяготила. Юноша не знал, что с ней делать.
«Зачем мне этот диплом, эта учёба, если здесь я нигде не могу применить свои знания?! Кому они нужны?! Кругом лишь жажда наживы; люди не хотят мыслить; разговоры – только о том, как заработать, сколько что стоит, куда пихнуть… Для чего я пишу стихи и повести? Это никому не нужно», – думал он, вспоминая свой недавний поход в редакцию, в очередной раз убедивший его в тщетности всех попыток опубликоваться. «Вы неплохо пишете, молодой человек, но сейчас эти темы неактуальны. Сейчас читают детективы, лёгкие любовные романы, фантастику, на худой конец, боевики, а вы написали философскую повесть, которая рассчитана на узкий круг читателей. Она не принесёт коммерческого успеха», – почти одно и то же говорили ему в разных издательствах, куда он приносил свои произведения. «А если я напишу боевик, вы его возьмёте?» – спросил он в одной редакции. «Видите ли, молодой человек, – глядя на него сквозь очки, покачал головой пожилой редактор, – скажу вам честно: у вас богатый литературный язык и хороший стиль, но навряд ли Ваши произведения кто-нибудь напечатает. Издатели заинтересованы прежде всего не в красоте вашего слога, не в сюжете и образах; им надо, чтобы книги раскупались. Кто будет покупать неизвестного автора?..»
Отчаявшись, он перестал куда-либо предлагать свои рукописи и продолжал писать «в стол», когда его посещало вдохновение. Но оно приходило к Константину всё реже и реже, а мысль о том, что «надо как можно скорее бежать из этого душного, суетливого города», настойчиво одолевала его.
Родные считают его неудачником. «Кому нужно твоё это так называемое „творчество“?! Что оно даёт?! Лучше иди зарабатывай!» – ворчал отец.
Но найти интересную и хорошо оплачиваемую работу по специальности Лазареву не удавалось: не всех работодателей устраивало то, что он студент, либо предлагаемые вакансии не подходили ему. «Заниматься тем, что мне не по душе, я не буду: жаль времени», – решил Константин и продолжал обходиться случайными заработками. Временами ему ничего не хотелось делать: ничто не радовало и не увлекало. В такие периоды он замыкался в себе.
«Сел бы, позанимался чем-нибудь, Костенька. Хватит пиво пить», – говорила ему бабушка, чувствовавшая его душевное состояние.
«А что делать ещё?»
«Я думала, наука тебя отвлечёт», – со слезами в голосе повторяла она внуку.
«От чего?» – переспрашивал он, стараясь казаться как можно беспечнее.
«От этого… Ты думаешь, мне не тяжело видеть то, что делается вокруг: умышленное уничтожение всего того, что мы созидали по крупицам: развал заводов, ферм, колхозов, скотных дворов?.. Но я отвлекаю себя работой: ко мне приходят аспиранты, я с ними занимаюсь и сама продолжаю свои исследования; мне интересно узнать, что дальше будет: как перезимуют на полях побеги, не вымерзнут ли, не выпреют ли они под снегом? Хватит ли на год урожая, или придётся закупать? А как улучшить условия, как помочь им – растениям?! И знаешь, как жить интересно становится! Жаль только, у меня мало осталось времени. Жизнь очень коротка. Ты молодой и не замечаешь, что она летит, не ценишь время, тебе всё неинтересно, даже наука…»
«Наука, наука – такое ёмкое, многообещающее слово!.. Какая, к чёрту наука, кому она нужна? Горстке одержимых энтузиастов, таких как моя бабушка? Кругом суета в предвкушении начинающейся погони за деньгами; время талонов и очередей ушло в прошлое. Наукой же сейчас не заработаешь! Не то время! Бабушке повезло, что её труд, помимо удовольствия, приносил ей хорошие деньги. А какая в будущем вырисовывается работа с моим-то образованием?..» Идти в школу или в редакцию он не хотел, тем более в какой-нибудь офис. Вставала дилемма: либо наука, либо заработок.
К тому же у Константина произошёл серьёзный конфликт с деканом, закрывший ему навсегда научную карьеру в университете. «Я не буду чистить апельсины на кафедре, в то время, когда преподаватели пьют на банкете. Я не слуга», – заявил он, когда его, в числе других студентов, хотели привлечь к этой добровольно-принудительной обязанности. Вскоре после этого случая студенту Константину Лазареву дали понять, чтобы он не рассчитывал поступить в аспирантуру и не надеялся остаться преподавать в университете.
Но это не сильно удручало молодого человека, испытывавшего серьёзные сомнения в реальной нужности знаний современным учащимся. Год назад он подрабатывал в лицее и убедился в том, что детям, в сущности, всё равно, чем занять учебное время: перекладывать ли линейку с одного места на другое, отвечать ли на заданные вопросы – всё едино, а значит, смысла нет. Смысл был где-то забыт или утерян. «Действительно, есть море литературы, и ты теряешься в этом море. Как будто мы все куда-то плывём, как у Бродского: „без лоцманов и без лоций“. Раньше были популярны Пушкин и Чехов. А сейчас – кто будет читать их сейчас?! Разве что по необходимости. Получается, смысл лишь в том, чтобы тупо заполнять жизненное пространство».
Через год Константин уволился: ему было в лицее неинтересно; к тому же он понял, что заработает больше, «таксуя» на дядиной ещё вполне ходовой «девятке». В этом смысловом вакууме – в состоянии «между» периодом утратившихся прежних ценностей и эпохой, провозгласившей главной ценностью деньги, – повисло какое-то ощущение безвременья с неотвратимым навязчивым вопросом: для чего? Жизнь – для чего?..
Наука? Работа? Зарабатывание денег?
«Этот период пройдёт. Вот увидишь. Пройдёт время, и ты будешь востребован», – говорила ему бабушка.
«Ты, главное, брат, не сбивайся: делай своё дело, не обращая внимания ни на что. Со временем всё на свои места станет», – подбадривал дядя.
«Забей на всё, идём пить пиво! Что ты смурной какой-то? Тебя не публикуют, а мне не дают ни реактивы для опытов, ни оборудование, ни помещение. И ничего. Не унываю!» – поддерживал друг.
Но эти люди уже не могли оказаться рядом. В прошлом году умерла бабушка. Это случилось скоропостижно и стало для Кости таким ударом, после которого он очень долго не мог прийти в себя. Несколько месяцев он не жил, а просто существовал; запустил учёбу и только благодаря научному руководителю не был отчислен.
Вскоре случилось несчастье с дядей… Только теперь Костя чувствовал, как остро ему не хватало их обоих…
Вдобавок ко всему совсем недавно улетел за границу его лучший друг. Ему предложили в Канаде лабораторию, необходимые условия для научных занятий и весьма приличную по российским меркам стипендию. Друг заключил контракт на три года, но в аэропорту Костя понял, что провожает его навсегда.
Теперь Константин видел для себя в перспективе лишь пустоту. Она казалась ему почти материальной, он чувствовал её как зияющую чёрную дыру, воронку, поглощающую всё на своём пути. Эта воронка надвигалась на него, приближаясь с каждым днём. Ему казалось, что он видит, как она засасывает в себя всё живое, и гнетущее предчувствие день ото дня всё больше и больше овладевало им. Непонятное состояние, переходное между сном и явью, становилось для Константина привычным. Ему не хотелось никуда идти, ни с кем встречаться, ничего делать, даже слушать любимые песни. Изо дня в день он либо бесцельно валялся на диване, либо сидел на подоконнике. Он даже с равнодушием пил пиво. Учёба была запущена так, что он уже подумывал взять академический, чем возмущалась вся его родня, включая дальних, живущих за городом, родственников. Им-то, казалось, какое до этого дело?! Константин ощущал невероятную душевную усталость и давящую безысходность.
Однажды, движимый каким-то порывом, он проснулся и поехал на вокзал, купил билет до той станции, где когда-то была бабушкина дача. Но, приехав туда, увидел развалины: дачу давно снесли, дом сравняли с землёй, старые берёзы срубили, чтобы построить многоэтажки, которые так и не достроили.
Домой он вернулся разбитый, упал на диван прямо в ботинках и пролежал ничком около суток, пока мать не зашла к нему в комнату.
– Что с тобой? – спросила она взволнованно.
– Всё в порядке. Закрой дверь. Я отдыхаю, – ответил Константин.
– От чего отдыхаешь? От отдыха?
– Закрой дверь, я сказал! – закричал парень, и лишь только закрылась дверь, вскочил, взял блокнот и машинально записал пришедшие в голову строки:
БредВ расход идёт последняя сотня:Что же мы будет есть и[ли] пить сегодня?Нет, на сегодня выпить осталось…Завтра осталась – одна усталость.Жизнь – совсем как колесница…Жить – иль лучше застрелиться?..Назовёт себя врачом —Кто работал палачом.Бельмом в глазу зияет БЕЛЫЙ ДОМ,Хоть не вчера ПОЖАР случился в нём.Кругом – лишь магазины, бары, банки…Шум, суета… снуют туда-сюда:Бомжи, бандиты, бляди, лесбиянки…Кругом – сплошной вертеп, сплошной сортир!Все – злые: нищие, «крутые»,И бесконечные текут автомобили.Стоят дома с историей своей.Вот здание. Была в нём коммуналка.Там люди жили, многие – всю жизнь…Дежурили и в ванной, и на кухне.А всё же разъезжаться было трудно…На кухне – хлам;Быт – многих храм;Вновь капает проклятый кран;В Москве кругом царит ислам.Горит приевшийся экран;Пойду приму феназепам.А за окном – подъёмный кранУпрямо роет котлован…Базарят фракции на съезде;Разбита лампочка в подъезде;Шалят расшатанные нервы…Покой в деревне… Да, покой в деревне…Ещё на сегодня – выпить осталось;Завтра осталась – одна усталость.В стране невозможно найти работу.Послать бы всё к ядрёной матери и к чёрту,Принять транквилизаторы от нервов…Уехать скорее отсюда в деревню!Там дядя Ваня вешает хомут,Работают вовсю – и водку пьют…И по ночам там видят сны,И верят в эти сны, как дети,Встают там рано на рассвете;Там в это время петухи поют,И по мозгам часы проклятые не бьют…А пока – затянуть пояса,Зайти в Храм и поставить свечу…Не так истязали Иисуса Христа —Потерпим, потерпим чуть-чуть…«За флажки, жажда жизни сильней!..»[8]
С улицы из открытого окна веяло утренней свежестью, вместе с которой приходило предощущение лета: день обещал быть жарким. «Хорошее утро, антициклонное», – сказала бы сейчас бабушка…
Потянувшись, Константин скользнул ногой по откосу, оставив на его поверхности отпечаток рельефной подошвы. Всё это время он так и просидел на подоконнике с блокнотом в руках, вспоминая.
«Не сходить ли мне в парикмахерскую?» – подумал он, почувствовав необходимость что-то срочно в себе изменить, хотя бы остричь длинные, до плеч, волосы, которые носил уже два года.
Из парикмахерской Константин вышел, словно обновлённый, с коротко остриженной головой, чувствуя свежесть ветра и лёгкость, будто освободился от лишнего груза. Он ощущал прилив жизненной энергии и решил, пока она не растратилась, сделать ещё одно важное дело: залечить давно беспокоивший его зуб.
Он, конечно, мог пойти в районную поликлинику, в душное, заплёванное помещение, отсидеть в длинной очереди, ожидая, когда раздражённая сестра в несвежем халате недовольным голосом позовёт его в кабинет, но Константину хотелось как можно скорее разделаться с зубом, пока он чувствовал в себе порыв энергии – взлететь на нём на гребень новой волны. И он, не дожидаясь трамвая, быстрым шагом направился в сторону центра, в платную поликлинику. А в голове прокручивались стихи:
«В мусорных урнах танцуют остатки;всегда торжествуют остатки в числе;Осадки всегда переходят в остатки,И остаются осадки в душе…»Лазарев подошёл к поликлинике. Блестящий кафель, никого народу. «Молодой человек, подождите. Молодой человек, бахилы… Так, посмотрим… Вам нужна пломба… Оплатите в кассу, и мы продолжим разговор».
Что-то как будто упало, щёлкнуло вдруг в душе. Сделалось невероятно противно возвращаться в кабинет к ожидавшему его доктору. Стало жаль времени, жаль потерять порыв – и опять окунуться в бессмысленную суету, в пустую повседневность. «Да, пошло всё к чёрту! Надоело! Надо быстрее, быстрее отсюда бежать! Здесь я не нашёл себе места!» – думал Константин. Душа его разрывалась. Он сознавал, что если сегодня, сейчас, в этот же момент ничего не предпримет, то так и будет сидеть на подоконнике всю жизнь. В ней ничего не изменится.
Лазарев подошёл было к кассе.
– Ещё ничего не сделали, только в рот заглянули – уже плати! – бросил он и неожиданно для самого себя, а ещё более для кассирши, развернулся и вышел, закрыв за собой тяжёлую дверь с пластиковой табличкой «Стоматология».
Летний ветер приятно обдал его. И, не раздумывая, пешком, по московским улицам, пересекая магистрали и проспекты и не обращая внимания на светофоры, парень зашагал к Ярославскому вокзалу. Он ещё не знал, куда взять билет, но твёрдо решил отправиться на Север, вопреки всем, устремляющимся на юг, к тёплым морям, в фешенебельные отели.
«Я поеду в край ссыльных и каторжан добровольно. А юг я уступаю всем желающим – зелёный свет им». Когда подошла его очередь, полная пожилая женщина в белой блузке и форменном пиджаке вопросительно посмотрела на него сквозь стеклянную перегородку кассы, и растерявшийся Костя вспомнил эпизод из фильма «Вокзал для двоих», когда главный герой просит кассиршу продать ему билет «до какой-нибудь счастливой станции» и уже хотел повторить его просьбу, вставив в неё только слово «северной», как с языка сорвалось, словно кто-то шепнул ему, уверенно и отчётливо:
– Архангельск.
…По мере того, как поезд удалялся от Москвы, Константин испытывал небывалое облегчение и свободу. Ему казалось, что судьба его ведёт, хотя он ехал в неизвестность.
Поезд шёл около суток. В вагоне было душно. И когда поезд плавно подошёл к перрону Архангельска, словно причаливающий корабль, Лазарев испытал почти счастье.
Впервые на Севере
В небольшом, ещё недавно закрытом военном городе под Архангельском Костя впервые увидел море. «Светлое, „честное“, как сказал бы Бродский», – думал он, с удивлением замечая, что Белое море было значительно светлее неба. Оно отсвечивало, переливалось и действительно казалось розовато-белым. У горизонта виднелись суда; чуть ближе маячили рыбаки на надувных резиновых лодках. Бодрящий ветер приносил запах рыбы и водорослей.
Хотя Ягры тонким перешейком соединялся с материком, местные называли его островом. Лазарев шёл вдоль по берегу, любовался пейзажем и прислушивался: ему казалось, что море словно что-то шептало, набегая на берег мощными волнами. Увлёкшись, Костя чуть было не наступил на лежавший на литорали[9] ярко-розовый предмет.
– Полотенце? – удивился он вслух.
– Какое тебе, на хрен, полотенце? Это же – медуза мёртвая, – обронил проходивший мимо парень.
– Медуза? – Костя поднял на него глаза.
– Вон, у мужика спроси, раз не веришь.
Днём в этом небольшом городе людей почти не было видно. Город жил своей жизнью. Утром он дружно вставал, и, как в ещё недавнее советское время, его жители все как один шли на работу. В основном люди работали здесь в двух местах: либо на заводе по строительству подводных лодок, либо – по их ремонту. А к вечеру город пил. Пил так, что пьяных мастеров и моряков с трудом выволакивали из автобусов кондукторы. Но, несмотря на это, всюду в этом городе царил дух мужества и патриотизма.
Здесь Костя ощутил себя словно в ушедшей эпохе своего детства: укладом и даже архитектурой этот северный город напоминал ему военный городок в Болшево. Здесь юноше нравилось всё: Север завораживал его своей особой красотой и человеческой честностью. Однажды в автобусе он забыл сумку, спохватился лишь на следующий день, пришёл в автопарк и был очень удивлён, когда ему её тотчас вернули нетронутой, с бумажником и фотоаппаратом.
– Товарищ, – обратился студент к идущему вдоль берега вразвалочку невысокому рыжеватому мужчине лет пятидесяти с загорелым, обветренным лицом, – скажите, что это?
– Это медуза, – охотно ответил мужчина.
Они разговорились.
– А вот что, парень, пойдём-ка ко мне посидим. Я здесь рядом, за озером, живу, – пригласил мужчина.
Его звали Володей. По дороге он рассказал, что в прошлом служил электриком на подводной лодке, а выйдя на пенсию, устроился мастером на «Звёздочку»[10].
Несмотря на то, что неравнодушие мужчины к спиртному скрыть было трудно, его квартира ничуть не походила на жилище алкоголика: в ней было довольно чисто, росли комнатные цветы, и две сиамские кошки выглядели вполне довольными.
– За всем моя жена, Люба, по дому присматривает. Она у меня хорошая. Бывает, что и напьюсь, а она всё терпит, не бросает меня, говорит, жалко. Мы многое с ней пережили… Когда зарплату чулками выдавали – и такое было… Люди и «шило»[11] пили, и клей «БФ»: его ещё меж собой мужики называли «Борисом Фёдоровичем». Даже ацетон пили: мужики на два пальца его в стакан наливали, а на четыре – воды, размешивали и пили. Правда, голову сильно сшибало, но потом восстанавливалось. Пили морилку – и чёрные, как негры, ходили потом, а многие на Миронову гору[12] отправились. Отец у меня там лежит. Списки умерших каждый день в газетах печатали. Сейчас иной раз иду на работу, а сам думаю: только б проходную миновать, только б не учуяли… Устал я от жизни, устал… – говорил Володя, доставая из холодильника рыбную закуску к прикупленному по дороге пиву. – Все приходят ко мне и говорят: «Володя, дай», а хоть бы один кто пришёл и сказал: «Володя, – на!»