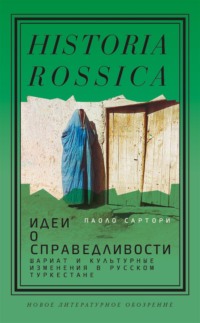
Идеи о справедливости: шариат и культурные изменения в русском Туркестане
Появился новый класс посредников, который помогал взаимодействию жителей Средней Азии с колониальными властями. Подобно большинству коренных представителей местной администрации – так называемой «живой стене» (living wall)[87], – эти люди населяли пограничное культурное пространство: они еще не были колонизаторами, но уже стояли ступенью выше среднего мусульманина, ближе к административным знаниям и бюрократическим ресурсам. Так, местные жители получили возможность нанимать русских поверенных, хорошо осведомленных в имперском праве. Такие личности, как Антон Глаз, были известны на весь регион за умение искусно маневрировать между юрисдикциями и представлять в разном свете правовой статус подзащитных. Представляя интересы некоего Файзыбая Батибаева в деле о неуплаченном долге, Глаз, будучи на грани проигрыша, подал апелляцию на решение народного суда, в которой заявил, что его клиент – казах-христианин, а следовательно, поскольку он не мусульманин, его дело должен рассматривать русский суд. Когда Файзыбая пригласили в областное управление, он сказал правду – что является узбеком (сартом), урожденным мусульманином, и соблюдает законы шариата[88]. Военные чиновники, которым довелось быть свидетелями изворотливости Глаза, пришли к выводу, что «видя, что законным путем выиграть и даже затянуть дело нельзя, решил затянуть дело путем нелегальным». Неудивительно, что военные чиновники, понимая, сколько сложностей могут принести такие поверенные, развернули дискуссию о том, разрешать ли этим людям представлять местных жителей в народных судах[89].
Также существовал контингент переводчиков, или толмачей, ярко описанный в рассказе Абдуллы Каххара. Эти люди тоже выступали в важной роли посредников между местными истцами и имперскими должностными лицами. Колонизаторы обладали слабым знанием среднеазиатских языков. Их сильная зависимость от переводчиков стала тяжелым бременем для имперской администрации[90]. Как европейские, так и местные свидетели не упускали случая упомянуть недобросовестное поведение переводчиков. С одной стороны, такие отзывы могли представлять собой попытки жаловаться на недостатки колониальной бюрократии; с другой стороны, осуждение переводчиков было распространенным мотивом, с помощью которого авторы старались угодить определенной аудитории. Такой аудиторией могли быть противники имперской политики надстраивания новой системы на базе старых институтов; этим читателям бы больше понравилось, если бы бюрократия активнее вмешивалась в повседневные дела местных институтов[91]. В Туркестанском генерал-губернаторстве, где письменная форма коммуникации играла существенную роль, военные чиновники сплошь и рядом пользовались услугами переводчиков. Как мы увидим в главе 4, заметки на полях перевода часто становились незаменимыми для того, чтобы чиновник, читающий документ, понял (запутанный юридический) контекст написанного. Этим легко объяснить карьерный взлет таких культурных посредников, как переводчики[92]. К примеру, Александр Кун[93], первооткрыватель «архива хивинских ханов», обязан своим знанием придворной культуры Кунгратского ханства (и другой информации о Хорезме) своему помощнику и переводчику из коренных жителей, Мирзе Абдуррахману. Сотни и сотни прошений дают понять, что множество имперских чиновников были вынуждены обрабатывать целую лавину бумаг[94]; Арендаренко[95] лаконично характеризует такую ситуацию как «канцеляризм». Этими бумагами их снабжали такие служащие, как Мирза Абдуррахман. Именно они брали на себя большую часть рутинной работы по переводу с чагатайского и персидского языков на русский[96].
Кроме того, сами коренные жители охотно обращались в имперские правовые инстанции, применяющие российское право. Это оказало негативное влияние на традиционные исламские институты. Яркие примеры тому – упразднение вакфов и обход местными жителями исламского закона о наследстве. Несмотря на утверждения, высказанные Крузом, мусульмане Средней Азии воспринимали русскую администрацию не как руководителей «Дома ислама», а как жалкую горстку людей, которыми можно манипулировать, как заблагорассудится. Как я собираюсь продемонстрировать в книге, российские колонизаторы, заняв место ханов, не для того взяли на себя обязанность вершить правосудие, чтобы сохранить нетронутой новую для себя институциональную среду. Русские власти сделали это, чтобы основывать свои решения на мусульманском понимании правосудия, что позволило бы им формировать общемусульманское понимание законности в регионе.
В то же время Александр Моррисон делает акцент на том, что реформа мусульманских судебных органов привела к распространению сутяжничества в местных сообществах. Моррисон помещает свое объяснение этой реформы в более широкий институциональный контекст колонии, в которой проживают представители государства, выражающие открытое недовольство шариатскими судами и выступающие за окончательный отказ от этой системы. Тем самым ученый стремится показать, что военные чиновники управляли Средней Азией со здоровой долей прагматизма, и российские власти в конечном счете сохранили даже те правовые системы, к которым испытывали глубокую неприязнь. Моррисон характеризует политику Российской империи в Средней Азии, в том числе политику в отношении исламского права, как «непреднамеренно благоприятствующее игнорирование»[97]. Данная интерпретация также требует корректировки. Изменения в различных сферах исламской юридической практики, от пышной судебной казуистики до рутинной работы нотариусов, лишь в редчайших случаях могут быть замечены сразу. Тем не менее грандиозный колониальный проект трансформации исламского права, несомненно, бросался в глаза. К примеру, очевидно было, что на смену правовым институтам, где вместе работали казии, доверенные представители и судебные исполнители, пришли «народные суды», где мусульманские судьи действовали без критически важной помощи посредников, а порой даже в одиночку. До завоевания шариатские суды были встроены в институциональный контекст – они подчинялись канцелярии (диван) и кабинетам ханских представителей (ясавулов, аминов, махрамов). Данный контекст предоставлял шариату защиту, которая подошла к концу с приходом российской власти. Казии и другие эксперты по правовым вопросам теперь большую часть времени занимались тем, что избегали злонамеренных (и часто безосновательных) обвинений во взяточничестве и должностных преступлениях[98].
Совершенно иную картину демонстрирует работа Вирджинии Мартин, посвященная обычному праву у степных кочевников. Основной аргумент Мартин гласит, что русские законодатели и административные чиновники с энтузиазмом поддерживали колониальный догмат о «верховенстве закона», веря, что сближение[99] между обычаем, представлявшимся в виде низшей нормативно-правовой базы, и высшей имперской правовой системой, то есть законом, может способствовать формированию «гражданственности»[100] у коренных народов империи. Мартин уделяет особое внимание цивилизаторской задаче российских властей и трансформации локальных правовых практик. Для успешного внедрения имперского права эти процессы должны были пройти мирным путем. В воображении российских законодателей жители колоний, вступив в контакт с царской правовой системой, тотчас же должны были отказаться от своих примитивных нравов и принять законы империи. Таким образом, Мартин делает акцент на имперский идеалистический призыв «управлять примером». Кроме того, исследователь утверждает, что российские власти, вовлекая жителей Средней Азии в кодификацию местных обычаев, фактически содействовали изменениям в применении обычного права. Согласно Мартин, фиксация обычного права в письменной форме означает существенные изменения его социальной значимости. Однако, помещая в центр внимания превозносимую многими доктрину «управления примером» и уделяя внимание исключительно процессу кодификации права, она упускает из виду тот факт, что российские чиновники напрямую участвовали в судебных разбирательствах по делам местных жителей, таким образом утверждая собственное видение правосудия. На сегодняшний день нет четких свидетельств того, как результаты кодификации использовались в судебных разбирательствах и как они повлияли на повседневные практики залов суда[101].
Противоречия становятся очевидными, когда мы сопоставляем нарративы о преемственности и благоприятствующем игнорировании с тезисом Мартин о том, что в области процессуального права намечались пусть и постепенные, но изменения, так как империя активно прилагала к этому усилия. В то же время Джейн Бурбанк в своем нарративе об инклюзивном правовом плюрализме государства объединяет, казалось бы, противоречащие друг другу линии: поиск компромиссов и глубокую трансформацию. Синтез, представленный в ее работе, демонстрирует образ русской политики – московской автократии, которая, раскинувшись по всей Евразии, обеспечила разнообразные этнические группы и религиозные сообщества пространством дифференцированной юриспруденции. Цитируя Бурбанк, «российский имперский правовой режим, основанный на государственном распределении прав и обязанностей среди дифференцированных сообществ, создал условия для включения в основные практики управления даже самых низших субъектов. <…> Российская система признания коллективных прав обеспечила подданных империи правовыми рамками для связи с государственной системой, наделила их правами на выполнение базовых социальных функций под защитой закона и позволила им разрешать некоторые вопросы локальной, но при этом существенной важности с санкции государства»[102].
Тезис Джейн Бурбанк о дифференцированной юриспруденции базируется на концепции «обычая». Это остаточная категория, охватывающая своды правовых норм, не относящиеся к имперскому праву. Кроме того, данный термин часто встречается в правовой терминологии Российской империи[103]. Бурбанк предполагает, что официальное признание обычного права, то есть нормативно-правовой базы коренного населения, на Кавказе, в Сибири и Средней Азии обеспечивает существование отдельного коллективного правового поля. С российской точки зрения империя представляла собой дом для всех людей, имеющих собственные обычаи. Согласно данному пониманию, сообщества, прибегавшие к дифференцированной юриспруденции, могли самостоятельно распоряжаться своей жизнью, находясь под охраной всеохватывающей автократии. Это, по-видимому, было большим преимуществом подданства Российской империи: поскольку государство привязывало подданных к таким идентификационным ярлыкам, как сословие и вероисповедание, каждый человек помещался в определенную категорию подданства и, следовательно, прикреплялся к сообществу определенной юриспруденции. Коренные жители Сибири, в соответствии с обычаем обладавшие правами на сибирскую землю, обращались с жалобами в волостной суд, как и русские крестьяне. В соответствии с тем же принципом кавказские и среднеазиатские мусульмане должны были обращаться к казиям.
История Российской империи показывает, что формирование в ней множественных правовых режимов в большой степени объясняется реальной политикой (Realpolitik) расширения государства на юг и на восток. Интеграция была обязательным условием, которое старались воплотить в жизнь чиновники и губернаторы, поставленные властвовать над неправославными народами. Оставление за местным населением права на самоуправление, а следовательно, утверждение устоявшихся правовых практик сыграло важную роль для установления власти в регионе, получения доходов и поддержания относительного мира на окраинах.
В главе 2 я представлю критику некоторых аспектов тезиса, предложенного Бурбанк. Я утверждаю, что данная имперская политика лишь в течение краткого времени применялась в российской Средней Азии. Это становится очевидным, если мы изучим, как государство расширяло область вмешательства в сферу исламского права. Здесь оно также было вынуждено организовать режим правового плюрализма. Судопроизводство определялось законами, основанными на конфессиональных различиях: русские соблюдали общие законы империи, оседлым коренным народам предлагалось обращаться за юридическими услугами в шариатские суды, а кочевники следовали постановлениям судов обычного права.
Однако российские власти не просто наделили мусульман самоуправлением. На протяжении всей истории колонизации Средней Азии прозвучало немало официальных призывов к вмешательству и реформам. Эта тенденция достигла кульминации в 1913 году, когда в законопроекте об упразднении народных судов было предложено заменить шариатские суды мировыми судьями[104]. В то время российские чиновники, не согласные с режимом плюрализма, активно обсуждали идею ассимиляции[105].
Я не буду обращаться к документальным свидетельствам, оставленным комиссиями по упразднению шариата, для того чтобы бросить вызов аргументации имперского правового режима. В конце концов, Российской империи так и не удалось избавиться от шариата на своей территории. Вместо этого я хочу обратить внимание на некоторые практики формального применения закона, демонстрирующие то, как российская бюрократия взаимодействовала с исламским правом и пыталась его изменить. В российской Средней Азии существовало два уровня колониальной интервенции. Один из этих уровней был введен ex officio; именно он стал источником первых изменений на институциональном и юридическом уровнях. Российская политика провозгласила асимметрию между законами империи и исламским правом, в первую очередь проведя границы применения шариата. Положения, введенные в Туркестане, гласили, что суды имперского права обладают исключительной юрисдикцией в отношении широкого спектра уголовных и гражданских дел мусульманского населения. Этот спектр главным образом включал в себя преступления против государственных властей, русских колонистов и христианской веры. Однако также предполагалось, что в судах имперского права должны слушаться дела частных лиц об убийствах, похищениях и изнасилованиях, а также дела о преступлениях против собственности частных лиц, незаконном захвате, поджоге, разбое, грабеже, хищении казенного имущества и подделке официальных документов. Новые законы существенно сузили юрисдикцию шариатских судов, ограничив ее нарушениями закона о личном статусе и несколькими уголовными преступлениями, такими как кража, побои и богохульство. Вопрос юрисдикции обострился, когда мусульмане научились маневрировать внутри различных правовых сфер и настаивать, чтобы их дела были выслушаны по законам империи. Это также касалось дел, связанных с законом о личном статусе, а также вопросов наследства и вакфов.
Российское вмешательство в исламское право не остановилось на ограничении полномочий исламского судьи. Колониальные власти также пытались внести изменения в шариат на уровне процессуального законодательства, напрямую участвуя в разрешении споров. Одна из ключевых инноваций заключалась во введении колонизаторами системы судебного пересмотра. В соответствии с этой новой системой мусульмане могли подать апелляцию на решение шариатского суда, обратившись с прошением в уездное управление. Решение суда в этом случае подвергалось проверке со стороны съезда мусульманских правоведов, однако процесс пересмотра контролировался исключительно русскими бюрократами. Практика составления юридических заключений, бумажная волокита между управлениями, скептицизм при слушании дел – все это служило подспорьем для попыток российских колонизаторов изменить понимание добра и зла с точки зрения исламского права.
Чтобы значительно изменить сферу правосудия у мусульман Средней Азии, требовалось также повлиять на восприятие исламского права самими мусульманами. В этом проекте российские власти добились успеха: им удалось убедить мусульман в том, что те могут выражать собственные идеи о справедливости и несправедливости. Российские чиновники настойчиво подталкивали местных жителей к этой мысли. Они давали населению понять, что колониальному правительству важно знать о возможной недобросовестности казиев и нарушении ими судебной процедуры. Серьезно относясь к любому заявлению о несправедливости, исходящему от мусульман, российские власти надеялись, что возможность подачи апелляции на решение исламского суда скомпрометирует всю исламскую правовую систему.
Пересмотр решений судов исламского права представлял собой скорее повседневную бюрократическую задачу, чем отстраненные теоретические выкладки. Более того, в бюрократических практиках не всегда прослеживался единообразный строгий подход к понятию «хорошего» и «плохого» шариата. Таким образом, внутри колониальной администрации Туркестана существовали разногласия – особенно по поводу будущего исламского права в регионе. Несмотря на это, практика пересмотра решений казийских судов неотвратимо повлекла за собой тот факт, что люди стали терять веру в компетентность казиев и задумываться о возможности упразднения должности народного судьи. Именно практика пересмотра решений казиев стала точкой столкновения двух главных бюрократических машин колонии. Уездное управление стремилось влиять на работу шариатских судов напрямую, в то время как областное управление обычно стояло на защите автономии шариатских судов. Обычно в этой борьбе побеждало областное управление во главе с военным губернатором. Окончательному упразднению шариатских судов мешали серьезные разногласия среди высших чиновников. Военные губернаторы Сыр-Дарьинской и Ферганской областей считали отмену шариатских судов преждевременной, в то время как главы Семиреченской и Самаркандской областей открыто поддерживали это решение. Интересно, что те высшие должностные лица, что выступали против окончательного закрытия шариатских судов, были сторонниками радикальных реформ: они предлагали сделать (военные) окружные суды второй инстанцией для обжалования дел мусульманского населения[106]. Вероятно, губернаторам было известно, что апелляция в органы военной юстиции в 95 % случаев оканчивалась отменой решения, вынесенного казием[107]. Предложение двоих военных губернаторов сигнализирует о том, что они высоко ценили опыт, накопленный русскими чиновниками к 1913 году за всю историю пересмотра деятельности судов исламского права. С точки зрения глав Сыр-Дарьинской и Ферганской областей, знания о шариате, собранные колониальными бюрократами, не должны были кануть в Лету.
4. Источники
Те, кто изучает право, колониализм и мусульманский мир, склонны рассматривать казийские суды как уникальное место правоприменения – место, где можно обнаружить изменения правовой культуры (или их отсутствие). По-видимому, историки руководствуются здравым смыслом, выбирая суды в качестве репрезентативных индикаторов колониального правового господства и пытаясь создать на основе судебных документов надежную информационную базу. Правовое разнообразие часто требовало приспособления государственного закона к альтернативным правовым системам, принятым у коренного населения, определения (и последующей корректировки) границ юрисдикций, а также согласования процессуальных связей между конкурирующими юрисдикциями. Соответственно, вполне понятным представляется стремление исследователя сконцентрировать анализ на конкретных примерах судопроизводства[108]. Тем самым я не стремлюсь объявить данный подход совершенно нерелевантным. Однако, рассматривая казийские суды в такой оптике, исследователь рискует прийти к предположению, что до колонизации казии выполняли ту же монополистическую функцию в сфере правосудия, что и после имперского правления.
Как будет показано в главе 1, ситуация в Средней Азии в эпоху российского завоевания значительно отличалась от вышеуказанного предположения. Именно в этот период мы наблюдаем четкую иерархию власти, в рамках которой полномочиями по осуществлению правосудия целиком и полностью обладали мусульманские правители, в то время как казии выступали при них в качестве скромных советников по вопросам права. В узбекских ханствах первой половины XIX века казии не отправляли правосудие автономно как независимые судьи, а проводили слушание по делу лишь после получения указаний от канцелярии правителя, перед которой они и отчитывались. В этой системе правосудие осуществлялось правителем и имело более авторитарный характер, чем решения, выносимые казиями: последние можно было оспорить. В следующем деле женщина, пострадавшая от побоев, сперва обратилась к начальнику (хакиму) местности Ходжа-Или (современного Каракалпакстана). Хаким повелел служителю привести обе стороны к городским казиям. Когда ответчик признал нанесение побоев, судьи поручили женщине – доверенному лицу осмотреть тело истицы и оценить степень повреждений. Осмотр показал различные травмы, и казии проконсультировались с муфтием, который затем вынес решение в пользу истицы и приговорил ответчика к телесному наказанию. Когда казии уже собирались привести в исполнение решение юриста, ответчик усомнился в авторитете судей и покинул суд. Ниже приведен текст судебного доклада, перевод:
Да будет известно славному Ясавулбаши Ага, да приумножится сила его, что женщина именем Ханифа-бика, из махалли Ширин в [районе] Ходжа-Или обратилась к хакиму и заявила, что ее муж, Садык, незаконно причинил ей побои, нанеся телесные повреждения. [Хаким повелел] ясавулу пойти [в селение], найти мужа и привести обе стороны к нам [казиям Ходжа-Или]. Позже, когда мы допросили мужчину, он признал нанесение побоев; затем мы поручили верующей и благочестивой женщине как доверенному лицу осмотреть упомянутую, и это доверенное лицо известило нас, что поистине имеются следы телесных повреждений в различных местах. Затем мы решили, что [проблему] этой женщины следует рассмотреть как судебное дело. Когда мы приводили в исполнение решение муфтия и собирались наказать [ответчика] по законам шариата, он встал, сказал: «Нет!» – и вышел. Вот все, что произошло в нашем присутствии; никаких денежных вопросов [не обсуждалось]. Событие было записано[109].
Правосудие в доколониальной Средней Азии, таким образом, вращалось вокруг системы прошений, сводящей вместе население и представителей ханского дворца на местах. Это предполагает, что колониальные подданные, по крайней мере в колониях с мусульманским большинством, обладали всем необходимым, чтобы обращаться с жалобами к колониальным хозяевам. По этой причине архивы колоний переполнены прошениями местных жителей[110]. Становится ясно, что значительные изменения в мусульманском правовом сознании легче отследить, изучая повседневную деятельность колониальной бюрократии и институтов среднего уровня, а не записи шариатских судов. Именно здесь выходит на поверхность опыт, не скованный юридическим языком, которым пользовались казии. Поэтому в своем исследовании я опираюсь именно на эту источниковую базу. При этом источники, которые я использую в данной книге, являются выходными документами колониальной администрации в самом широком смысле, так как администрация включала в себя «народные» институты: суды, вакфы, школы и махалли, которые оставили после себя значительную базу документов (в основном юридических) на чагатайском и персидском языках. Кроме того, я опираюсь на источники периода XVI – начала XIX века для сравнения. Данный материал является в основном арабо- и персоязычным, и его я подробно рассматриваю в следующих главах.
В данной книге я опираюсь на исламские юридические тексты: документы об имущественных правах, фетвы, решения суда и судебные доклады. При этом я не считаю, что арабографические источники более «полезны», чем русскоязычные, в силу отражения ими локальных письменных практик. Несомненно, они необходимы для понимания локальной системы знаний. Однако «туземные» источники не обладают большей аутентичностью, чем любые другие тексты – в том числе документы, написанные людьми, не являющимися коренными жителями Средней Азии. Форма записи едва ли влияет на аутентичность текста. К тому же нельзя сказать, что полученная из арабографических источников информация о прошлом и о людях, живших в определенное время, более достоверна, чем информация из источников с другой формой записи. Кроме того, юридические документы, на каком бы языке они ни были, не открывают окон в прошлое. Поэтому при любой возможности я комбинирую
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Каххар А. Сказки о былом. Повести и рассказы / Пер. Абдулла Каххар. М.: Художественная литература, 1987. С. 315–318.
2
В этой книге я использую словосочетания «российская Средняя Азия (или Центральная Азия)» и «русский Туркестан» как синонимы.