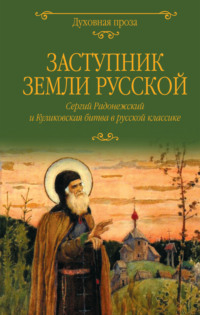
Заступник земли Русской. Сергий Радонежский и Куликовская битва в русской классике
В монастыре святой Алексий повел самую суровую жизнь: непрерывная молитва, строгое воздержание выделяли его из числа других монахов; он всех приводил в изумление своими подвигами благочестия. Святой Алексий оставался в обители до 40 лет, когда митрополит Феогност взял его к себе для управления церковными судами на митрополичьем дворе. В этой должности, именуясь наместником митрополичьим, он пробыл 12 лет. При митрополите жило много греков, от которых св. Алексий выучился греческому языку и затем занялся сличением славянского перевода Нового Завета с греческим подлинником и исправлением текста славянского по греческому; перевод этот отличается буквальною близостью к греческому тексту.
«Сей подвиг, – говорит митрополит Московский Филарет, – важен, между прочим, потому, что через него святитель, Богом просвещаемый, предварительно обличил неправое мнение людей, явившихся после него, которые даже доныне утверждают, будто в священных и церковных книгах и описку переписчика исправить, и непонятное слово перевода заменить понятным – непозволительно и противно православию; он поверял и исправлял; а потому, очевидно, не так рассуждал, как новые ревнители не очень старой старины, а точно так же, как и древле и ныне рассуждает православная церковь»[3].
Митрополит Феогност, а также и великий князь Московский Симеон Иоаннович очень полюбили святого Алексия за чистоту его жизни и кротость характера. С согласия великого князя митрополит поставил святителя епископом г. Владимира, а когда владыка и Симеон Иоаннович пали жертвою моровой язвы, наследовавший престол брат умершего князя Иоанн Иоаннович собором избрал св. Алексия на митрополию.
В это время святителю впервые пришлось претерпеть от человеческого тщеславия и мирской суеты.
По требованию Константинопольского патриарха св. Алексий должен был явиться в Константинополь, что владыка и исполнил. Патриарх благословил его на митрополию, но каково же было изумление святителя, когда он, вернувшись в Россию, нашел себе совместника в лице Романа: под давлением юго-западных князей Константинопольский собор поставил Романа митрополитом для запада России. Церковь Русская была очень смущена этим разделением и желала иметь своим первосвятителем одного Алексия.
Роман между тем рассылал по епархиям своих посланных с требованием дани и изъявлял притязания на Киев и Тверь; ни там, ни тут он не был принят.
В церкви русской поднялась великая смута.
Чтобы положить ей конец, св. Алексий решился вновь предпринять путешествие в Константинополь, куда прибыл и Роман. Патриарх Каллист подтвердил Роману, чтобы он был митрополитом только Литвы и Волыни, а Киев и Великую Россию предоставил управлению св. Алексия.
На возвратном пути из Византии владыке пришлось претерпеть жестокую бурю на Черном море. Волны яростно кидали утлое и полуразбитое судно. Ужас овладел всеми. Один св. Алексий остался спокоен, уповая на милость Божию. Среди криков отчаяния, среди царившего смятения он жарко молился и дал обет построить храм во имя того, кого православною церковью назначено праздновать в день, когда корабль пристанет к твердой земле.
Крепка была его вера, жарка молитва, и свершилось чудо: буря притихла.
Корабль благополучно достиг северного побережья; владыка сошел на землю: это случилось 16 августа – в день, посвященный православною церковью празднованию Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа; стечение обстоятельств тем замечательнее, что и самый Нерукотворный Образ св. Алексий имел при себе на корабле.
Согласно обету, святитель, дивясь милости Божией, явленной ему, создал не только храм, но целый монастырь во имя Спаса. Этот монастырь находится в четырех верстах от Кремля и именуется Спасо-Андрониевым.
Приняв бразды первосвятительского правления, владыка издал поучение к пасомым им православным христианам. Оно поражает своею простотою, теплою любовью и заботливостью о духовном преуспеянии чад церкви. «Напоминаю вам, – пишет он, например, – слово Спасителя, сказанное Им к Своим ученикам и апостолам: „Сие заповедаю вам, да любите друг друга… О сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою“. Так и вы, дети, имейте между собою мир и любовь…
Также имейте, дети, в сердцах своих страх Божий, ибо при нем человек может стяжать всякую добродетель. Сказано: „Начало премудрости – страх Господень“. И Григорий Богослов пишет: „Где страх Божий, там очищение плоти и соблюдение заповедей; где соблюдение заповедей, там возвышение души в горний Иерусалим“».
Святой Алексий, не переставая учить свою паству, сам подавал пример праведной жизни. Слава о его святости достигла даже до неверных. Жена хана Джанибека Тайдула долгое время страдала разными болезнями и слепотою. Хан, сведав, что по молитве святого Алексия творятся чудеса, послал грамоту великому князю Московскому с просьбою прислать к нему святителя, угрожая, в случае неприезда его для молитвы об исцелении Тайдулы, войною и разорением. По усиленным просьбам великого князя и ради спасения Руси от татарского нашествия владыка решился поехать в орду. Когда, перед отправлением в путь, он молился в церкви Успения Божией Матери, у гроба св. Петра митрополита сама собою загорелась свеча на глазах у всех. Это было ему предзнаменованием, что путь его благословляет Бог. Св. Алексий слепил из воска чудесно загоревшейся свечи маленькую свечку и, твердо уповая на милость Божию, поехал к хану.
Еще до его прибытия в Орду Тайдула видела во сне святителя Алексия в полном облачении, окруженного священниками. По пробуждении она приказала сделать архиерейское облачение по тому покрою, какой видела во сне.
Хан встретил святителя с великою честью и сам ввел его в палату. Святой муж, служа молебен, возжег свечу, слепленную из воска той, на которой явилось знаменье, молился долго и жарко, потом окропил Тайдулу святою водой.
Каково было изумление, радость и благоговейный ужас всех окружающих, когда Тайдула вдруг с сияющим лицом воскликнула:
– Я вижу, вижу!
В благодарность и в память своего чудесного исцеления она подарила святителю перстень, хан осыпал его дарами и отпустил с честью и миром в Россию. Кроме того, Тайдулою была дарована святителю обширная земля в Московском Кремле; здесь был впоследствии св. Алексием построен монастырь в память чуда Архангела Михаила в Колоссах; обитель эта более известна под названием Чудовской.
Едва владыка успел вернуться в Москву, как ему снова пришлось ехать в Орду по совершенно другому поводу.
Хан Джанибек, муж Тайдулы, был убит своим сыном Бердибеком. Захватив власть в свои руки, новый хан перебил всех своих братьев и изъявил намерение напасть на Россию.
Казалось, предстояло новое нашествие Батыя.
Разрозненная Русь того времени не могла бороться с несметными полчищами.
Все трепетали от ужаса. Уже мерещились спаленные и разграбленные города и деревни, тысячи окровавленных трупов, над которыми со зловещим карканьем носились стаи воронов и ворон, плачущие дети, лишившиеся родителей, жены и дочери, влекомые в полон на потеху хищным дикарям…
Конец Руси!
Великий князь Иоанн Иоаннович, занимавший в это грозное время престол московский, печалясь о судьбе своей державы, обратился за помощью к тому, кто равно был почитаем и русскими, и татарами. Он слезно молил владыку поехать в Орду и смягчить сердце кровожадного хана.
– Для нас, простых людей, непосильно это, а для тебя, святого, все возможно, – говорил князь.
Митрополит отверг наименование святого, но на просьбу князя согласился, желая, хотя бы под опасением мученической кончины, отвратить бедствие от пасомых им чад церкви Христовой.
Он отправился в Орду.
Не выдержало жестокое сердце Бердибека, когда его коснулись полные скорби, всепрощающей любви и милосердия слова святого.
Хан, который проливал кровь как воду, не тронул и волоса святителя и отпустил Алексия в Москву с вестью о мире и, кроме того, подтвердил, что русское духовенство свободно от всяких даней и налогов.
Всем сердцем любил святитель свое отечество и служил ему, не жалея себя. Всюду и везде сказывалось его благодетельное влияние: то он советует и дает средства юному великому князю Дмитрию Иоанновичу обвести Москву каменными стенами, то старается примирить враждующих князей, то едет в Киев, то в Нижний Новгород; наконец, строит храмы, воздвигает монастыри.
Таков был он – светильник веры, ярко горевший на Руси.
Время брало свое. Наступили преклонные годы, и святой владыка заметно слабел.
И у князя и у многих зарождался тревожный вопрос:
– Кто может стать преемником святителю?
И казалось, осиротеет земля Русская, когда святой Алексий отойдет в обитель вечного упокоения.
Все видели свою надежду и опору в святителе, все спешили к нему за помощью и советом.
Не был исключением из числа других и Иван Вельяминов.
К кому прибегнуть с просьбой о заступничестве перед великим князем? Кого просить, чтобы походатайствовал перед Дмитрием Иоанновичем об отмене неприятного для него, Ивана, решения?
Конечно, можно было обратиться с такими просьбами только к нему, ко всеобщему печальнику, митрополиту Алексию.
Вельяминов так и сделал. На другой день после погребения отца Иван явился в митрополичьи палаты.
Владыке недужилось, но он все-таки принял его.
– Что тебе, чадо? – спросил святитель, благословив юношу.
– Владыка! Горе у меня великое… – начал Вельяминов, стоя на коленях.
– Знаю, чадо, знаю, – промолвил Алексий, полагая, что Иван разумеет смерть отца, – но что ж делать? Божья воля. Одного ныне отзовет Господь к Себе, другого – после. Все мы гости в сем мире.
– Да, – сказал юноша, – конечно, сие горе велико… Да… Но у меня есть еще и другое великое… Ты слыхал, святый владыка, что тысяцких больше не будет?
– Говорил мне государь-князь…
– Заступись за меня, владыка… Заступись. Почто же князь меня наследия моего лишает? Али я чем провинился? Всегда был ему верный слуга.
– Князь к тебе милостив, он тебе вотчину хочет дать. А чин тысяцкого не по нем. Что ж я могу, чадо? Мое дело Бога молить, а не в князьи дела мешаться. А скорбеть тебе, сдается, и не о чем. Кабы князю ты был не люб…
– Не люб! – воскликнул Вельяминов, вспыхнув и вскочив на ноги. – Не люб и есть! Испокон века тысяцкие были… И отец мой, и дед, и прадед в тысяцких сидели. Что же я за бессчастный? Вотчину даст… Да не надо мне ее. Хочу тысяцким быть.
– Нет, я тебе не заступник, – с некоторою строгостью промолвил святой владыка, – абы нужда была большая, абы точно обижен был, тогда бы я заступился… А у тебя суетность. Тебе хочется власть над людьми иметь, превыше других стать…
Святитель взглянул на бледное, со следами слез лицо Ивана, и его доброму сердцу стало жаль юноши.
– Ты не крушись, – заговорил он мягко, – я не в осуждение, а в назидание… Гони мысли суетные, Богу молись, служи князю-государю верой-правдой, и он тебя не забудет. А коли что, тогда и я тебе пособлю. Иди с миром, чадо.
Странную противоположность один другому представляли эти два человека. Один из них, старец, смотрел ясным, глубоким взглядом; тихою ласкою веяло от его величественного лица, обрамленного белоснежною бородою; сказывалась какая-то мощь духа в этом слабом, согбенном теле.
Второй – юноша, стройный как тополь, могучий как богатырь – стоял понурый, со злобно блестящими глазами и искаженными чертами лица; брови сдвинулись, словно кому-то грозя, около глаз залегли темные полосы. В этот миг он казался олицетворением злобы.
Не отозвались слова святого старца в душе Ивана: дух зла овладел им и ожесточил сердце. Он ушел от владыки еще более озлобленным, еще более отчаявшимся.
Когда он шел по улице, прохожие с удивлением и боязнью сторонились от него: таким волчьим взглядом окидывал он их. В нем едва признавали юного Вельяминова, которого привыкли видеть с открытым приветливым лицом и ясным взглядом.
Он словно постарел на десяток лет.
– И владыка не заступился! Кто же заступится? Ужели так-таки ничего и не поделать? Нет же, нет! Не буду тысяцким, буду еще большим. А князю-государю отплачу… Погоди, дай срок!
И злобные мысли вихрем теснились в голове.
Он вернулся в свой дом – обширный и крепкий – и затворился в одрине[4].
Он не вышел к обеду, не сел за ужин.
Слуги перешептывались и дивились, прислушиваясь к его шагам – ровным, непрестанным.
– Чай, все по отце скорбит.
– Не ест, не пьет – уж это бог знает что.
– За сердце взяло.
Оно и точно – крепко «за сердце взяло» Ивана. Он не знал, что делать с собой, как затушить пламень, жегший душу.
Он пробовал молиться – молитва не ладилась. Он решал пересилить думы и не мог.
Несколько раз шевелилась отчаянная мысль: «Лучше не жить бы».
Но все существо восставало против бездны смерти.
Жить, жить! Но так, как ему хочется.
Но как устроить? Где искать помощи?
И откуда-то из неведомых тайников души словно прозвучало:
– У меня!
И в соображении его пронеслось грозное, черное лицо Сатаны.
Он вздрогнул, оперся на тяжелый дубовый поставец и бессильно, чуть слышно прошептал:
– У тебя?
Ужас объял его.
Но злоба была сильнее ужаса.
– А что ж бы… хоть и у тебя… – промолвил он побледневшими губами. – Хоть бы и у тебя! Ты-то дашь ли мне, чего желаю?
Где-то откликнулось в душе:
– Дам.
Твердою решимостью наполнилось сердце Ивана.
– Так пусть же! Пусть хоть Сатана мне поможет!
И он снова зашагал по своей одрине, грозный, нахмуренный, со сжатыми в кулаки руками.
Мысли теснились в его мозгу и давили его.
Черные, страшные думы. Он мысленно отдавал свою душу дьяволу, он мысленно прибегал к чарам.
И воображение рисовало ему будущее его могущество.
Он видел себя богатым властелином.
Он водил полчища, лилась кровь его ворогов.
Он видел Москву спаленную и князя Дмитрия Иоанновича, лежащего в прахе у копыт его коня.
– Так тебе, так тебе! Так больше тысяцких не надобно, княже?
И злобно хохочет он и вот-вот готов раздавить великого князя конской пятой.
– Разве за все это не стоит душу продать? – размышляет он.
И сам себе отвечает:
– Это ли души не стоит? Если бессильны руки сотворить, если на силу есть сила большая, помогут чары. Для волшебства и колдовства все можно. Не спасут ворога ни его ратные люди, ни крепкие стены. Чара, как пыль, сквозь щель пройдет, как вода, через чуть приметную скважину проберется. Сказал – не мытьем, так катаньем. Дойму…
И работают думы, и то застывает, то трепетно бьется сердце его.
Время идет. Стало темнеть.
Кое-кто из слуг, не дождавшись выхода своего господина, стал приваливаться на покой.
Затих дом.
Вдруг среди тишины громко прозвучал и поднял всех на ноги господский приказ:
– Оседлать коня!
Через несколько минут оседланный конь фыркал у крыльца, а еще немного спустя вышел туда же Иван Васильевич.
Он был в одном кафтане, без охабня; у пояса покачивался тяжелый меч и сабля в бархатных ножнах, за плечами – лук и колчан.
Он изготовился, как к бою.
Нахлобучив плотней шапку, Иван вскочил на седло, склонился вперед, гикнул и вихрем вынесся за ворота и скрылся от глаз удивленной челяди во мраке осенней ночи.
IV. Некомат Суровчанин
Не то дорога, не то просека пролегла через лесные дебри. Луна чуть проглянет и вновь спрячется за покровом облаков, которые медленно и неустанно ползут по небу, серея, как столбы дыма.
Немало надо храбрости, чтобы ехать одному в глухую полночь по лесной чаще.
В ней много волков, но что еще страшней – много лютых людей. Зверь помилует, побоится тронуть, а человека не возьмешь страхом или мольбой. Не тронутся слезами окаменелые сердца, а бердыш с размаху размозжит голову.
Вероятно, это хорошо знал путник, пробиравшийся по просеке на бойком аргамаке. Он держал наготове копье, жало которого серебром светилось при проблеске месяца.
На мгновенье луна вырвалась из-за облаков и озарила ехавшего.
Он молод. Ему лет тридцать, не больше.
Плечи широки, стан крепок. Для злых людей он не легкая добыча: сможет постоять за себя.
Лицо, окаймленное темно-русой бородкой, красиво, но бледно и угрюмо.
Брови сдвинулись, а глаза вспыхивают недобрым огоньком.
Если бы встретился москвич, то без труда признал бы в ночном путнике богатого купца прозвищем Некомат Суровчанин.
Тот же встречный, конечно, подивился бы:
– Что ему здесь надобно?
Удивление москвича было бы тем более понятно, если мы поясним, что путь-просека вел ни более ни менее как только к мельнице некоего Хапилы, пользовавшегося недоброй славой колдуна.
Чтобы объяснить читателю смысл путешествия Некомата, мы должны оставить его продолжать путь к колдовской мельнице, а сами вынуждены взглянуть на жизнь купца Суровчанина вообще и главным образом на те события, которые разыгрались в доме Некомата всего несколько дней тому назад.
Итак, забудем на время про его поездку и перенесемся в усадьбу, окруженную добрым тыном, за которым, куда глаз ни глянь, раскидывались поля и луга, окаймленные вдали темной полосой леса…
…Ясное осеннее утро.
Некомат стоит у окна и смотрит на окрестности.
Поля со щетиною сжатой ржи, луга с сильно поднявшейся отавой. Дальше лес с темными пятнами хвои и желтыми и красными набросками отживающей листвы.
Вились думы: «Ишь, земли! Глазом не охватишь. Тут тебе и луга, и поля, и бор… Бо-о-гатство! Сена к Петрову дню что накашиваем! А хлеба сбираем, а овса… Уйма! Да еще старания, какого нужно, не приложено. А постараться – приглядеть здесь-там, пораньше встать, попозже лечь – огребай добро лопатами! Э-эх! Было бы мое, сумел бы постараться. А так, чужое-то обхаживать, кому охота? Честь-то все равно одна будет: пройдет мало времени – помелом погонит. Мне бы пока что хоть малую толику припрятать… Люди думают: Некомат гость богатый, большой торговый человек… Знали бы они, что я только пасынковым добром и дышу. Сполнится ему двадцать годов, все он и заберет. И останусь я чист молодец. Плохо распорядилась покойница, что говорить. Обидела меня. Его, говорит, отец наживал, так ему всем и володеть. А все толковала, бывало, „муженек любимый“. Вот те и любимый».
Угрюмое лицо Суровчанина покрылось пятнами от желчного волнения. В тусклых, впалых глазах сверкнули злые искорки. Он нервно бороду дернул и отошел от окна.
– Грехи одни! – пробормотал он, прохаживаясь. – Кабы отделаться от этого парнишки. А-ах кабы!
Тихо стукнули в дверь светлицы.
– Кто там? – спросил Некомат.
В дверь выставилась кудлатая седая голова.
– Что тебе, Пахомыч?
В комнату бочком пролез приземистый старик с обезьяньим лицом, испещренным морщинами, и юркими лукавыми глазами, полуприкрытыми клоками седых бровей.
– Я к твоей милости, – проговорил Пахомыч.
– А что?
– Силушки нет сладить с пасынком твоим. Помилуй, совсем заморил он Чалого.
– Этакого коня?!
– Пропала лошадь. Вхожу сейчас в конюшню, гляжу – сена не ест и сама дрожит. На ней теперь разве впору воду возить, да и то годится ль!
– Любимый мой жеребчик. Растил его, холил красавца, вскормил – и вот! И как Андрюшке помогло такого коня зарезать?
– Вчерась оседлать приказал и поехал. Знамо дело, от безделья скука берет. Сам знаешь, какая вчерашний день погода была – дождик, буря, не приведи бог. А ему, вишь, дома не сидится. С утра до вечера это он по полям шаркал. Конь не поен, не кормлен, ну и заморил. Как он вернулся, я так и ахнул: мыло с коня так клочьями и сыпется что снег. Тогда же подумал я: ой зарезал коня.
Суровчанин присел на лавке, тяжело дышал и покачивал головой.
– Вот тебе и Чалый. А конек-то был!
– Уходил, уходил его, что и толковать. Сегодня я ему говорю: Андрей Алексеич! Зарезал ведь ты коня. А он меня же винит: ты, говорит, что смотрел? Верно, грит, опоили его. И знаешь, господине, уж ты меня прости, не в гнев твоей милости будь сказано, а сдается мне, что он тебе назло извел коня: знает – твой любимый.
– Может быть, и очень может быть. От него уваженья не дождаться, а этакого чего-нибудь, чтобы назло, сколько хошь. Уж паренек! Вот он где у меня!
Некомат указал на свою шею.
– Испытанье, тебе Господом посланное, – сказал Пахомыч, сочувственно вздохнув, и продолжал: – потому думаю, что он назло тебе сделал, потому… Ведь ни ты, ни я, ни другой кто не поедет по доброй воле в этакую непогодь, как вчерась. А его понесло. И зачем? Даром коня гонять. Один-одинешенек поехал и воров-душегубов не побоялся… А ноне у нас их страсть развелось: намедни Трифоновского ключника среди бела дня зарезали, только малость от дома отошел. Дивно, как Андрей Лексеича не полоснули.
– Кабы полоснули! – пробурчал Суровчанин так, что ключник мог и не слышать.
Но он слышал. Весь как-то дернулся, подался вперед и тихонько промолвил:
– Управились бы с ним воры – благодать бы была.
– Н-ну, – промычал Некомат, смущенно глянув в сторону.
– Нет, в сам деле, – зашептал старик, еще ближе пододвинувшись к нему. – Оно, конечно, грех желать такое. Но от слова ничего ему не сделается. А только как не сказать, что легче стало бы без него.
Суровчанин не останавливал холопа и нервно щипал бороду.
– То взять, – продолжал шептать ключник, – что вот теперь ты всем володеешь, а малость времени пройдет – приберет все к своим рукам Андрей Лексеич. Мы, рабы, попадем в его лапы, а тебя – ты не осерчай на меня – может, из дома погонит.
– От него дождешься.
– Чего от него не дождаться? Всего ждать можно. Меня он со свету сживет, уж это как пить дать. Он меня страсть не любит. Беда всем будет…
Старик замолчал. Юркие глаза его так и бегали.
– Тяжело, – со вздохом промолвил Некомат.
– Легко ли!
– А поделать ничего нельзя.
Пахомыч наклонился к самому уху купца и прошептал:
– Кабы греха не бояться, то можно бы…
– Отыди, сатана! – вскричал Суровчанин, покраснев.
Поднялся с лавки и зашагал по комнате.
Старик отскочил к двери и забормотал с покорным видом:
– Ведь я не говорю, чтобы беспременно. Я сказал, коли не бояться греха. А мы, вестимо, хрестьяне православные, мы греха боимся. Я так, к слову, тоись… А ты меня сейчас уж и сатаной.
Некомат ходил, опустив голову. Лицо его словно потемнело. В глазах выражались тревога и злоба.
Вдруг он круто остановился перед Пахомычем и спросил:
– Ну а… ну а как было бы можно?
Ключник встрепенулся.
– Как? Придумать недолго. Кликни – руки найдутся… На воров-душегубов свалим, – прошептал он.
– Где найдешь? – напряженно шептал купец. – Да после эти же руки, может, и к нашему горлу потянутся?
– Не посмеют потянуться. Устроим. У меня, сказать правду, на примете есть.
– Будто?
В это время в сенях послышались быстрые шаги. Дверь распахнулась, и на пороге появился юноша лет девятнадцати, высокий, голубоглазый, краснощекий. Его плечи еще не вполне развились, но, по-видимому, он обещал стать богатырем. На мощной шее сидела красивая голова в целом венке кудрявых белокурых волос.
Это был пасынок Суровчанина, владелец усадьбы и земель, Андрей Алексеевич Кореев.
Увидев его, Некомат угрюмо спросил:
– Что, Чалого-то загнал?
– Я загнал Чалого? Когда мне было его загнать? Конь, правда, теперь вконец испорчен, да только оттого, что его опоили, – ответил пасынок.
Пахомыч, успевший отдалиться от Некомата, с жаром возразил:
– Грех тебе, Андрей Лексеич, на людей напраслину взводить. Сам виноват, так зачем на других вину складывать? Вьюнош ты еще молоденький и на этакое пускаешься. Непригоже.
Молодой человек пожал плечами и промолвил:
– Да когда я мог коня загнать?
– А вчерась.
– Много ли вчера я ездил?
– А от обеда да вплоть до вечерка.
– Полно врать-то! – с негодованием воскликнул Кореев.
– Я что? Я человек маленький, – смиренно сказал ключник, злобно блестя глазами. – Одно слово – раб. Я все должен с покорством стерпеть. Говоришь, вру – ну, пусть вру. Пусть твоя правда, мне спорить нельзя. А только вспомяни то, что я еще твоей матушке с батюшкой служил, когда тебя и на свете еще не было. У меня уж борода сивая, а у тебя еще ус не пробился… Грех старика обижать. А снести я все снесу. Все снесу, не привыкать стать. За жизнь-то свою чего не натерпелся… А только обидно…
И ворча, он вышел.
– Коня, конечно, жаль, – сказал вотчим по его уходе, – доморощенный конек… Потому я и говорю… Но ты волен делать, как знаешь. Не мое добро… И ежели я печалюсь, то потому, что о тебе пекусь…
Он примолк, потом продолжал, стараясь придать голосу задушевный тон:
– Я ведь тебя этаким знал (он указал на аршин от пола), можно сказать, ты на моих руках вырос. Люблю я тебя, как сына родного… Денно и нощно заботушка о тебе меня берет. Вот пройдет годик, сдам я тебе все хозяйство, тогда делай как знаешь, слова не скажу… Сам будешь в возрасте… Ты будешь хозяйствовать, а я пойду угодникам молиться либо постриг приму… Уйду из усадебки.

