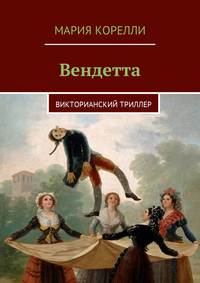
Вендетта. Викторианский триллер
Гуидо Феррари приехал и оставался у нас, в то время как холера, словно острая коса среди зрелого зерна, выкашивала целыми сотнями нечистоплотных неаполитанцев. Мы трое с маленькой свитой слуг, никому из которых ни в коем случае не разрешалось посещать город, жили на одной мучной еде и дистиллированной воде, регулярно мылись, вставали и ложились спать рано и находились в самом добром здравии.
Помимо всех прочих достоинств моя жена также обладала очень красивым и хорошо поставленным голосом. Она умела петь с изящным выражением и многими вечерами, когда Гуидо и я сидели в саду и курили после того, как маленькая Стела легла спать, Нина услаждала наш слух соловьиным пением, исполняя песню за песней о людях, исполненных дикой красоты. К этому пению Гуидо часто присоединял свой глубокий баритон, сочетавшийся с ее нежным и чистым сопрано также прекрасно, как шум фонтана с трелью певчей птицы. Я и сейчас слышу эти два голоса, их совместное звучание до сих пор стоит насмешливо в моих ушах; тяжелые духи флердоранжа, смешанного с миртом, плавают в эфире вокруг меня; горит желтая полная луна в синем небе, и снова я вижу две головы, наклонившиеся друг к другу, одну светлую, а другую темную – моя жена и мой друг – те двое, чьи жизни я ценил в миллион раз дороже, чем собственную. Ах! То были счастливые дни, ведь самообман всегда таков. Мы никогда не бываем в достаточной мере благодарны тем искренним людям, которые сумеют пробудить нас от сладкой мечты, однако именно таковые и являются нашими истинными друзьями. Если бы мы только это понимали.
Август всегда был самым кошмарным летним месяцем в Неаполе. Холера распространялась с ужасной быстротой, и люди, казалось, буквально обезумели от ужаса. Некоторые из них, охваченные духом дикого отчаяния, погружались в оргии разврата и несдержанности, опрометчиво игнорируя все вероятные последствия. Одна из таких безумных пирушек имела место в известном кафе. Восемь молодых людей, сопровождаемых восемью девушками замечательной красоты, приехали и заказали отдельную комнату, где им подали роскошный ужин. В конце трапезы один из присутствовавших поднял бокал и произнес тост: «Слава холере!» Он был встречен бурными криками аплодисментов, и все выпили за это с безумным смехом. Той самой ночью все гуляки умерли в ужасных муках, их тела привычно втиснули в наспех сколоченные гробы и похоронили один поверх другого в яме, торопливо вырытой для этой цели. Подобные мрачные истории достигали нашего слуха каждый день, но они нас не слишком печалили. Стела являла собой живое очарование, действовавшее подобно щиту против мора. Ее невинная игривость и детский лепет отвлекали и занимали нас, окружая атмосферой, исцелявшей физически и морально.
Однажды утром – то было одно из самых жарких утр того палящего месяца – я проснулся раньше, чем обычно. Надежда снискать хоть немного прохлады в воздухе заставила меня подняться и прогуляться по саду. Жена крепко спала на моей стороне постели. Я тихо оделся, чтобы не потревожить ее. Когда я собирался покинуть комнату, неясный порыв заставил меня возвратиться, чтобы взглянуть на нее еще раз. Насколько прекрасной она была! Она улыбалась во сне! Мое сердце забилось быстрее, когда я пристально посмотрел на нее, она принадлежала мне уже целых три года! Мне и только мне! Страстное восхищение и любовь к ней увеличивались во мне пропорционально уходящему времени. Я поднял один из рассыпавшихся золотых локонов, лежавший как яркий солнечный луч на подушке, и нежно поцеловал. Затем, не зная еще своей дальнейшей судьбы, я вышел наружу.
Слабый бриз приветствовал меня, когда я медленно прогуливался по садовым дорожкам. Дыхание ветра было недостаточно сильно для того, чтобы заставить листья трепетать, и все же в нем ощущался солоноватый привкус, который несколько освежал после тропически знойной ночи. Я в то время увлекся исследованиями Платона, так что по пути ум мой был занят высокими проблемами и глубокомысленными вопросами, которыми задавался этот великий учитель. Увлеченный потоком своих мыслей я зашел дальше, чем предполагал изначально, и оказался в конце концов на обходном пути, которым уже давно не пользовались в нашем домашнем хозяйстве. Это была вьющаяся дорожка, ведущая вниз в направлении гавани. Место было тенистым и прохладным, и я шел по дороге почти бессознательно, пока мельком не увидел мачты и белые паруса, просвечивающие через листву разросшихся деревьев. Я уже собирался вернуться той же дорогой, когда вдруг услышал внезапный звук. Это был низкий стон, выдававший сильную боль, а точнее придушенный крик, который, казалось, издавало какое-то животное, испытывающее страшные муки. Я повернулся на тот звук и увидел лежащего лицом вниз на траве мальчика, маленького продавца фруктов лет одиннадцати или двенадцати. Его корзина стояла рядом с заманчивой грудой персиков, винограда, гранатов и дынь – очень вкусной, но опасной во времена холеры едой. Я тронул парня за плечо.
«Что с тобой?» – спросил я его. Он конвульсивно скрутился и повернул ко мне лицо: красивое, хотя и мертвенно бледное со следами боли.
«Чума, синьор! – выдавил он. – Чума! Держитесь подальше от меня, ради Бога! Я умираю!»
Я колебался. За себя я не боялся. Но вот за жену и ребенка, – ради их безопасности необходимо было быть осмотрительным. И все же я не мог вот так оставить этого бедного мальчугана. И я решил отправиться в гавань на поиски врача. С такими мыслями я заговорил с ним ободряющим тоном.
«Мужайся, мой мальчик, – сказал я, – не теряй веры! Не всякая болезнь обязательно чума. Отдохни здесь, пока я приведу доктора».
Парень посмотрел на меня с удивлением жалобным взглядом и попытался улыбнуться. Он указал на горло и приложил усилие, чтобы говорить, но безуспешно. Затем он осел на траву и вновь скорчился от боли, как преследуемое смертельно раненное животное. Я оставил его и поскорее пошел вперед. Достигнув гавани, где стояла сильная удушливая жара, я увидел несколько испуганно выглядевших мужчин, стоящих бесцельно, которым я и поведал о мальчишке, призывая на помощь. Но все они отступили от меня, и ни один не согласился пойти даже за все золото, которое я предлагал. Проклиная их трусость, я поспешно продолжил поиски врача в одиночку и наконец его отыскал. То был болезненного вида француз, который выслушал с очевидным нежеланием описание того состояния, в котором я оставил маленького продавца фруктов, и в конце решительно покачал головой и отказался даже сдвинуться с места.
«Парень уже мертвец, – констатировал он с краткой холодностью. – Лучше зайдите в дом милосердия, и братья перенесут его тело».
«Что? – воскликнул я. – Вы даже не попытаетесь спасти его?»
Француз поклонился с насмешливой учтивостью.
«Простите меня, монсиньор! Мое собственное здоровье будет подвержено серьезной опасности, если я прикоснусь к умершему от холеры. Позвольте мне на этом откланяться, монсиньор!»
И он исчез, захлопнув дверь у меня перед носом. Я был крайне раздражен, и хотя высокая температура и зловонные миазмы городской улицы, раскаленной солнцем, заставляли меня чувствовать слабость и болезненность, я позабыл обо всех опасностях и продолжал стоять в зачумленном городе, задаваясь вопросом, что же я должен сделать, чтобы снискать помощь. Вдруг глубокий добрый голос прозвучал рядом с моим ухом.
«Вам нужна помощь, сын мой?»
Я поднял глаза. Высокий монах, чей капюшон частично скрывал его бледные, но решительные черты, стоял на моей стороне улицы. Это был один из тех героев, которые из любви к Христу откликнулись на зов помощи в то ужасное время и встречали мор бесстрашно там, где пустые безбожные хвастуны убегали подальше, словно напуганные зайцы, от одного только запаха опасности. Я приветствовал его с почтением и рассказал о своей проблеме.
«Я отправлюсь немедленно, – сказал он с оттенком сожаления в голосе, – но предполагаю худшее. У меня есть с собой лекарства, возможно, еще не поздно».
«Я пойду с вами, – сказал я нетерпеливо. – Непозволительно даже собаке дать умереть вот так, без всякой помощи. Тем меньше этого заслуживает бедный парень, который кажется совсем одиноким».
Монах внимательно посмотрел на меня, когда мы шагали вместе.
«Вы не живете в Неаполе?» – он спросил.
Я назвал свое имя, за которым закрепилась добрая слава, и описал расположение моей виллы.
«На вершине нашей горы мы пользуемся прекрасным здоровьем, – добавил я. – Не могу понять той паники, что преобладает в городе. Чума распространяется трусостью».
«Естественно! – ответил он спокойно. – Но что поделаешь? Люди здесь любят удовольствия. Их сердца прилеплены исключительно к этой жизни. Когда смерть, свойственная всем, проникает в их среду обитания, то они становятся похожими на младенцев, напуганных темной тенью. Религия сама по себе, – здесь он вздохнул глубоко, – не имеет никакой власти над ними».
«Но вы, отец мой», – начал я и резко остановился, ощутив острую пульсирующую боль в своих висках.
«Я, – отвечал он серьезно, – слуга Христа. Чума не пугает меня. Недостойный вроде меня готов – нет, жаждет! – по призванию своего Владыки подвергнуться угрозам всех смертей».
Он говорил твердо, но при этом без высокомерия. Я смотрел на него с неким восхищением и собирался уже ответить, когда неожиданное головокружение нашло на меня, и я ухватился за его руку, чтобы удержаться от падения. Улица раскачивалась под ногами, как корабль на волнах, и небеса закружились в вихрях голубого пламени. Странное наваждение медленно проходило, и я услышал голос монаха как будто издалека, который спрашивал меня с тревогой, что случилось. Я выдавил улыбку.
«Это тепловой удар, я думаю, – сказал я слабым голосом, словно дряхлый старик. – Я ослаб, и голова закружилась. Вы бы лучше оставили меня здесь и сходили проведать мальчика. О, Боже мой!»
Это последнее восклицание я выдавил из себя чистым мучением. Мои конечности отказывались удерживать меня, и острая боль, холодная и горькая, как будто голую сталь пропустили через мое тело, заставила меня опуститься в конвульсиях на тротуар. Высокий и жилистый монах без колебаний поднял меня и наполовину занес, наполовину втащил в какой-то трактир или ресторан для бедняков. Здесь он уложил мое тело на одну из деревянных скамей и подозвал владельца – человека, который, казалось, его хорошо знал. Хоть и жестоко страдая, я все же оставался в сознании и мог слышать и видеть все происходящее.
«Позаботьтесь о нем хорошенько, Пьетро! Это богатый граф Фабио Романи. Он страдает от боли. А я возвращусь в течение часа».
«Граф Романи! Пресвятая Дева Мария! Он подхватил чуму!»
«Ты дурак! – воскликнул монах в отчаянии. – Как ты можешь такое говорить? У него солнечный удар, а не чума, ты трус! Пригляди за ним или, клянусь ключами Святого Петра, тебе не будет места на небесах!»
Дрожащий владелец гостиницы выглядел испуганным от этой угрозы и покорно приблизился ко мне с подушками, которые подложил мне под голову. Монах между тем поднес стакан к моим губам, содержащий немного лекарственной смеси, которую я механически проглотил.
«Отдохните здесь, сын мой, – сказал он, обратившись ко мне успокаивающим голосом. – Эти люди вполне добродушны и позаботятся о вас. Я скоро вернусь, но сейчас должен спешить к мальчику, для которого вы искали помощь. Меньше, чем через час я буду с вами снова».
Я лежал, удерживая его руку в своей.
«Постойте, – пробормотал я, – скажите мне правду. У меня чума?»
«Надеюсь, что нет! – ответил он с состраданием. – Но что если и так? Вы молоды и достаточно сильны, чтобы мужественно с ней бороться».
«Я не боюсь, – сказал я, – но, святой отец, обещайте мне одну вещь: не говорите ни слова о болезни моей жене! Поклянитесь мне! Даже если я буду без сознания или умру, поклянитесь, что меня не понесут на виллу. Поклянитесь же! Я не успокоюсь, пока у меня не будет вашего слова».
«Торжественно клянусь вам в этом, сын мой, – ответил он, – во имя всего святого я исполню ваше пожелание».
После его клятвы тяжелый камень упал с моих плеч: безопасность тех, кого я любил, была гарантирована, и я поблагодарил его немым жестом, так как был слишком слаб, чтобы сказать больше. Он исчез, и мой мозг погрузился в хаос странных мечтаний. Сделаю попытку воскресить эти смутные видения. Я совершенно явно вижу интерьер комнаты, где лежу. Здесь робкий владелец гостиницы, он полирует свои стаканы и бутылки, бросая изредка испуганные взгляды в моем направлении. Небольшие компании мужчин заглядывают в двери и, видя меня, поспешно уходят прочь. Я наблюдаю все это, осознавая, где нахожусь, и все же одновременно я вижу себя взбирающимся по крутым склонам альпийского ущелья. Холодный снег прилипает к моим ногам, я слышу порыв ветра и рев тысяч ливней. Темно-красное облако плавает над вершиной белого ледника, постепенно его часть отделяется, и в его ярком центре я вижу улыбающееся лицо. «Нина! Моя любовь, моя жена, моя душа!» – кричу я в голос. Я протягиваю руки, сжимаю ее в объятиях, и вдруг бах! Этот проныра – владелец гостиницы – держит меня в своих омерзительных объятиях! Я вступаю с ним в отчаянную борьбу, задыхаясь.
«Глупец! – кричу я ему прямо в ухо. – Дайте мне прикоснуться к ней, к ее губам, созданным для поцелуев, пустите меня!»
И вот еще один человек подбегает и хватает меня. Вдвоем с владельцем гостиницы они заставляют меня лечь обратно на подушки, они одолевают меня, и крайняя слабость от ужасного истощения крадет мои последние силы. Я прекращаю борьбу. Пьетро и его помощник смотрят на меня.
«Умер!» – перешептываются они между собой.
А я слышу их и улыбаюсь. Умер? Только не я! Палящие потоки солнечного света устремляются через открытую дверь гостиницы, настойчиво и монотонно жужжит муха, какие-то голоса поют «Фею Амалфи», и я могу даже различить слова:
«Chiagnaro la mia sventuraSi non tuorne chiu, Rosella!Tu d’ Amalfi la chiu bella,Tu na Fata si pe me!Viene, vie, regina mie,Viene curre a chisto core,Ca non c’e non c’e sciore,Non c’e Stella comm’a te!»Это правдивая песня, о моя Нина! «Non c’e Stella comm’ a te!» Что там говорил Гуидо? «Чище первосортного алмаза и недоступная, как самая далекая звезда!» А этот глупый Пьетро все еще полирует свои бутылки. Я могу его видеть, его маленькое круглое лицо, потное от жары и пыли, но не могу понять, откуда он вообще здесь взялся, поскольку я уже стою на берегу тропической реки, где растут огромные дикие пальмы и сонные аллигаторы лежат, греясь на солнце. Их огромные челюсти раскрыты, а маленькие глазки поблескивают зеленью. По тихой воде скользит легкая лодка, и в ней я замечаю фигуру стоящего индейца. Его черты странным образом напоминают Гуидо. Приблизившись, он достает длинное тонкое стальное лезвие. Этот парень – храбрец! Он хочет в одиночку напасть на жестоких рептилий, которые подстерегают на жарком берегу. Он спрыгивает на землю, а я наблюдаю за ним со странным восхищением. Вот он проходит мимо аллигаторов, так что, кажется, и не замечает их присутствия, идет быстрым решительным шагом прямо ко мне. Так это я – тот, которого он ищет! Это мое сердце он стремительно пронзает кинжалом, затем вытаскивает его со стекающими кровавыми каплями. И снова бьет – раз, второй и третий – а я все никак не умираю! Я корчусь, я стонаю в горьком мучении! И тогда что-то темное застилает от меня яркое солнце, что-то холодное и мрачное, против чего я отчаянно борюсь. И вот два темных глаза пристально глядят на меня и голос произносит:
«Успокойся, сын мой, успокойся! Доверься воле Божьей!»
Это был мой друг – монах. Я обрадовался, узнав его. Он вернулся после своей миссии милосердия. И хотя я едва мог говорить, я все же начал расспрашивать его о мальчике. Божий человек перекрестился.
«Его молодая душа уже обрела покой! Я нашел его мертвым».
Я был поражен этим известием. Умер так скоро! Я не смог осознать этого, и разум вновь уплыл в состояние туманных грез. Теперь я вновь вспоминаю то время и вижу, что не могу четко изложить того, что пережил в дальнейшем. Я помню только, что сильно страдал от невыносимой боли, что подвергался мучительным пыткам отчаяния, но сквозь все это я постоянно слышал монотонное глухое звучание молитвы. Кажется, я даже слышал удары колокола, который сопровождает молебен, но мое сознание дико раскачивалось в эти моменты, так что я не могу быть в этом уверен. Я помню собственные крики среди этой вечности боли: «Только не на виллу, нет, нет, не туда! Вы не можете нести меня туда, я проклинаю того, кто ослушается меня!»
Затем вспоминаю ощущение страха перед глубоким водоворотом, откуда я протягивал свои руки, и глаза монаха, который стоял надо мной. Я тогда увидел проблеск тонущего серебряного распятия, сверкнувшего перед моими глазами, и наконец с громким криком о помощи, я погрузился вниз, в пропасть черной ночи и небытия.
Глава 3
Далее последовал долгий период сонливой неподвижности и темноты. Казалось, я был унесен каким-то чудесным источником глубокого забвения и мрака. Подобные мечтам образы все еще мелькали в моем воображении, но сначала они были размытыми, а спустя некоторое время начали обретать более конкретные формы. Странные трепещущие существа толпились вокруг меня, одинокие глаза пялились из глубокого мрака, длинные белые костлявые пальцы, хватавшие пустоту, делали мне грозные предупреждающие знаки. Затем очень медленно передо мной возникло видение: расстилался кроваво-красный туман, словно яркий закат, и из его середины огромная черная рука приблизилась ко мне. Она толкнула меня в грудь, схватила за горло чудовищной хваткой и придавила к земле, словно стальным прессом. Я отчаянно боролся, пытался закричать, но чудовищное давление не позволяло мне издать ни звука. Я извивался во все стороны, пытаясь выкрутиться, но мой мучитель держал крепко. И все же я продолжал борьбу с той жестокой силой, которая так стремилась сокрушить меня. И постепенно, дюйм за дюймом, в конце концов я одержал победу!
И тогда я проснулся. О, милосердный Бог! Где же я был? В какой ужасной атмосфере, в какой страшной темноте? Постепенно, когда мои чувства возвратились ко мне, я вспомнил недавнюю болезнь, монаха, человека по имени Пьетро, но где же они были? Что сделали со мной? Вскоре я понял, что лежал на спине прямо, диван подо мной был необычайно тверд. Почему они забрали подушки из-под головы? Чувство покалывания устремилось по моим венам, я с любопытством ощупал собственные руки: они были теплыми, а пульс бился сильно, хотя и неровно. Но что-то мешало свободно дышать. Воздух, воздух! Мне был нужен воздух! Я поднял руки и – о, ужас! Они ударились о твердую прочную поверхность прямо надо мной.
И тогда страшная правда озарила яркой вспышкой мой мозг! Я был похоронен! Похоронен заживо, а эта деревянная тюрьма, в которой я оказался заключенным, была гробом! В тот момент звериное безумие овладело мною, и я начал рвать и царапать ногтями проклятые доски, всеми силами своих рук и плеч я стремился вывернуть заколоченную крышку гроба. Но все усилия были напрасны! От ярости и ужаса я обезумел еще больше. Насколько простыми казались все прочие смертельные случаи по сравнению с моим! Я задыхался, я чувствовал, что глаза вылезают из орбит, кровь брызнула из моего рта и ноздрей, и ледяные капли пота стекали с моего лба. Я остановился, задыхаясь. Затем вдруг я напряг все свои силы в еще одной дикой попытке, уперев руки со всей силой отчаяния в одну доску своей узкой тюрьмы. И наконец она треснула и поддалась!
Но вдруг новый страх охватил меня, и я вынужден был отступить, задыхаясь еще больше. Мои мысли быстро заработали, рисуя страшную дальнейшую картину. Ведь коль скоро я был захоронен в холодной и сырой земле, кишащей червями и наполненной костями мертвецов, то что толку открывать гроб, позволив всей этой массе ворваться внутрь и забить мне глаза и рот, навсегда запечатав меня здесь. Мой разум погряз в этой идее, мой мозг висел на грани безумия! Я засмеялся – подумайте только! И этот мой смех прозвучал в ушах, как последний хрип в горле умирающего человека. Но теперь я уже мог дышать более свободно, даже обезумев от страха, я ощутил воздух. Да! Благословенный воздух как-то проник внутрь. Придя в себя и ободрившись осознанием этого факта, я нащупал образовавшуюся щель и с новым чудовищным усилием я стал расшатывать доску, пока вдруг целая сторона моего гроба не поддалась, и я смог наконец откинуть крышку. Я протянул руки, и никакая земля не помешала их движениям. Я чувствовал только воздух, пустой воздух. Поддавшись первому сильному импульсу, я выпрыгнул из ненавистного ящика и упал недалеко, ушибив руки и колени, казалось, о каменную дорожку. А рядом со мной рухнуло что-то тяжелое, разбившись со страшным грохотом.
Тьма стояла непроглядная. Однако атмосфера была прохладной и освежающей. С трудом превозмогая боль, я сумел принять сидячее положение на том самом месте, куда упал. Мои руки оставались непослушными и одеревеневшими, а кроме того, были изранены, и всего меня била сильная лихорадка. Тем не менее чувства мои прояснились, запутанная цепь беспорядочных мыслей соединилась в общую картину, пережитое безумное волнение постепенно улеглось, и я начал оценивать свое положение. Я, очевидно, был похоронен заживо. Сильнейшая боль, я полагаю, привела к тому, что я впал в кому, и люди из той гостиницы, куда меня привели больного, решили, что я умер от холеры. Охваченные паникой они с неприличной поспешностью, характерной всем итальянцам особенно во время чумы, уложили меня в один из тех непрочных гробов, что небрежно и наспех сколачивались из тонких и непрочных досок. Я от всей души благословил их небрежную работу! Ведь если бы я оказался в более прочном ящике, то, кто знает, возможно, что даже самые отчаянные усилия не увенчались бы успехом. При этой мысли я задрожал. Еще один вопрос оставался открытым: где я? Я обдумал свое положение с различных сторон и так и не пришел к конкретному заключению. Хотя, постойте! Я вспомнил, что назвал монаху свое имя, так что он знал, что я был единственным наследником богатой фамилии Романи.
И что же последовало далее? Естественно, что святому отцу только и оставалось, что исполнить свой последний долг перед умершим. Он решил положить меня в фамильный склеп моих предков Романи, который не открывался с тех пор, как тело моего покойного отца несли к месту погребения со всем торжественным великолепием и пышностью, которые присущи похоронам богатого дворянина. Чем больше я об этом думал, тем вероятнее мне все это казалось. Склеп Романи! Его запретный мрак напугал меня как мальчишку, когда я следовал за гробом своего отца к каменной нише, предназначавшейся для него. И я отвел в сторону глаза из-за щемящей боли, когда моему взору предстал тяжелый дубовый ящик с обвисшим изодранным бархатом, украшенный почерневшим серебром, в котором лежало все, что осталось от моей матери, умершей в молодости. Я почувствовал себя больным, слабым, похолодевшим и опомнился только, когда вновь оказался на свежем воздухе под синим куполом небес высоко надо мной. И теперь я оказался заперт в этом самом склепе, и была ли у меня надежда на спасение? Я стал размышлять над этим. Вход в склеп, как я помнил, закрывала тяжелая дверь с кованой железной решеткой, откуда вниз спускался один пролет ступеней, где по всей вероятности я теперь и находился. Предположим, что я смог бы в полной темноте пробраться к тем ступеням и даже поднялся бы до той двери, но что толку? Она ведь закрыта и надежно заперта. И поскольку находилась она в дальней части кладбища, то здешний смотритель скорее всего не проходил мимо нее в течение многих дней, а возможно даже, и многих недель. В таком случае придется ли мне здесь голодать? Или умереть от жажды? Мучимый такими мыслями я поднялся с камня и встал. Мои ноги были босы, и холод от камня, на котором я стоял, пробирал до самых костей. Мне еще повезло, что они похоронили меня, как умершего от холеры и, убоявшись инфекции, на мне оставили часть одежды. Так что я был одет во фланелевую рубашку и свои обычные прогулочные брюки. Я почувствовал, что что-то еще висело у меня на шее, и как только я подумал об этом, на меня накатила волна сладких печальных воспоминаний.
Это была гладкая золотая цепочка, на которой висел медальон с портретом моей жены и ребенка. Я вытащил его в темноте, покрыл страстными поцелуями и оросил слезами, – то были первые слезы после моей смерти, – обжигающие и горькие слезы хлынули из моих глаз. Моя жизнь чего-то стоила, только пока улыбка Нины освещала ее. И я принял решение бороться за жизнь до конца, независимо то того, какие ужасы ожидают меня впереди. Нина – моя любовь, моя красавица! Ее лицо всплыло в памяти посреди ядовитого мрака склепа. Ее глаза призывали меня, эти молодые верные глаза, которые, как я думал, утопали теперь в траурных слезах после моей смерти. Я, казалось, видел, как моя добросердечная любимая рыдает одна в тишине пустой комнаты, хранящей память о тысяче наших объятий. Ее прекрасные волосы растрепаны, ее нежное лицо бледно и измучено тяжестью горя! Малышка Стела тоже, несомненно, будет спрашивать обо мне, бедняжка! Почему я не пришел, чтобы покачать ее, как обычно, под апельсиновыми ветвями. И Гуидо – мой храбрый и преданный друг! Я думал о нем с нежностью. Я чувствовал, как глубока и бесконечна будет его искренняя печаль из-за моей смерти. О, я должен был испробовать все способы, чтобы вырваться оттуда и непременно найти выход из мрачного склепа! Как счастливы будут все они, когда вновь увидят меня, чтобы узнать, что я жив, а не мертв! Какой горячий прием они мне устроят! Как Нина бросится в мои объятия, а маленькая дочка прильнет ко мне. Гуидо горячо пожал бы мне руку! Я улыбнулся, когда представил себе эту сцену радости на доброй старой вилле – в счастливом доме, освященном нежной дружбой и верной любовью!

