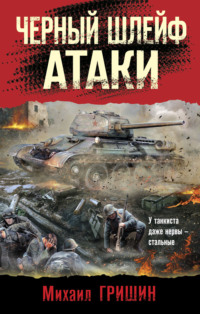
Черный шлейф атаки
Около одного из таких крутых склонов, впритирку прижавшись правой стороной к его отвесной стене, стоял замаскированный сосновыми лапами танк лейтенанта Дробышева. Экипаж дремал, неловко устроившись на своих боевых местах. Не спалось лишь одному Григорию, несмотря на бессонные ночи и сильную усталость.
Он прикрывал глаза, и перед его мысленным взором тотчас удивительно ярко возникала картина теперь уж далекого декабрьского дня 1941 года. Тогда он и еще шесть парней из его села уходили на фронт. Был сильный, под сорок градусов, мороз, по снежному насту мела поземка, немилосердно кружила, грозясь перейти в метель. Они овечьим гуртом брели по целине, сокращая путь, чтобы успеть к означенному времени на железнодорожную станцию, расположенную в двенадцати километрах от села. Шли с молчаливой сосредоточенностью, каждый в душе переживая долгую разлуку с родными, невольно думая о том, что не всем будет суждено вернуться в родные края.
Ветер насквозь продувал старенькую стеганую телогрейку, подпоясанную лохматой веревкой, чтобы не задувало снизу, снег летел в глаза, набивался в щели между заиндевевшим лицом и ушанкой, туго стянутой под подбородком тесемками.
Григорий вспомнил, как мать всю ночь корпела над его одеждой, заботливо накладывая мелкие аккуратные стежки на заплаты размером с его ладонь, и что-то далекое, но родное мягко коснулось его сердца. Он с шумом вздохнул, рядом зашевелился стрелок-радист, и Григорий затаил дыхание, желая хоть еще чуточку продлить хрупкое, как мираж, видение.
Через минуту он снова увидел мать, девятилетнюю сестренку Люську и младшего семилетнего братика Толика. Они провожали Григория до околицы, как провожали и другие сельчане своих уходивших на войну сынов.
Мать шла, покачиваясь, будто пьяная, с безвольно опущенными руками, простоволосая, со сползшим на плечи пуховым платком, и ее успевшие поседеть раскосмаченные волосы, припорошенные поземкой, печально развевались на ветру. Подле нее неуклюже переставляла ноги в отцовских валенках Люська. Она была укутана поверх пальто в теплую шаль настолько, что виднелись лишь ее заплаканные глаза. Сестренка старательно размахивала руками, чтобы не отстать.
Толик, похожий в своем перешитом ватнике на крошечного мужичка с ноготок, часто спотыкаясь, крепко держался за руку старшего брата, сбоку преданно заглядывал в его лицо. У Толика все время сползала на глаза ушанка, он ее поспешно поправлял, все так же неотрывно продолжая смотреть на Григория.
У околицы, когда прощались, мать заголосила, как будто предчувствуя, что они никогда не увидятся. От ее нечеловеческого крика у Григория по коже продрал мороз, он закусил губу и прибавил шаг. Еще какое-то время Толик бежал рядом с ним, потом отпустил его руку, остановился. Григорий на ходу обернулся. Толик сиротливо стоял один посреди белого безмолвного поля и неуверенно, прощально помахивал поднятой над головой ручонкой в заледенелой варежке. Поземка медленно заносила его снегом.
– Братка, родненький, возвращайся! – донес ветер до Григория тоненький мальчишечий голосок, и у Григория от жалости подкатил ком к горлу. Он с трудом сглотнул его, ответно помахал рукой, осиливая ветер, крикнул:
– Вернусь! Жди, братишка!
Затем прихватил горсть снега и, просыпая на грудь, туго перехваченную ремешком брезентового вещмешка, с поспешной жадностью стал хватать его ртом. Потом отвернулся и побежал догонять своих товарищей, сердцем чувствуя, что этот пронзительный крик сохранится в его голове до конца его жизни.
Григорию не было восемнадцати. Положение на фронте складывалось очень тяжелое, Красная армия отступала, враг стоял под Москвой. В короткие сроки следовало призвать новое пополнение, обучить военному делу. До дня его рождения оставалось три месяца, и военный комиссар, замотанный напряженной работой, валившийся от усталости с ног, должно быть, от безысходности и мрачного предчувствия наступающей беды рассудил по-своему: мол, отучится парень по ускоренной программе на танкиста, а там подойдет и год его призыва в армию.
Григорий стал известен на весь район ранней весной, когда отличился на севе яровых в своем колхозе, за один световой день выполнив двойную норму. О его трудовом подвиге было написано в передовице в районной газете «Трудовая новь» и, что немаловажно, с черно-белой, пускай и не четкой фотографией, где его грязная улыбающаяся физиономия за рулем трактора с радостью смотрела на читателей. Полученную им красную грамоту с портретами Ленина и Сталина мать аккуратно вставила в самодельную рамку и поместила в простенке, украсив ее чистым рушником, будто икону. А рядом повесила на гвоздике вырезанный из газеты его портрет. Вот тогда-то Григорий как тракторист и прославился, а комиссар, видно, это не забыл: Родина нуждалась в танкистах.
Так Григорий Михайлов оказался в поселке Сурок Марийской АССР в учебном лагере. Курсанты жили в самой настоящей тайге в тяжелых, невыносимых условиях: в огромных землянках на сто человек размещалось триста. Внутри находилась одна печка из железной бочки, которая не могла натопить помещение, стоял лютый холод, доходящий до двадцати градусов. Вместо досок на нарах были настланы жерди. Самым тяжелым временем была зима 1941–1942 годов. Многие солдаты не выдерживали, были побеги и самоубийства. Но самой страшной проблемой был голод. Солдатский рацион состоял из утренней похлебки из чечевицы, картофельных очисток, кружки кипятка. В обед – суп с чечевицей, каша, буханка хлеба на четверых.
– Стро-о-ойсь! – раздался однажды ранним утром зычный голос дежурного, показавшийся Григорию отчего-то испуганным. Эхо от него еще долго металось по лесу.
Из землянок стали поспешно выскакивать солдаты в зеленых ватниках, курсанты в длинных шинелях. Вскоре несколько тысяч человек выстроились на плацу, от их тяжелого дыхания над головами на морозе клубился белый пар.
Из штабного барака вышла небольшая группа людей. Впереди, грозно сдвинув брови, стремительно шагал невысокий военный в звании Маршала Советского Союза. Григорий без труда опознал в нем Климента Ефремовича Ворошилова, который на тот момент был ответственным за формирование запасных частей и подготовку пополнений для фронта.
Легендарного полководца он видел впервые, все внимание сосредоточил на его ладной фигуре, не заметив другую группу, состоявшую из командного состава учебного центра, включая писарей. Они шли раздетые, в одних гимнастерках, конвоируемые автоматчиками. Двое были вообще в нательных рубахах, опущенных поверх галифе. Офицерские ремни с латунными звездами отсутствовали, и ледяной ветер трепал на арестованных широкие просторные подолы гимнастерок. Григорий насчитал девятнадцать человек.
Среди них находился и командир их полка подполковник Чванов, упитанный, с румяными щеками низкорослый мужчина. Еще вчера он распекал курсантов забористым матом, придравшись к ним из-за какого-то пустяка. А то, что у парней от недоедания просто не было сил, во внимание не принималось.
Все они сейчас выглядели потерянно, шли, не поднимая обнаженных голов, хмуро глядя под ноги. И даже мороз, пробиравший до костей не шелохнувшиеся ряды красноармейцев, вряд ли был замечен ими после жаркого до одури помещения офицерского барака.
Арестованных выстроили в ряд перед солдатами. Григорий всмотрелся в их серые, словно покрытые пеплом лица и вдруг каким-то неведомым прежде ему внутренним взором увидел, что все они уже не живые, а самые настоящие мертвецы. Жутко было вот так стоять и смотреть на мертвых людей, которые еще на что-то надеялись. Он болезненно поморщился, перевел потухший взгляд на Ворошилова.
Маршал стоял, широко расставив ноги, заложив руки в перчатках за спину, сверля холодными, немигающими глазами неровную линию обреченных людей.
– Что ж вы, мерзавцы, творите! – вдруг резким фальцетом выкрикнул он и с чувством погрозил кулаком. – Когда весь трудовой народ, как один, встал на защиту нашей советской родины, находятся еще такие мерзавцы, которые думают только о своей требухе. Зажрались, сволочи! Разжирели на народных харчах! Страна ждет от вас пополнения, ждет, что вы обучите военному делу простых людей, оторванных войной от созидательного труда. А вы вместо боевой подготовки для них, когда на фронте каждый солдат на счету, когда враг практически стоит под стенами Кремля, устроили здесь между солдатами соревнование на выживание. Вы все прожрали и профукали, вместо того, чтобы поддержать русского воина, поднять силу его духа. От вас люди бегут, как будто с царской каторги. Дармоеды! – Ворошилов нервными движениями вытер кончиками перчаток обслюнявленные уголки губ, затем коротко взмахнул рукой, сухо скомандовал автоматчикам: – Расстрелять мародеров по закону военного времени.
Маршал круто развернулся и с чувством выполненного долга, в сопровождении старших офицеров, быстрыми шагами направился к черной легковой машине, поджидавшей у штаба.
За его спиной прозвучали хлесткие, похожие на быстрые удары палками по дереву, автоматные очереди, многократным эхом откликнувшиеся в голом заснеженном лесу.
Подполковник Чванов вздрогнул от смертельного удара пули в грудь, в то самое место, где еще вчера у него находился орден боевого Красного Знамени за Халхин-Гол. Гимнастерка на миг вспухла, из рваной раны тонким фонтанчиком брызнула кровь. Вмиг посиневшее лицо у него болезненно сморщилось, ноги подкосились, мужчина довольно медленно опустился на колени, постоял так, глядя исподлобья затухающими глазами на красноармейцев, будто ища у них сочувствия, и повалился на бок, плотно прижавшись тугой щекой к мерзлой земле.
Высокий офицер в звании майора подпрыгнул одновременно с тем, как у него быстро расплылось на белой исподней рубахе яркое красное пятно, упал навзничь, бессильно царапая скрюченными пальцами жесткий снег. Несколько раз дернул ногами в хромовых сапогах и затих.
Кто-то уже недвижно лежал, глядя невидящим взором в блеклое небо. Старший политрук соседнего батальона продолжал скрипеть зубами, катаясь по снегу, прижимая окровавленные руки к животу, словно он внезапно занемог. Еще один офицер страшно дергался в предсмертных конвульсиях, пока его равнодушно не добил худой автоматчик с лицом, обезображенным от осколка, полученного на фронте.
Вскоре снег на большом пространстве был от крови черного насыщенного цвета. Горячий тошнотворный запах исходил от скорбного места. Первое убийство на глазах Григория и обильно смоченный кровью своих советских людей снег подействовали на парня угнетающе. Более ужасающей картины ему еще видеть не приходилось. Справляясь с охватившим его волнением, Григорий вернулся в землянку, сдерживая рвотные позывы.
– Так им и надо, сволочам! – услышал он возмущенный голос знакомого курсанта, который от постоянного недоедания еле волочил ноги. – Они же хуже фашистов.
Григорий молча забрался на свое место, укрылся шинелью и, отвернувшись к стене, сделал вид, что уснул: многое ему надо было переосмыслить.
Его сосед, лопоухий паренек родом из-под Рязани с самым обыкновенным именем Ванька, который очень гордился своим земляком поэтом Есениным и сам пробовал писать стихи, пару раз обращался к Григорию с пустыми вопросами, желая вызвать на разговор, как видно, тяготясь увиденным, но скоро отстал. Григорий слышал, как притихший Ванька что-то принялся нашептывать себе под нос, шурша потрепанной тетрадью, черкая карандашом на бумаге.
«Стихи пишет», – догадался Григорий и невольно улыбнулся, подумав, что из Ваньки запросто может выйти настоящий поэт, как его любимый Сергей Есенин. А он после войны будет у себя в деревне гордиться тем, что лично был с ним знаком. Так он вскоре и заснул по-настоящему, под приятные мысли о Ваньке Затулине, будущем великом поэте Руси.
Курсантов в этот день больше не беспокоили, было похоже на то, что сегодня вдруг стало всем не до них. Григорий впервые писал письмо домой, не спеша, излагая во всех подробностях свой военный быт, часто привирая, чтобы в далекой родной стороне о нем не волновались. Письмо вышло длинным, складным, он даже внизу приписал четверостишье из нового сочинения Ваньки, как бы заранее приучая своих домочадцев к великому поэту, чтобы потом никто не говорил, что Григорий врет.
Угрюмый лес, одетый белым снегом,Землянки наши, крытые в накат.Учебный центр, и мы с моим соседом,По полигону с Гришкой водим грозный танк.На другой день в лагере произошли заметные изменения. Кормить стали намного лучше, и красноармейцы оживились, особенно молодые, которые из-за своего возраста только набирались сил.
Большие изменения коснулись и учебного процесса танкистов. Боевые машины запасного полка, выводимые для обучения механиков-водителей вождению, теперь стали одновременно использоваться для занятий с командирами орудий и заряжающими по огневой, а с радистами-пулеметчиками – по радиоподготовке.
Так само собой сложился их славный экипаж. Правда, командиром у них стал тогда еще младший лейтенант Дробышев из соседнего учебного центра, находившегося за двадцать километров от них в поселке Суслонгер. К этому времени на фронте сложилась особенно тяжелая обстановка. Доучивать Дробышева времени не осталось, и бывшего шахтера-проходчика уже после четырех месяцев учебы поспешно назначили командиром нового экипажа.
В конце февраля их погрузили в товарняк и отправили в Нижний Тагил на завод № 183 за танком. Пребывание в одном учебном лагере парней сблизило, несмотря даже на то, что заряжающий Ведясов и стрелок-радист Бражников успели проучиться с Григорием какой-то месяц. Тем не менее они успели сдружиться, а время, проведенное в дальней дороге на Урал, еще больше укрепило их армейскую дружбу. Молодые, еще не обстрелянные танкисты теперь старались держаться крепкого плеча товарища. А когда по прибытии на место увидели, что другие экипажи формировали прямо на заводе после получения танка, стали дорожить своей дружбой настолько, что любой из них был готов отдать жизнь за друга.
* * *Новенький танк Т-34, выкрашенный свежей зеленой краской, поджидал их на заводском дворе. Над цехами, выглядевшими огромными мрачными коробками, плыли низкие тяжелые облака, касаясь высоченных кирпичных труб. Время от времени в узкий просвет между облаками, ярко вспыхивая, бил пучок солнечного света, и стальная громадина тускло отсвечивала бронированными боками.
Парни восторженно смотрели на грозный танк и не могли поверить, что они теперь его хозяева. Одновременно было любопытно и боязно самостоятельно управлять боевой машиной, зная, что теперь их жизни взаимосвязаны: живучесть танка зависела от искусства экипажа, а их жизни – от его огневой мощи и от толщины брони. Григорий с непривычной для себя нежностью погладил шершавый бок танка, будто приласкал котенка.
– Бра-а-атка! – певуче сказал он со вздохом, обернулся и вопросительно взглянул светлыми глазами на командира.
– В машину! – хриплым голосом скомандовал Дробышев, без слов догадавшись о невысказанных мыслях механика-водителя.
С горячим проворством, словно борзые щенки, молодые танкисты забрались внутрь, где принялись уже с профессиональной дотошностью исследовать такое знакомое и в то же время незнакомое оборудование. Они знали, что каждый танк, каждая танковая пушка, каждый двигатель имеют свои уникальные особенности, которые можно выявить только в процессе повседневной эксплуатации. Ни сам командир Дробышев, ни заряжающий Ведясов не знали, какой бой у пушки, а механик-водитель не знал, на что способен дизель.
– А вот мы сейчас проверим его в деле! – воскликнул отчаянный Григорий и, на секунду задержав палец в воздухе, с силой вдавил в кнопку стартера.
Мотор радостно взревел, казалось, что он только и ждал этой минуты, черный клуб дыма вырвался из выхлопной трубы, железная махина вздрогнула и, послушная рукам Григория, грохоча гусеницами, резво побежала на заводской полигон. Там командир с Илькой отстреляли четыре снаряда, привыкая к пушке, а радист-стрелок расстрелял по мишеням три пулеметных диска.
– Пулемет что надо, – показал Ленька большой палец, по-мальчишечьи радостно улыбаясь.
Григорий, взглянув на него озорными глазами, весь подобрался, как будто перед прыжком, от души вдавил сапог в педаль газа. «Тридцатьчетверка», до этого двигавшаяся с равномерной скоростью, как будто на миг чуть присела, затем передняя часть приподнялась над дорогой ладони на три, и танк заметно ускорил бег; проворнее закрутились гусеницы, кроша комья мерзлой земли, перемешанной со снегом. Позади танка брызгами летела по сторонам грязь.
Совершив пробег на пятьдесят километров на разных скоростях, чтобы проверить машину на прочность, экипаж своим ходом отправился на железнодорожную станцию. Там танки погрузили на платформы, и состав отправился на фронт.
По прибытии к месту назначения Григорий с товарищами были неприятно поражены, увидев, что знакомые экипажи, сформированные на заводе, распались, так и не вступив в бой. Их заменили опытные танкисты, которые потеряли свои машины в кровавых сражениях и, согласно уставу, были направлены служить в пехоту.
Один из таких танкистов, дядька на вид еще не старый, но уже потрепанный войной, очевидно, с первого дня успевший нахлебаться всякого, – и жарких боев, и отступления, и окружения, – с тяжелыми рабочими руками, которые висели плетью вдоль его длинного нескладного туловища на коротких ногах, подошел к ним. У него было красное обезображенное огнем худое лицо, правая щека все время дергалась от нервного тика. Попросив у Дробышева закурить, он не ушел сразу, а прислонился узкой спиной к танку и, свертывая из газетного клочка цигарку, часто мигая и нервно дергая обожженной стороной лица, каким-то булькающим голосом сказал:
– Вижу, вы парни не обстрелянные, зеленые ишо, много чего не знаете. Так вот я вам скажу, глядя на проклятущую войну со своей колокольни, так сказать, успев кое-что уразуметь своей головой. Сберегайте машину, добрая у вас машина, подходящая для любого боя, с немецким тигром может сражаться на равных, а по скорости и маневрированию намно-о-ого превосходит его. Но более всего берегите друг друга, не дай Бог ранят кого, после госпиталя редко кто возвращается в свой экипаж, а то и в свой полк. А вы, ребята, как я погляжу, надежные, успели притереться. Это дорогого стоит. А то ведь бывает как? Собранные кое-как экипажи пригоняют танки с завода, а воюют на них другие, которые и дым и рым успели пройти. А этих в пехоту отправляют. Часто такое происходит, на моей памяти это уже шестой танк у меня.
Бывалый танкист послюнил края цигарки, с наслаждением затянулся, не сразу прикурив от отсыревших в кармане спичек, пыхнул клубами табачного дыма в тусклое небо и пошел к своему танку. В его усталой походке чувствовалась непреодолимая сила человека, крепко уверовавшего в свое предназначение разбить фашистскую нечисть и встретить День Победы в Берлине.
Слегка волнуясь за то, чтобы этот по-настоящему прожженный в боях танковый ас не подумал о нем как о совсем уж деревенской бестолочи, Григорий, с трудом сглотнув слюну, возвысив голос, сказал вслед:
– Так как же мы сможем его уберечь, ежели в жаркое сражение вступим? Тут с какой стороны ни погляди, а все от везенья зависит.
Танкист остановился, с живостью обернулся. Некое подобие улыбки мелькнуло на его задубелом, кирпичного цвета лице, и он с неожиданным теплом, которого вряд ли кто от него ожидал, ответил:
– Экипаж танка обязан действовать в бою смело, дерзко и решительно.
Он несколько раз подряд затянулся, докуривая цигарку, потом с сожалением посмотрел на крошечный окурок и, не в силах с ним расстаться, обжигая губы, еще раз сделал короткую затяжку и бросил его под ноги.
– Бывайте, парни, Бог даст, в Берлине свидимся, – сказал он, по-молодому блеснув глазами, растоптал окурок сапогом и пошел, но вдруг опять приостановился, обернувшись, сдержанно сказал: – А еще должна быть у стоящего танкиста сообразительность.
Его последние слова, скорее всего, относились к командиру танка младшему лейтенанту Дробышеву. Но Григорий тоже имел кое-какую сообразительность, а уж про дерзость и говорить не стоило.
Однажды в соседней деревне, куда они явились с приятелем Вальком миловаться к девушкам, местные парни хотели их побить, чтобы отвадить ходить к чужим девкам. Вдвоем против четверых им ни за что было не устоять, тем более Валек был мелкорослый и слабосильный. И тогда Григорий быстро и незаметно выхватил у курящего приятеля цигарку, крепко зажал ее в кулаке, стерпев боль от ожога, выставил перед собой ее острый обслюнявленный конец и с отчаянной решимостью выкрикнул:
– Всех кончу!
Было полнолуние, светлая газетная бумага блеснула, будто настоящее лезвие. Этого оказалось достаточным, чтобы задиристые, но трусоватые парни тотчас разбежались. Вот смеху-то было.
Через неделю экипаж младшего лейтенанта Дробышева участвовал в первом для него бою. Он произошел неподалеку от деревни Мясной Бор. Боевые действия велись на сравнительно небольшом участке Ленинградского фронта.
Григорий, не имевший боевого опыта, в душе сильно переживал, боясь за последствия своих необдуманных и, может быть, даже где-то нерасторопных действий. По значимости механик-водитель был в экипаже вторым после командира. Но если трактористом Григорий был довольно умелым, с легкостью разбирался в моторе, то как механик-водитель танка он себя чувствовал еще не совсем уверенно. Все же танк и трактор – разные машины, как по конструкции, так и по скорости передвижения. Да и по обзорности они тоже несравнимы. В тракторе у тебя все на виду, только успевай поглядывать по сторонам да любоваться на прелести окружавшей тебя природы. А в его «тридцатьчетверке» находился устаревший триплекс с установленными под углом вверху и внизу зеркальцами из полированной стали, искажающими изображение. Разобрать что-либо через него, особенно в прыгающем танке, было практически невозможно.
И все же, несмотря на всю разницу между танком и трактором, Григорий надеялся на свои профессиональные навыки тракториста. Что ни говори, а именно они крепко помогли ему в освоении сложного устройства всех механизмов танка. Пригодились для правильного выполнения на нем различных боевых приемов: движение в атаку на максимальной скорости, ведение интенсивного огня, в особенности с ходу, непрерывное наблюдение за полем боя, ориентирование, маневрирование под огнем противника с использованием складок местности, укрытий и нанесение ударов во фланг и тыл его огневых точек, избегая лобовых атак.
Но трудно было представить, как все сложилось бы на самом деле, не получи перед боем Григорий письмо из дома. В нем мать сообщала, что его отца Михайлова Андрея Лукьяновича убили 21 января сего года, всего и пожил-то он после 41-го дня своего рождения каких-то восемнадцать ден. Дальше почерк заметно изменился, когда она писала о том, что похоронили ее соколика 300 метров юго-западнее города Холм, «и если тебе, сыночек, доведется быть в тех местах проездом или еще какой оказией, не поленись заехать к отцу на могилку и передать ему низкий от меня с детками поклон…». В этом месте мать, очевидно, заплакала, потому что бумага была в пятнах с желтыми разводами от высохших слез.
И такая ярость охватила всегда миролюбивого добродушного Гришку, что он готов был сию минуту ринуться в самый жаркий бой, ни капли не страшась умереть. Вся его сущность в этот момент требовала мести за отца, который в своей недолгой жизни только и делал, что трудился как вол то на колхозном поле, то в своем хозяйстве, чтобы прокормить семью. Григорий сам не заметил, как нервно стал стучать кулаком, сжатым с такой силой, что побелели костяшки пальцев, по краю блестевшей от постоянного соприкосновения с мерзлой землей гусеницы.
– Эй, братка, – окликнул его Илькут, который уже с минуту с тревогой наблюдал за другом, за тем, как у него кривилось, по-видимому, от мучительных дум, но сдерживаемое из последних сил, чтобы не заплакать, лицо, – вести из дома неутешительные?
– Отца убили, – с надрывом в голосе ответил Григорий.
– Ничего, Гриша, – тотчас отозвался Илькут, сдвинув грозно свои белесые брови так, что у него поперек лба пролегла глубокая складка, и многообещающе процедил сквозь широкие зубы, которые обычно бывают у добрых людей: – Они у нас завтра кровавыми слезами умоются за все те беды, которые натворили на нашей советской земле.
Григорий сам не понял, что с ним в тот день такое произошло на поле боя: он словно видел себя со стороны, превратившись в одно целое с танком. Наверное, так чувствовал себя кентавр из греческой мифологии, рассказ о котором как-то ему довелось прочитать в книге учителя по истории Серафима Федоровича. Только там это была мешанина из человека и коня, а тут из человека и танка.
Григорий отчетливо слышал, как в башне Илькут заряжал орудие, по звуку определяя, какой снаряд загоняется, затем щелчок клина затвора, весившего более двух пудов, перекрывавший рев двигателя, лязганье ходовой части и звуки боя. Услышав лязганье закрывающегося затвора, Григорий, не дожидаясь команды «Короткая!», выбирал ровный участок местности для короткой остановки и прицельного выстрела. А еще у него было такое чувство, как будто он летел впереди танка, сверху обозревая поле боя, а не смотрел через забрызганный грязью триплекс, в который и без того ни черта видно не было.

