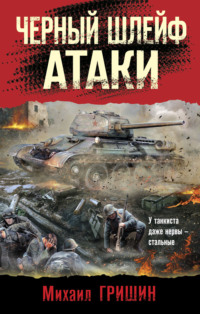
Черный шлейф атаки
«Не ко времени туман, ой, не ко времени», – с тяжким сожалением подумал Гришка, когда его танк нырнул внутрь плотного молочного облака, разом лишив его нужных ориентиров. В распаренное лицо через приоткрытый люк тотчас брызнули освежающие мелкие водянистые капельки, и перед глазами впереди танка заплясали сияющие разноцветные звездочки клубившегося тумана.
Он, конечно, мог продолжать двигаться прямо, вслепую, рассчитывая на то, что немецкая артиллерия его тоже не видит. Но робкие надежды на войне не имеют под собой крепких оснований и не всегда оправдываются. Тем более в отличие от него, окутанного туманной мглой, как непроницаемым коконом, фашисты на высоте находились в более выгодных условиях. Им не надо было разглядывать танки внизу, они просто били шквальным огнем из всех орудий по колышущему в низине молочному сгустку, в котором заблудились неприятельские танки, ослепленные неожиданно упавшим туманом.
Снаряды с каждой секундой ложились все ближе, все яростнее становился огонь вражеской артиллерии: немцы торопились использовать выгодную ситуацию на полную мощь, не дожидаясь, когда советские танки вновь выйдут на видимый простор и накроют их позиции ответным огнем.
Григорий сбавил скорость, стараясь нащупать ту самую лощинку, которая вела к мелкому овражку, переходящему в балку, и по ней выйти немцам в тыл. Чтобы ощутить гусеницами тяжелого танка пологую лощинку, не прозевать ее, надо было иметь высокую квалификацию. От нечеловеческих усилий, связанных с перенапряжением, у Григория на переносице выступили капельки пота, темные обветренные руки побелели до крайности, словно были перепачканы в муке, из прокушенной нижней губы мелким ручейком бежала кровь. Тут обостренный слух Григория отчетливо расслышал громкие протяжные голоса: «Ура-а! За Родину! За Сталина!».
Это неожиданно вступила в бой пехота, как видно, рассчитывавшая под покровом тумана добраться до передовой линии немецкой обороны и тем самым вывести из-под шквального огня танки.
«Зря это они, – мимоходом подумал Григорий, болезненно поморщился, душой переживая за неопытного Славика. – Держись, зема!»
И в этот момент Григорий каким-то седьмым чувством, не иначе как данным свыше, – видно, не зря мать ему иконку Николя Чудотворца с собой положила – понял, что он в лощинке, даже расслышал, как ему показалось, негромкий плеск воды ручейка, стремительно бегущего по дну.
– Поворот вправо! – доложил он командиру и в двух словах объяснил ему свой план.
Дробышев моментально сориентировался в новой обстановке, дал команду стрелку-радисту передать взводному о своих действиях.
– Сокол, Сокол, я Гранит! – волнуясь, закричал в рацию Ленька. – Вправо иду по оврагу в тыл противника. Я Гранит, прием!
– Гранит, я Сокол, – отозвался их взводный капитан Петрачев, – идем за вами, включи задние огни, прием!
Григорий пялился в сгустившийся туман с такой силой, что со стороны было страшно глядеть на его вытаращенные глаза. Казалось, что еще секунда-другая, и они вывалятся наружу.
Ленька испуганно бросал на механика-водителя косые взгляды, но молчал, зная, как невыносимо трудно Гришке в эту минуту.
Танк двигался медленно, равномерно раскачиваясь, будто плывущая по волнам лодка. Время от времени траки оскальзывались, крутясь вхолостую, царапая суглинок гусеницами с намотавшимися на нее комьями вязкой глины. Григорий вел танк с превеликой осторожностью, сильно переживая за исход боевого рейда, рискуя не выехать из балки, которая мигом станет для его взвода западней. А уж если немцы случайно узнают о столь безрассудном маршруте бесшабашных русских танкистов, то им всего лишь стоит подбить головной танк, и тогда ловушка точно захлопнется.
У Григория от волнения пульсировала синяя жилка на виске. Он прислушивался к себе, стараясь интуитивно, но больше по звуку мотора, по сцеплению гусениц с поверхностью, определить самое выгодное место, где без опасения застрять можно будет выехать из балки. Судя по времени и скорости передвижения, они должны были находиться позади немецкой батареи или, в крайнем случае, с левого фланга.
Туман поредел, но совсем не рассеялся, была надежда на то, что они все-таки успеют незаметно выбраться из балки наверх, где уже ничто им не помешает атаковать фашистские позиции. Гусеницами левого борта Григорий наконец почувствовал пологий склон, покрытый мелкими камнями подсушенной ветрами пористой земли. Преодолеть этот небольшой участок для танка труда не составляло.
– Поворот влево! – с облегчением сказал в переговорное устройство Григорий. – Выбираемся из балки!
Лейтенант Дробышев, похоже, тоже переволновался, потому что, когда давал указания стрелку-радисту, у него настолько сильно пересохло горло, что он едва просипел слова.
– Сокол, Сокол, я Гранит! – вновь принялся кричать в рацию Ленька, подрагивая своим щупленьким тельцем от возбуждения. – Идем вверх, атакуем неприятеля с тыла! Я Гранит, прием!
– Гранит, я Сокол! Вас понял! – моментально отозвался взводный капитан Петрачев, весьма довольный, что их опасный до безрассудства рейд завершится скоро и, по всему видно, ожидаемым успехом. – Атакуем неприятеля!
Педантичные по характеру немцы и мысли не могли допустить, что советские танки рискнут подобраться к их позициям со стороны балки, настолько узкой, что там не только нельзя развернуться, но, по их рациональной мысли, и проехать невозможно. Поэтому когда из балки, скрытой остатками сизого тумана, вдруг как из преисподней, натужно ревя мощными моторами, вырвались прямо к артиллерийским позициям несколько танков, на ходу стреляя из пушек, поливая все живое вокруг огнем из пулеметов, фашисты, оказавшиеся в непосредственной близости, от охватившего их мистического ужаса даже не стали сопротивляться, а поспешно подняли дрожащие руки.
Григорий с ходу раздавил не успевшую вовремя уехать бронемашину, проутюжил окопы с залегшей пехотой, затем наехал на поверженное дальнобойное орудие, и его танк гордо застыл, поводя башней по сторонам, выискивая новую цель.
Красноармейцы, прижатые на склоне плотным огнем неприятеля, поспешно вскочили и побежали к высоте, закрепляя успех, во все горло осатанело крича:
– Ура-а-а!
Глава 4
Небольшой участок земли, обозначенный на фронтовой карте как высота 33,3, после ожесточенного боя выглядел до того жалко, что у слабохарактерного человека от его вида невольно наворачивались горестные слезы. На что уж Гришка успел наглядеться за полтора года войны всякого и малодушием не страдал, но и он страшно кривил черное от копоти лицо с грязными потеками пота на щеках, стоя на вершине холма, на броне своего танка, страдальческими глазами оглядывая местность.
Дерн с кое-где пробившейся молодой травкой на самой макушке холма был начисто выворочен взрывами, и обнаженная земля, начиненная острыми металлическими осколками от снарядов и гранат, была перемешана в черную крутую грязь, будто перемолотая огромными жерновами. Глубокие, в полный рост обвалившиеся окопы с длинными бугорками осыпавшихся брустверов, обтянутые колючей проволокой, тянулись вдоль и поперек высоты, словно морщины на лице старого человека, а дымившиеся воронки, густо испятнавшие пологий склон по обе стороны холма, выглядели как рябая испорченная внешность у больного после выздоровления от оспы.
Опрокинутые взрывами советской артиллерии и раздавленные советскими танками, валялись немецкие орудия, еще недавно грозные и неприступные. И всюду на земле в самых необычных позах лежали трупы немцев. Восточный же склон высоты, откуда шло наступление советских войск, был усеян трупами наших бойцов.
В разных местах горели четыре танка Т-34. Один танк с зияющей в башне оплавленной пробоиной стоял поперек, другой с разорванной гусеницей кособоко притулился у кустов боярышника. Механик-водитель и заряжающий, не успевшие покинуть подбитый танк, лежали в разных местах на броне, убитые немецкими пулеметчиками. У третьего танка была снесена башня, которая валялась неподалеку. И лишь у четвертого танка не было заметно каких-либо видимых повреждений, кроме охваченных огнем полупустых баков с горючим и кормой. Горел он жарко, черная копоть, клубясь и сворачиваясь в спираль, с бушующим ревом поднималась к небу.
На поле боя серыми тенями бродили красноармейцы похоронной команды, собирая убитых. По их неторопливым и расчетливым движениям чувствовалось, что они привыкли к своим неприятным обязанностям и спешить им, собственно, было некуда.
– Спите спокойно, парни, – пробормотал Григорий, губы у него задрожали, и он, скорбя по погибшим товарищам, медленно стянул свой шлемофон, застыл, понуро свесив голову, глядя ввалившимися, красными от перенапряжения глазами на валявшуюся в грязи возле гусениц покореженную фашистскую каску с черной свастикой в белой окружности. – Мы отомстим.
Опираясь на руки, из башенного люка выбрался Илькут. Мельком посмотрев на Григория, он молча разместился на башне, удобно свесив ноги в пыльных сапогах. Неторопливым движением стянул с головы шлемофон, устало вытер тыльной стороной ладони запотевший лоб, затем провел рукой по мокрым волосам и посмотрел в низкое небо, на плывущие рваные облака, в просветы которых время от времени выглядывало весеннее солнце.
– Хорошо, – сказал он негромко, не поворачивая головы, как будто обращаясь к самому себе, но явно с расчетом отвлечь Гришку от горестных мыслей, помолчал и вновь продолжил, мечтая вслух: – После войны обязательно стану пчеловодом, заведу пасеку и буду бесплатно снабжать медом всю округу. А ульев у меня будет по числу наших погибших на войне товарищей.
– Много же тебе потребуется ульев, – рассеянно ответил Григорий. – Так и земли не хватит.
– А это ничего, Гришенька, – проникновенно сказал Илькут, и Григорий по его голосу безошибочно определил, что заряжающий Ведясов лишь делает вид, что духом он крепкий, а на самом деле ему так же плохо, как и Григорию, а может, и во сто крат хуже. – Государство поможет, не может оно не понимать, что не для себя я стараюсь, а для всех советских людей. А вы с Ленькой и командиром будете приезжать ко мне в гости, а я вас буду угощать нашим мордовским необыкновенно вкусным медом. Такого меда, как у нас, больше нигде в Советском Союзе нет, – хвастливо заявил Илькут, и его широкое лицо расплылось в довольной улыбке. – Сам убедишься.
– А ведь мы с тобой, можно считать, земляки, – немного оживился Григорий, понимая, что жизнь продолжается и не все дела еще поделаны, чтобы скорбеть душой без конца; так и самому недолго оказаться в числе покойников. – Раньше на нашей тамбовской земле жили ваши мордовские племена. А потом вы ушли дальше на восток, а мы поселились на освободившихся землях. У нас даже мордовские названия остались, Моршанск, Пичаево, река Цна, и еще много других.
– То-то я думаю, что это мы с тобой так сразу подружились! – засмеялся Илькут, щуря на друга слегка раскосые, опушенные белесыми ресницами глаза. – У тебя самого лицо круглое, будь здоров. Нашенское лицо, родное!
Глядя на ухмыляющуюся физиономию друга, Григорий нервно хмыкнул раз, другой и вдруг оглушительно громко захохотал, запрокинув голову, но как-то невесело, с надрывом, как будто через силу.
Из люка механика-водителя по пояс высунулся Ленька, все это время находившийся внутри, с недоумением уставился на товарищей.
– Прекращайте ржать, – сказал он с превеликой досадой и, болезненно поморщившись, отвернулся, когда мимо на брезенте двое красноармейцев проволокли по грязи обгоревшие тела погибших танкистов. – Совесть поимейте, пожалуйста.
Интеллигентный, чувствительный Ленька, обладавший тонкой душевной организацией, так и не смог привыкнуть к смерти товарищей, гибель их всегда принимал чересчур близко к сердцу.
– Семи смертям не бывать, – довольно холодно ответил вдруг посерьезневший Григорий, – а одной не миновать. Сегодня их хоронят, – он кивнул себе за спину, очевидно, подразумевая танкистов, чьи трупы только что проволокли, – а завтра нас будут хоронить. Теперь что же, раньше времени махнуть рукой на свою жизнь? Нет уж, дорогой наш товарищ Ленька, мы с Илькутом на это не подписывались. Будем продолжать жить и радоваться до тех пор, пока нас самих вперед ногами не отнесут и не закопают в какой-нибудь подходящей для этого дела воронке. А все время горевать, так и сердце себе можно надорвать, а оно, чай, не железное, разорвется на мелкие части, не успеешь и фашистам как следует отомстить за все беды, которые они натворили на нашей земле. Верно я говорю, Илька?
– Куда уж вернее, – охотно согласился с другом Ведясов. – По мне, так лучше уж умереть за правое дело от разрыва бронебойного снаряда, а не от разрыва сердца, как какая-нибудь жеманная гимназистка. Вот я и тороплюсь успеть пожить на белом свете на всю катушку. Ну-ка, Гришка, сыграй что-нибудь жизнеутверждающее на своей трофейной гармонике!
Не сводя хмурого, но уже начинавшего заметно теплеть взгляда с Ленькиного бледного лица, Григорий молча вынул из кармана губную гармошку, обтер ее о комбинезон на груди, выбрав более-менее чистое место, деловито облизал шершавым с белым налетом от грубой пищи языком сухие потрескавшиеся губы и прижал к ним музыкальный инструмент.
Над полем боя, где недавно безраздельно хозяйничала смерть, без разбора выкашивая ряды бойцов с той и другой стороны, неожиданно раздались протяжные чарующие звуки. На всех оставшихся в живых солдат повеяло чем-то далеким, но таким родным и душевным, что каждый, – будь то красноармеец или солдат вермахта, – в этот миг почувствовал себя частицей этого огромного светлого мира. Бойцы на минуту замерли в самых живописных позах, в которых их застигла необычная музыка. Они слушали, затаив дыхание, не шелохнувшись, словно боясь, что своим неосторожным движением могут как-то на нее повлиять и она оборвется так же внезапно, как и началась. Казалось, что сама природа в это время притихла, очарованная звуками.
Высокий молодой немец с пустыми глазами, одетый в грязную прожженную на спине шинель, сидел на лафете опрокинутого орудия. Возле него валялся покореженный снарядом пулемет. Опираясь локтями на острые колени, обхватив обнаженную голову со светлыми спутанными волосами растопыренными темными от пороха пальцами, он монотонно раскачивался. О чем думал этот сдавшийся в плен фашист, на что надеялся, придя на чужую землю с захватническими целями?
К нему с наганом в правой руке тяжело подошел танкист с обожженным лицом; левая щека, подверженная нервному тику, дергалась у него с пугающей периодичностью, а еще он время от времени контуженно дергал головой, будто указывал человеку куда-то в сторону. Он тоже слышал протяжные звуки губной гармошки, но, судя по его суровому непроницаемому лицу и поведению, особого чувства к музыке не испытывал.
– Поднимайся, – сказал он хриплым надтреснутым голосом и грубо пихнул фашиста сапогом в спину. – Шнель!
Молодой немец испуганно вскочил, вытянув руки вверх, с ужасом глядя на небритого с прокопченным угрюмым лицом русского танкиста, который смотрел на него тяжелым, немигающим взглядом.
– Пошел, – танкист стволом нагана указал фашисту направление и вновь поторопил: – Шнель, шнель!
Когда проходили мимо отдыхавших прямо на мокрой земле куривших пехотинцев, один из них, пристроившийся тощей задницей на немецкой каске, равнодушно спросил:
– Куда ты его?
– Это он, сволочь, моих братов из пулемета положил, – зло ответил танкист и от волнения несколько раз подряд дернул головой, – когда они подбитый танк покидали.
Пехотинец сочувственно вздохнул, пыхнул самокруткой, разгоняя ладонью у сморщенного лица густое облако едкого дыма, тоже со злобой сказал:
– В распыл его, суку.
У глубокой воронки танкист резко ткнул фашиста наганом в спину. Последние метры тот едва плелся на непослушных ногах, как видно, давно уж догадавшись, куда его ведут; ноги у него подломились, и немец сполз на дно воронки.
Он смотрел оттуда вверх на своего конвоира полными ужаса глазами, вытягивал дрожащие руки на всю длину, быстро-быстро бормотал:
– Гитлер капут, камрад! Гитлер капут!
С презрением глядя на унижающегося врага, который даже смерть не может принять достойно, а сразу обделался так, что запах достиг практически бесчувственного обожженного носа танкиста, он с отвращением сказал:
– Жидок ты, вражина, на расправу оказался. Так зачем же ты к нам пришел, кто тебя звал сюда? Жил бы у себя в Германии до ста лет, да и жил бы. Пил бы свое баварское пиво да жрал бы свои баварские сосиски.
– Гитлер капут, – как заведенный твердил фашист, вытаращив глаза так, что больше было уже некуда, и дрожал. – Гитлер капут.
– Сам знаю, что капут, – согласился танкист и стремительно, несколько раз, видно, все-таки сжалившись, выстрелил ему в голову, чтобы не мучился.
Фашист опрокинулся на спину, широко раскинул руки, конвульсивно выскреб каблуком сапога неглубокую ямку и затих, прикусив кончик вмиг посиневшего языка.
– Не надо было приходить, – буркнул танкист, сунул наган за голенище сапога, широкими шагами направился разыскивать пехотного капитана.
Горькое чувство недовольства собой, злую досаду испытывал этот человек, потерявший в бою очередной танк и половину экипажа. Надо было теперь идти на поклон к командиру полка, чтобы его – опытного вояку, горевшего не раз в танке, – не отправили воевать простым пехотинцем, а временно до прихода новых танков определили в мастерскую-летучку. Но сейчас было не время выдвигать свои условия, а надо было воевать там, где особо нуждались в людях. Утром, когда шли в атаку, он своими глазами видел, сколько полегло красноармейцев, и немцы обязательно предпримут контратаку, чтобы отбить оставленную высоту. У него не было никаких сомнений на этот счет, и он торопился разыскать капитана, зная по опыту, что сейчас дорог каждый человек как боевая единица.
Капитана Жилкина он отыскал на дальнем участке пологого склона, где особенно много полегло при наступлении пехотинцев. Тот стоял возле носилок, которые держали две худенькие медсестры в зеленых, подпоясанных ремнями ватниках и теплых штанах, с перекинутыми через плечо санитарными сумками с красными крестами посредине. На головах у девушек по-весеннему были надеты пилотки, прикрепленные к темным волосам заколками. Их слабосильные руки, цепко охватившие тонкими испачканными в земле пальцами отполированные тысячами ладоней рукоятки носилок, заметно дрожали от напряжения.
Жилкин задержался рядом с ними, по всему видно, встретившись по дороге, когда уже возвращался на высоту.
На носилках, неестественно вытянувшись во весь рост, лежал молодой красноармеец. На его цветущих губах пузырилась розовая пена, а из уголка приоткрытого рта с видневшимися внутри оранжевыми зубами темным бугристым валом медленно вытекала густая кровь. Парень силился что-то сказать, задыхался, хрипел, кашлял, вздрагивая телом и выгибая от боли спину.
Низко склонившись над раненым бойцом, Жилкин прислушивался к его слабому голосу.
– Товарищ капитан… это мой земляк… Гришка… играет, – говорил с короткими перерывами парень, едва заметно улыбаясь. – Мы с ним… ночью… перед боем… познакомились. Слышите, товарищ капитан? Вы передайте ему… что я раненый… но живой. Пускай он… не переживает. Помню… когда я маленький был… мама мне тоже… свирель на день рождения… подарила. Я знаю, что он играет… на губной… гармошке… но это все равно… на пастушью свирель… похоже. Он молодчина… мой друг.
– Товарищ капитан, – не выдержав, с укоризной обратилась к Жилкину вторая медсестра, наблюдавшая за этой сценой и испытывающая жалость к страдающему парню, – не мешайте нам выполнять свою работу. Нам надо срочно доставить раненого красноармейца в санчасть.
Жилкин послушно выпрямился, взял горячую руку парня в свою широкую ладонь, а другой ладонью накрыл сверху, с искренним сочувствием наказал ему выздороветь в кратчайшие сроки.
– Ты давай, Каратеев, лечись там, впереди нас Берлин ждет. Без тебя нам никак не справиться.
Увидев, как благодарно блеснули его глаза, Жилкин ободряюще подмигнул и осторожно, чтобы не причинить излишнюю боль, удобно расположил руку парня на носилках, затем стал по стойке «смирно» и четко отдал ему честь.
– Советская страна гордится тобой, рядовой Каратеев!
Стараясь ступать в ногу, что у них никак не выходила по причине накопившейся за долгое время боев усталости, девушки осторожно понесли тяжелораненого бойца в санчасть, заметно покачиваясь, время от времени оступаясь.
Жилкин проводил их горестным взглядом, испытывая щемящее чувство при виде широких голенищ их тяжелых сапог, которые были довольно велики и болтались, даже несмотря на теплые штаны.
– Товарищ капитан, – окликнул его со спины танкист, терпеливо дожидавшийся, когда он освободится, – разрешите обратиться?
Жилкин стремительно обернулся, уставившись сухими, ввалившимися от постоянного недосыпа глазами на чумазого, перепачканного в мазуте и солярке пожилого танкиста.
– Обращайся, – разрешил он и протяжно вздохнул, как видно, не совсем еще отойдя от разговора с раненым бойцом, который буквально вчера был у них ротным запевалой, имел громовой, как у сельского архиерея голос, а теперь лишь икал, поминутно схлебывая теплую сукровицу. – Говори, танкист, не томи.
– Без танка я остался, – с какими-то обреченными нотками в голосе сказал танкист и, багровея, сморщил свое и без того обезображенное огнем лицо, что однозначно говорило о том, что вынужденный разговор не доставлял ему удовлетворения, а говорил он, пересиливая себя, – и без экипажа.
– Твой? – спросил Жилкин, кивком указав на дымившийся танк, где на броне недавно лежали погибшие танкисты.
– Мой, – глухо ответил танкист и исподлобья тяжелым взглядом посмотрел на капитана. – Приказывай, куда мне определяться до распоряжения моего командования. Знаю, с бойцами у тебя большая прореха.
– К сержанту Потехину иди, скажешь, что от меня. Вон он копошится на вершине. Будешь у него вторым номером возле бронебойного ружья. Тебе привычно вражеские танки подбивать, заодно и за парней отомстишь.
– Кое-кому я уже за братов вязы свернул, – буркнул танкист, повернулся и, сгорбившись, размашисто зашагал к немецким окопам на высоте, где обустраивал свою огневую точку бронебойщик Потехин.
* * *Григорий продолжал с чувством играть, стоя на танке, рассеянно глядя по сторонам. Все так же сидевший на башне Илькут слушал его с прикрытыми глазами, безвольно свесив между колен руки со сплетенными толстыми пальцами. В эту минуту он, должно быть, мысленно находился у себя на родине где-нибудь в мордовских лесах, потому что медленно покачивался вперед-назад и с видимым удовольствием, не открывая рта, мычал под Гришкину мелодию что-то свое, народное. Ленька Бражников задумчиво отошел к кусту вербы, сорвал гибкую веточку с проклюнувшимися зелеными почками и теперь заинтересованно ее рассматривал.
Низкие облака, подгоняемые ветром, уплыли далеко на запад, небо на восточной стороне постепенно стало чистым, но земля на высоте по-прежнему находилась в серой тени от дыма, клубами поднимавшегося от горевших советских танков. В теплом прогретом воздухе удушливо пахло горелой резиной и соляркой.
Григорий увидел коренастую фигуру капитана Жилкина. Он тяжело поднимался по склону, направляясь в его сторону. Каска болталась у него на поясе. Григорий оборвал на печальной ноте музыку, с охватившим его волнением стал наблюдать за подходившим капитаном, интуитивно чувствуя, что неожиданный визит связан, по всему видно, со Славиком.
Не услышав музыки, перестал мычать и Илькут. Открыв глаза, он с недоумением взглянул на Гришку, потом проследил за его взглядом и медленно поднялся, не сводя тревожных глаз с капитана.
– Гриша, что-то случилось? – спросил он вполголоса.
Григорий, не оборачиваясь, молча пожал плечами.
Жилкин шел торопливо, поминутно бросая исподлобья на Григория хмурые взгляды. Не дожидаясь, когда он подойдет настолько близко, что можно будет разговаривать с ним обычным голосом, Григорий поспешно сунул гармошку в карман комбинезона, спрыгнул с танка и пошел навстречу, стараясь еще издали по его глазам угадать о том, что капитан намерен сказать.
– Здорово, маэстро, – сказал, подходя, Жилкин, невесело улыбаясь одними глазами, и как старому знакомому охотно протянул небольшую, но крепкую ладонь, чувствительно сдавив широкую Гришкину кисть.
– С добром пришли, товарищ капитан, аль как? – сразу спросил Гришка, испытующе заглядывая в его глаза, отсвечивающие сухим, как у больного человека, нездоровым блеском.
– Тут с какой стороны поглядеть, – неуверенно ответил капитан Жилкин и скрюченными пальцами озадаченно поскреб свой тугой потный затылок. – Ранен твой землячок, тяжело ранен, но живой. Так что я добросовестно исполнил его волю, что просил твой дружок, то и передал.
– Товарищ капитан, – сказал Григорий голосом, в котором вдруг появились металлические нотки, – мнится мне, что-то вы недоговариваете. Выкладывайте все начистоту, раз уж заделались парламентером.

