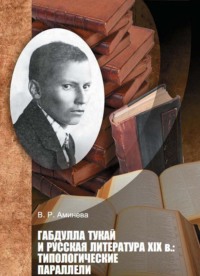
Габдулла Тукай и русская литература XIX века. Типологические параллели
Через произведения и А. С. Пушкина, и Г. Тукая проходит мотив свободы творчества и гордой независимости поэта от его общественного окружения. Характерно в этом плане стихотворение Г. Тукая «…гә (Ядкяр)» («На память», 1908), типологически сходное с сонетом А. С. Пушкина «Поэту» (1830). Призывая поэта «не дорожить любовию народной», лирический герой А. С. Пушкина основывается на представлении о пророческой («Пророк»), жреческой («Поэт») миссии художника, который произносит свой «высший суд» над миром с позиций запредельного этому миру знания:
Ты царь: живи один. Дорогою свободнойИди, куда влечёт тебя свободный ум…<…>…Ты сам свой высший суд;Всех строже оценить умеешь ты свой труд97.Г. Тукай, как и А. С. Пушкин, был убеждён в том, что истинный поэт обречён на одиночество и отверженность, поэтому обращается к нему с призывами:
Шагыйрем! Кодсиятең булсын синең күңлеңдә сер;Дөньядан шагыйрь икәнеңне яшер, дустым, яшер.Белмәсеннәр – кайсы җирдән агыла бу кодрәтең,Син, ләтыйф тәннәр кеби, күрсәтмәгел чын сурәтең.Һәрвакыт, һәр җирдә син башка киемнәргә төрен:Йә җүләр бул, йә мәзахчы бер кеше төсле күрен98.(О поэт, храни прилежно чувства тайные твои,От людей своё призванье утаи ты, утаи!Пусть останется неведом им могущества исток,Чтоб никто из них увидеть образ истинный не мог.Ты всегда имей в запасе сотни всяческих одежд,То безумным представляйся, то шутом в кругу невежд99.)Перевод В. ТушновойРазвивая тему противостояния сильно и тонко чувствующей личности бесчувственному и равнодушному обществу, лирический герой Г. Тукая советует поэту скрывать под маской «тайные чувства», «истоки» своего могущества, сокровенные глубины своего «я». Возникает антитеза между ничтожными качествами людей и Божественной, священной природой поэтического дара:
Читкә бор – сүз килсә каршыңда шигырьләр бабына;Иптәшең шагыйрь генә бассын аяк михрабыңа.Итмә үз тормышны; тап башка җиһан, башка хәят;Дөньяның буш шау-шуы шагыйрьгә чит, шагыйрьгә ят100.(А поэзии коснутся – на другое спор сверни,Чтоб в святилище поэта не могли вступить они.Ты живи своею жизнью, избегая суеты, —Шум бесплодный чужд поэту, от него скрывайся ты!101)Исключительная роль творца, создающего свои произведения в согласии с высшими ценностями, высвечивает в образе поэта черты, возвышающие его над обыденностью:
Баш имә – зур син – бу әдна җанлылар дөньясына;Падишаһ син! Бик кирәксә, баш исен дөнья сиңа102.(Не сгибайся! Ты огромен в этом мире мелкоты.Падишах ты! Пусть в поклоне мир согнётся, а не ты103.)Фигура «поэта» в стихотворении предстаёт одновременно великой и трагической. Мотивы беззащитности творческой личности перед людьми, которые «камнем сердце ранят», неоценённости труда поэта вносят щемящую эмоциональную ноту в финал стихотворения:
Таш йөрәкләр кырсалар күңлеңне – түз, эндәшмә син;Эшләре шул: болгасыннар әйдә зәмзәм чишмәсен!104(Если камнем сердце ранят, будь, мой друг, как камень нем,Значит, дело их такое – пусть мутят святой Зямзям!105)Противопоставляя слову молчание, которое соотносится с внутренним миром человека, его душой, лирический герой Г. Тукая утверждает суверенность и недоступность «я» поэта для посторонних. Молчание поддерживает «поэта» в его одиноком противостоянии «толпе». Г. Тукай обращается к форме наставления. Значимость высказываемых суждений подчёркнута восклицательной интонацией поэтических предложений, использованием глаголов в повелительном наклонении, что придаёт урокам и поучениям Г. Тукая обязательный характер.
Стихотворение «Вакъты гаҗезем (Көнлек дәфтәремнән)» («В часы раздумий (Из дневника)», 1909), подобно «Осени» (1833) А. С. Пушкина, воспроизводит творческий процесс, как он протекал у Г. Тукая. Одним из самых важных побудительных мотивов к творчеству назван поиск истины:
Юк әле миндә хәкыйкатькә вөсул,Әллә нигә айрылалмый уң вә сул.Йа Ходай! Кайчан чыгармын шөбһәдән?Кипми ник шөбһә тире бу җибһәдән?106(Много истинных мыслей в душе перебрав,Сомневаюсь я всё ещё – прав иль не прав?Боже! Истиной благостной горе развей!И сомнения пот осуши поскорей!107)Перевод В. ГаниеваИзображение того, как мучительно трудно найти истину и выразить её в слове, определяет содержание стихотворения Г. Тукая о сущности творчества и роли художника.
В стихотворениях А. С. Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье», 1825) и Г. Тукая «Иһтида» («Постижение истины», 1911) раскрывается особый бытийный статус состояния любви-вдохновения: любовь и творчество представлены как две стихии, объединённые принадлежностью к сфере возвышенного, Божественного и нуждающиеся друг в друге. Лирический герой стихотворения «Постижение истины» уподобляется Меджнуну, потерявшему рассудок из-за любви к Лейле. Для него, как и для героя поэмы Низами, любовь – «высшая цель в этом мире». Используя суфийскую символику, Г. Тукай отождествляет любящего человека со свечой, воск которой тает от огня страсти:
Миңа ул бер вә бар, көчле вә һәйбәтле санәм булды;Аңар хәмдем, салатымны ирештергән каләм булды.Мәхәббәттән эреп шәмдәй үзем, күңлемдәге гөлләрЯнып җиргә сыгылдылар, һавага очтылар көлләр108.(В ней я видел одной воплощение сущего мира,Я молитвы слагал для неё – божества и кумира.Как свеча я растаял, цветы, что я в сердце лелеял,Почернели, сгорели, и ветер их пепел развеял…109)Перевод Р. МоранаЭтот мистический опыт, ведущий к полной диссоциации и деперсонализации, становится этапом в духовной эволюции лирического «я» и необходимой предпосылкой творчества. Мысль, знание, ум поэта несут в себе божественное начало, поэтому они наделяются способностью изменять предначертанное, освещать путь не только верующего человека, но и наций и народов:
Килеп чыкты хәзер фикрем кояшы золмәт артыннан,Түгел инде вакытлы, мәгънәсе юк хискә мин корбан.Шөкер булсын, хәзер алдымда бер нурлы хәят инде,Теге мәзкүр пот алдында табынганнан оят инде.Җиңел уй, йөз кызарткыч төрле хисләр, сезгә мең ләгънәт!Яшә, тугъры караш, төпле гакыл, меңнәр яшә, хезмәт!110(Солнце мысли моей из-за облака вырвалось, к счастью:Я не скован уже мимолётной, бессмысленной страстью.Слава Богу, опять предо мною светлеет дорога,И теперь я стыжусь, что я в идола верил, как в Бога.Чувства, мысли пустые – проклятия шлю вам без счёта!Здравствуй, ясность ума, здравствуй, истина, здравствуй, работа!111)«Солнце мысли» – возвышенно-идеальное, духовное начало, с помощью которого осуществляется познание мира, противопоставляется витально-экзистенциальной сфере чувств, имеющих деструктивно-разрушительный характер. Р. К. Ганиева, анализируя данное стихотворение, приходит к следующему выводу: «Нәтиҗә ясап шуны әйтергә мөмкин: беренчедән, шигырьдә акылны хискә каршы куеп, Тукай Урта гасыр мөселман әдәбиятларында бик тә киң таралган әдәби-эстетик кануннар белән бәхәскә керә. Икенчедән, шагыйрьнең әсәрдә беренче карашка әллә ни күзгә ташланмаган, эчкәрерәк яшеренгән Л. Н. Толстой фәлсәфи-этик карашларын да алга сөргәнлеге сизелеп тора. Мәгълүм булганча, рус язучысы мәһабәт шәхеснең, аеруча ир-егетләрнең, халык файдасына булган иҗтимагый әшчәнлегенә аяк чала дип исәпләде. Күп кенә шигырьләрендә Толстойның бу фикерен Тукай да уртаклашты. Шагыйрьнең сөю хисләреннән бигрәк Акыл белән Хезмәтне өстен күрүе милләт хадиме булу идеалын яклавы рус әдәбиятының йогынтысы белән дә аңлатыла иде»112 («Подытожив, можно сказать следующее: во-первых, противопоставив в стихотворении разум чувству, Тукай вступает в дискуссию с художественно-эстетическими канонами, широко распространёнными в средневековых мусульманских литературах. Во-вторых, чувствуется выдвижение на первый план скрытых в подтексте философско-этических взглядов Л. Н. Толстого. Как известно, русский писатель считал, что любовь мешает человеку, особенно мужчине, заниматься общественной деятельностью во благо народа. Во многих своих стихотворениях Тукай соглашается с этой точкой зрения писателя. Влиянием русской литературы можно объяснить предпочтение, которое поэт отдаёт Разуму и Труду перед чувством любви, поддержку идеала слуги народа»113).
А. М. Саяпова обнаруживает в стихотворениях Г. Тукая «О, эта любовь!», «Постижение истины» суфийскую символику, давшую ключ к эмоционально-интуитивному постижению тайны мира: «…как суфий любовь к Богу выражает через любовь к женщине, так и Тукай любовь к музе своей черпает из любви к женщине земной, реальной или воображаемой. Образ свечи-огня переосмысливается Тукаем как символ высшей Божественной силы, одаривающей творческой силой, а мотылёк стремится к её огню не для того, чтобы, сгорев в пламени, слиться с Божеством и ощутить своё с ним единство (кульминация единства – «небытие в Истине»). Мотылёк стремится зажечь свет в своей душе, уподобиться Божественному творчеству»114. Таким образом, если в суфийской поэзии парные образы-символы «свеча – огонь» выражали абстрактную, мистическую идею достижения состояния единения с Абсолютом, то у Г. Тукая они используются не в мистическом, а в философско-экзистенциальном смысле.
Поэт Г. Тукая оказывается вовлечённым во вселенский конфликт борьбы добра и зла, света и тьмы, истины и лжи. И. Пехтелев обращает внимание на то, что в стихотворении Г. Тукая «Пәйгамбәр (Лермонтовтан үзгәртелгән)» («Пророк (по Лермонтову, с изменениями)», 1909) переплетаются и пушкинские, и лермонтовские мотивы одновременно115. Одним из компонентов образа пророка у Г. Тукая, как и у его предшественников, является бегство от людей, удаление в пустыню. Г. Тукай подхватывает пушкинскую тему космической необозримости мира, открывшейся преображённому сознанию пророка: это все сферы бытия – явное и сокрытое, прошлое и будущее, высота и глубина («дно морей» и свет «больших и малых звёзд»).
Итәм тагать, күзем, күңлем тәмамән гарше әгъляда.Күз алдымда күрәм мең-мең кадәр яшьрен җиһаннарны,Күрәм булган, буласы барча яхшы һәм яманнарны.Күрәм гъаден, сәмуден, бар булып үткән халыкларны,Күрәм диңгез төбен, уйнап-йөзеп йөргән балыкларны116.(Смиряюсь я, глаза и сердце моё возносятся ввысь.Перед собою я вижу тысячи сокрытых ранее миров,Вижу всё бывшее и будущее добро и зло.Вижу рай, вижу все жившие когда-то народы,Вижу дно морей, вижу рыб, плывущих там играючи.)Подстрочный перевод И. Пехтелева117Сила, глубина и всеобъемлемость полного и самозабвенного созерцания, в котором участвуют различные силы человеческого духа («глаза», «сердце»), – свойства поэтического дара, определяющие гармонию Творца с природой, мирозданием:
Миңа кол анда бар җанвар: арыслан, хәтта капланнарНәбиләргә тимәслекнең мөкаддәс гаһден алганнар.Догамны тыңлый йолдызлар – кечесе, зурлары бергә,—Мине тәгъзыймлиләр шатлыклә, уйнап нурлары берлә118.(Мне покорны там все животные, львы, даже тигры,Они дали обет не трогать праведных.Мои молитвы слушают звёзды – и малые и большие —Все они возвеличивают меня, сияя в радостных лучах.)Создаётся некий фантастический мир, в котором даже дикие звери своей покорностью подтверждают праведность дороги, выбранной героем стихотворения. Н. Хисамов отмечает: «Детали, отсутствующие в лермонтовском оригинале, восходят к «Кыссас эль-анбия» («Сказания о пророках») Рабгузи (XIV в.) и к поэме «Кысса-и Йусуф»». Учёный приводит два примера: сыновья Йакуба приводят волка к отцу, говоря: «Йусуфа съел он». Волк отвечает старцу: «Мясо пророков для нас запретно». А «поклон звёзд пророку» безусловно перенят из сна Йусуфа119. На достигаемую им мученическую святость указывают и звёзды, символизирующие высшую степень мистического единения творческой личности с космосом.
Но бытию вселенной противоречат законы общественной жизни. Продолжая лермонтовские традиции, Г. Тукай показывает конфликт между пророком, призывающим «к любви, дружбе и родству», и презирающим его обществом. Обличительные речи и высокие призывы поэта-пророка встречают враждебное отношение «близких, друзей, родных, современников». По наблюдениям Н. Хисамова, в стихотворении Г. Тукая усиливается трагизм судьбы пророка. Учёный сравнивает функционирование мотива «посыпание головы пеплом» в стихотворении М. Ю. Лермонтова и Г. Тукая: «Этнографическая деталь, характерная для Ближнего и Среднего Востока, заимствованная Лермонтовым из Библии, Тукаем переосмыслена на основе этнографических традиций татарского народа. Посыпание пеплом головы, как проявление скорби у лермонтовского пророка, у Тукая превратилось в жестокость толпы по отношению к пророку»120.
В стихотворении «Пророк (по Лермонтову, с изменениями)» возникает аналогия между деятельностью поэта и религиозным служением, подвижничеством. Служение истине, борьба за души людей, стремление утвердить в мире законы правды, любви и добра требуют самоотречения, терпения, лишений:
Шул ук сәгать үземнән, башкалардан баш-күз алдым даСөйләргә башладым хакны кешеләрнең күз алдында.<…>Ашамый-эчми көндез, кич белән баш куймый мендәргә121.(В тот же час я, отрешившись от самого себя и от всех,Начал перед всеми изрекать истину.<…>Не ел, не пил, днём и ночью не склонял голову на подушку…)Стойкость поэта и его верность своему призванию выражаются в теме творчества, имеющего «огненную» природу («Укыйм ялкынлы аятьләр…» – «Читаю огненные святые стихи…»), и в состоянии горения лирического «я» («Янып рухани ут берлә, ашыккан хәлдә юл тотсам» – «Горя духовным огнём, спешу куда-либо»). Творческое пламя, несмотря на трагическую обречённость судьбы поэта-пророка, представлено как главная ценность мира.
На фоне установленного сходства эстетических представлений А. С. Пушкина и Г. Тукая существенны принципиальные различия между творчеством русского и татарского поэтов. Качественно иной по сравнению с пушкинской является субъектно-объектная ситуация в лирике Г. Тукая. Соотношение объективной и субъективной сторон художественного содержания в русской литературе определяется повышенной активностью авторского плана. В творчестве татарских писателей начала ХХ в. рождение новой формы авторства, характерной для поэтики художественной модальности, сосуществует с элементами традиционалистского художественного сознания, что проявляется в преобладании объективного начала над субъективным в структуре художественного образа. Допущение, что «я» как автономный и самоценный субъект могу владеть истиной, дополняется представлением о посреднической функции автора, в котором индивидуально-творческое начало взаимодействует с традиционно-каноническим. Степень активности автора при этом может быть различной.
Г. Тукай нередко занимает скромную позицию ученика по отношению к авторитетным для него предшественникам – классикам русской литературы. Лирическое «я» оды (мадхии) «Пушкину», переставая быть поэтической условностью, приобретает черты психологической конкретности, даже биографичности. Погружаясь в себя, лирический субъект концентрируется на собственных переживаниях. Прежде всего он передаёт то воздействие, которое оказывают на него творения великого поэта:
Касавәт кәлмәйер кальбә: сәнең шигърең мөнафиһа, —Нәчек кем шәмсә каршы парлайыр дөнья вә мафиһа.Кыйраәт әйләдем, әзбәрләдем бән җөмлә асарың;Кереп гөлзарыңа, бән дә тәнавел иттем әсмарың.Сәнең бакчаңда гиздем, йөредем һәм әйләдем тайран;Күрүбән гандәлибаны, тамаша әйләдем сәйран122.(Моя душа не знает тьмы: ты жизнь в неё вселяешь,Как солнце – мир, так душу ты стихами озаряешь!Я наизусть твердить готов твои произведенья,Вкушать плоды твоих садов, влюбляться в их цветенье.От деревца до деревца я теми брёл садамиИ восхищался без конца твоими соловьями123.)Перевод С. БотвинникаПолное воздаяние великому русскому поэту совершается несмотря на то, что автора отделяет от него религиозная граница:
Мәрамем-матлабым анчак сәнең мәнзум вә мәнсүрең;Бәнем шәэнемме тәфтиш мәзһәбеңне, дине мәнсүбең124.(Идти повсюду за тобой – мой долг, моё стремленье,А то, что веры ты другой, имеет ли значенье?125)Наконец, размышления о величии Пушкина включаются в контекст раздумий о себе, своём поэтическом даре, о художественно-эстетических ориентирах в творчестве:
Әвәт, дәрдем дорыр якьсан, вә ликин бәндә юк дәрман,Вирер дәрмани дә, шаять, җәнабе мән ләһелфәрман126.(Моя душа близка твоей, но так различны силы!О, если бы такой талант судьба мне подарила!127)Развитие этой личной темы в стихотворении прослеживает Т. Н. Галиуллин: «Яшь шагыйрьнең максаты – Пушкин каләменнән төшкән тезмә-чәчмәләрнең тирәнлегенә үтеп керү, шулардай үрнәк-өлге алу, гөлбакчасына кереп, җимешләреннән авыз итү. Шуңа күрә беренче куплетта ук, Александр Пушкин янәшәсендә «мин» образы калкуы гаҗәп түгел («Минем дәрт-омтылышым синең дәртең белән бер үктер»). Остазыңның шигъри бакчасында очып, «сандугачларыңны күреп», «күңел ачып» йөрү бер хәл, аңа тиң әсәрләр иҗат итү – икенчерәк гамәл. Бу нисбәттән дә лирик затның икеләнү, борчылулары озакка бармый: «Кодрәтле зат, шаять, ул дәрманны да бирер». Остазының шифалы иҗади йогынтысы – аның өчен шигъри осталык мәктәбе, рухи таяныч үзәге. Иҗатының алдагы, җитлеккән чорында да шагыйрь Пушкин иҗатына, исеменә еш мөрәҗәгать итә, үз иҗат юнәлешен якларга, расларга кирәк булганда, бәхәскә дә керә (әйтик, «Пушкин вә мин» шигыре), әмма аның олы талантын, халыкчан рухын, шигъри тирәнлеген һәрвакыт югары бәяли»128. («Цель молодого поэта – добраться до самой глубины поэзии и прозы Пушкина, опираться на них как на образцы, вкусить плоды в «саду» его поэзии. Поэтому неудивительно появление образа «я» рядом с Александром Пушкиным («Моё стремление одинаково с твоим») в первой строфе стихотворения. Одно дело – летать, «знакомясь с соловьями», «отдыхать» в поэтическом саду учителя, но совсем другое – на его уровне творить произведения. Связанные с этим переживания и сомнения лирического героя не продолжаются долго: «Всемогущий, даст он и силы». Живительное творческое влияние учителя – для него школа поэтического мастерства, духовная опора. Даже в период своего зрелого творчества поэт часто обращается к творчеству и личности Пушкина, вступает с ним в спор, утверждая свой путь в искусстве (например, стихотворение «Пушкин и я»), однако всегда высоко ценит его талант, народный дух, поэтическую глубину»129).
Лирический герой стихотворения «Бер татар шагыйренең сүзләре» («Размышления одного татарского поэта», 1907) видит цель творчества в приближении к «первообразцам», данным классиками русской литературы:
Пушкин илә Лермонтовтан үрнәк алам,Әкрен-әкрен югарыга үрләп барам;Тау башына менеп кычкырмакчы булсам,Биек җир бит, егълырмын дип шүрләп калам130.(Образцами мне Пушкин и Лермонтов служат.Я помалу карабкаюсь, сердце не тужит.До вершины добраться хочу и запеть,Хоть посмотришь на кручу – и голову кружит131.)Незадолго до смерти Г. Тукай признавался:
Хәзрәти Пушкин вә Лермонтов әгәр булса кояш,Ай кебек, нурны алардан икътибас иткән бу баш132.(Пушкин, Лермонтов – два солнца – высоко вознесены,Я же свет их отражаю наподобие луны133.)«Кыйтга» («Хәзрәти Пушкин вә Лермонтов…»)«Отрывок», 1913. Перевод В. ГаниеваВ то же время лирический герой Г. Тукая осознаёт уникальность и неповторимость творческой индивидуальности каждого поэта и утверждает своё право на оригинальность художественных решений:
Булмый Пушкин шигърене һич хаинанә үз итеп,Булса да «Әлхәм» уку ул өр-яңа бер сүз итеп134.(Пушкин, ты неподражаем, в повтореньях толку нет.Повтори я стих Корана, был бы я тогда поэт?135)В лирике А. С. Пушкина появляется двуголосое и стилистически трёхмерное слово, ориентированное на чужое (другое) слово136. Оно развёртывает свою семантику в бесконечных столкновениях и преображениях различных смыслов, кодов, поворотов образов и тем. В произведениях Г. Тукая доминирует «риторическое» (М. М. Бахтин) слово, т. е. одноголосое и объектное, непосредственно направленное на свой предмет и выражающее последнюю смысловую инстанцию говорящего137.
В отличие от русских поэтов, воспринимающих язык как средство самовыражения творческой личности, в лирике Г. Тукая, последовательно проводящего мысль о том, что поэт владеет истиной в готовом виде и может транслировать её читателям, складывается представление, что слово обладает неким независимым от конкретного человека существованием. Отсюда – обилие метонимических заменителей творческого дара: поэта сопровождают образы пера (каляма) («О перо!», «О нынешнем положении», «Размышления одного татарского поэта» и др.), нежного и печального саза («Разбитая надежда»). Г. Халит констатирует: «Тукай ведёт свободный разговор со своим вдохновением и поэзией». По мнению учёного, это свидетельствует о том, что «он достиг полновластья над своим духовным миром и творчеством»138.
В стихотворении «Хәзерге халемезә даир» («О нынешнем положении», 1905) утверждается священность Пера, которым написан Коран:
Каләм сәед дорыр руе зәминә,Сәзадер сурәтен «Нүн» дә яминә139.(А перо над миром властвует земным,В суре «Нун» Всевышний Сам клянётся им140.)Перевод С. БотвинникаПеро наделяется независимым от автора существованием, не подчинено ему, задано божественным актом и само направляет высказывания по своим предустановленным путям. Система выстраиваемых в данном тексте соответствий: Бог – перо – писатели – основывается на углублении и переосмыслении архаической партиципации-сопричастия. Являясь репрезентирующим Бога посредником, перо связывает писателей с Всевышним, поэтому каждый, кто взял в свои руки перо, становится проводником божественной воли:
Мөхәррирләр сәбәб диндә сәбатә,Ике дөнья җәхименнән нәҗатә.Болардыр дине исламның гыймады,Боларга итмәлиез игътимады.141(Крепче пишущих – у веры нет основ,В них спасение от ада двух миров…Не на них ли опирается ислам?Не они ль примером в жизни служат нам?142)Перо, которым клянётся Всевышний, является образом-эмблемой, обозначающим силу, мощь и величие поэтического слова:
Каләм гали, каләм сами каләмдер;Ходаның каүледә җае къәссәмдер.Каләм намле, каләм шанлы каләмдер,Шифадыр дәрдә, сабуны әләмдер143.(Будь, великое перо, вознесено —Вместо клятвы ты Всевышнему дано!Именитое и славное пероБоль уймёт, печали смоет, в нём – добро!144)Оно способно победить зависть, мелочность, невежество, высокомерие, которые живут в татарском обществе:
Җәһаләт таптамасын – яньчелермез,Каләмгә каршы бармыйк – чәнчелермез145.(Пусть невежды нас не топчут – ведь остроВсех перечащих ему пронзит перо146.)Эмоциональная стихия стихотворения двойственна: критический пафос сочетается с одическими интонациями, что определяет специфику выраженного поэтом лирического мироотношения.
Гимн перу («О нынешнем положении») сменяется в стихотворении «И каләм!» («О перо!», 1906) обращённой к нему молитвой-жалобой. Вера лирического героя в то, что только силой художественного слова можно излечить нацию, спасти её от унижений, вывести на «верный» путь, установить границу между добром и злом, правдой и обманом, раскрывается с помощью интонационно-ритмических средств. Спор с «чёрной судьбой», обрекающей народ на жалкое существование в «царстве косности и тьмы», определяет ценностную экспрессию вопросов:
Рәфгыйдеп Аурупаи сән гарше әгъләйә кадәр,Нә ичүн безне дөшердең фәрше әднәйә кадәр?Милләтең бу хале мәктүбме китабы хикмәтә?Монхасыйрмы ане гомре хәле мәхзүниятә?147(Ты возвысило Европу до небесной высоты,Отчего же нас, злосчастных, опустило низко ты?Неужели быть такими мы навек обреченыИ в постылом униженье жизнь свою влачить должны?148)Перевод А. АхматовойИнтонация призывных восклицаний, усиливающих ритмическую энергию стиха, выявляет могущество воли лирического субъекта, противостоящего судьбе и стремящегося создать новый мир на разумных основаниях, по законам справедливости и добра:
Яз тәгаллемләргә тәргыйб, әйлә тәкъдир къәдрене;Ит наданлыкларны тәгъриф, зәһрене яз, гъәдрене.Яз караны кара диб һәм һәм игътираф ит акны – ак,Җөпне җөп дип язмалысан һәм ушандык такны – так.Бакма һич кәс хәтеренә, милләтең дәрденә бак!Бәддога – явыз догая һәр заман асма колак.<…>Гафилез без, җаһилез – вай хәлемез, вай хәлемез!<…>Дәфгулынсын җөмлә хәсрәт, фәкърү хәкърү, мәскәнәт!149(Призови народ к ученью, пусть лучи твои горят!Объясни глупцам, как вреден беспросветья чёрный яд!Сделай так, чтобы считали чёрным чёрное у нас!Чтобы белое признали только белым – без прикрас!Презирай обиды глупых, презирай проклятья их!Думай о народном благе, думай о друзьях своих!<…>Пусть из мрака преисподней в царство света выйдем мы!<…>Пусть исчезнет безвозвратно нищеты и горя путь!150)Попытки управлять силами жизни возрождают жанровую семантику заклинания, превращая перо в единственное и универсальное орудие мироустройства.
Поэтический дар существует в человеке как некая внеположная ему стихия, на которую лирический герой Г. Тукая пытается воздействовать, к которой обращается с вопросами, призывами и т. д. Например: «Күкрәгемдә минем шигырь утым саумы?!»151 («Огонь поэзии, гори в душе моей!»152), («Поэт», 1908); «И каләм, син хакны язма, күз буя, юк-барны яз…»153 («Отныне лги, моё перо, тумань глаза и вздор мели!»154), («Отчаяние», 1910). В «Размышлениях одного татарского поэта» проявилось рефлексивное отношение к своему таланту, обладающему неким независимым от лирического субъекта бытием:
Ачы булгач күңлем, шигърем ачы чыга,Бәгъзан пешкән дип уйласам да – чи чыга;Очырмакчы булсам былбыл күкрәгемнән,Әллә ничек! – Мыр-мыр итеп мәче чыга155.(Горьким вышел мой стих, горечь сердца вбирая…Плод испёкся как будто, а мякоть – сырая.Соловья ощущаешь в груди, а на светЛезет кошка, мяуканьем слух раздирая156.)В отличие от А. С. Пушкина, считающего жизнь поэта избранническим служением («Пророк»), а пророческий дар знаком как сакральной миссии поэта, так и его сопричастности демоническим силам («Пророк», «Подражание италиянскому»), Г. Тукай придаёт художественному творчеству значение «земного ремесла» («Кечкенә генә көйле бер хикәя» [«Маленький рассказ в стихах», 1906]), которое, как и любой другой вид деятельности, надлежит выполнять добросовестно и ответственно. Творческое же призвание может проявиться в каждом под воздействием воспитания и образования: