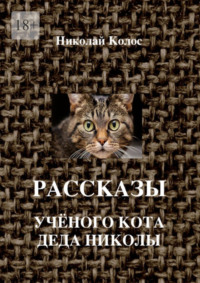
Рассказы ученого кота деда Николы
Какая бы не была взрывная кульминация совершённого действия, она ставит точку. А за точкой наступает, может быть и яркая, может быть и сладкая, но обыденность, с тупиковой фантазией повторения. – Пусть всегда процветает утро!
Однажды они пришли и увидели, что заветные веточки вербы исчезли, кто то поломал их. Возможно, коза деда Михея, водимая жаждой кому-то напакостить сорвала их и безжалостно сожрала. Странно, что эту козу не съели немцы. Но деду всегда везло. Даже бабка, после большого дедового подпития всердцах говорила: «Когда уже тебя чёрт возьмёт, чтоб освободил мою бедную душеньку?» – ушла раньше деда. Дед её похоронил и как бы на первых порах обрадовался, что некому будет его пилить. Но не позже, как через неделю опомнился, осознал своё старческое одиночество, и очень сильно загрустил. А вследствие этого – напрочь бросил пить, и обменял у своей соседки самогонный аппарат на старое ведро. Володька с Иркой, в сломанных ветках увидели плохой знак и навсегда перешли на небольшой стожок сухой отавы, что находилась недалеко, того же деда Михея. Так прошло ещё какое-то время.
Некоторые учёные утверждают, что мир состоит из плюсов и обязательных минусов. Не было бы минусов, не было бы и плюсов и наоборот. Мы не учёные и залазить в такие дебри пытаться не будем. Однако, в нашем случае, из этого следует вот что. – Если есть счастье, то есть и несчастье. И в какой-то песне говорится, что они ходят рядом. Как-то Володька шёл из колхоза под вечер. Сегодня ему выпала честь мазать серной мазью коростяных колхозных лошадей. Ещё война не кончилась и товарищ Сталин землю не раздал. Как вы знаете, он её и после войны не раздал. Навстречу шёл дед Михей и тянул на верёвке злорадное животное. Коза или упиралась, или пыталась его боднуть под зад. Коза посмотрела на Володьку таким злорадным смехом, что душа сжалась в маленький комочек. Поравнявшись с Володькой дед остановился, Володька тоже остановился. Дед крякнул, высморкался и вытер нос засаленным рукавом.
– Ты это… это вот… ты Володя… я же говорю, ты парень хоть куда… даже городская, и то… так ты вот это… – Володька похолодел.
– Что ты мычишь, дед, говори толком.
– Ну я же говорю… что ты вот это… да приехал к ней, вся грудь в орденах, это ж вот, к твоей Ирке. Там такой… только с палочкой, видно в ногу ранило. – У Володьки оборвалось сердце, но он возразил.
– Ну и что, и у нас жил раненый военный. Правда, его заграбастали потом…
– Ну нет, сынок, там дело такое… ну ты смотри… может, оно и не то, только вот тебе пятнадцать с гаком, а ей уже поди двадцать… наверное. Вон оно какое дело. Ну ты не того… – дед дёрнул козу за налыгач и пошкандыбал, сильно наступая на пятки. Не может быть думал Володька, она не может со мной так поступить. Он поравнялся с Воротами Катьки. Катька, как ждала его. В её глазах дьяволёнком играли злые и насмешливые искорки.
– Ну что сосунок? Приехал к твоей, не чета тебе. Значит от ворот – поворот – и она засмеялась. – Нашёл себе кралю, подумаешь… и Катька скрылась в глубине двора. Через несколько дворов его остановила баба Бегерыха —
– Слышь, малец, а к твоей Ирке приехал жених. Но ты не тужи, – зачем она тебе старая кляча. Он моя внучка – Оля. Уже четырнадцать лет. Как раз твоя пара. – Чувствовался дефицит мужчин. Володьку помутило, а на глазах выступили слёзы. Мир померк. Земля ускользала из под ног. Он в полнейшем замешательстве пришёл домой, а там Санька. Санька. так посмотрел на Володьку, что этим взглядом сказал и ясней, и больше всех. Это была последняя капля.
Ирка, моя Ирка! Рухнуло всё. Но у него было Эго. Раньше он не знал о его существовании и не знал на что оно способно. Но вот оно появилось, завладело его телом, его душой, его сердцем, его рассудком. Он уже не владел собой. Им владело его Эго. И оно действовало, оно совершало поступки.
Володька залез под тюфяк, схватил пистолет, положил во внутренний карман пиджака и выбежал. Он не бежал – он летел! Сейчас, через несколько минут… одного патрона хватит, чтобы разбить этот любовный треугольник и превратить его в прямую линию. Какой из углов исчезнет покажут обстоятельства.
Луна предательски зашла за тучи и ему пришлось пробираться наощупь. На небе ни одной звезды. Какие-то отвратительные мелкие твари ускользали у него из под ног. Роса мочила царапины на его босых ногах и они жгли как от серы. На знакомой тропинке кто-то бросил корягу, он об неё споткнулся и пришлось обойти через болото, закатав штаны. Где-то в роще ухала надрывно птица, а ее эхо повторяющееся много раз было похоже на демонический хохот. Эти чёртовы лягушки, со своими брачными песнями, бередили душу и напоминали ему, что он только вот сейчас потерял. О господи! Какой раньше был хороший, привлекательный и желанный окружающий мир! Но это были только иллюзии. Сейчас он его рассмотрел. Только сейчас он столкнулся с ним один на один. Вот они, те гадкие стороны, что их тщательно прячут за благостными улыбками, за ложными признаниями и фальшивой любви. Идти дальше, или не идти? К чему? Он остановился. Один патрон, всего один патрон. Володька постоял в нерешительности и всё таки пошёл вперёд. Нужно посмотреть в глаза ей и ему. Что он будет делать он не знал, но нужно посмотреть в глаза. Что в них в этих глазах? Есть ли та глубина о которой пишут все лживые книги, или только мелкая гнилая и отвратительно зелёная заводь.
Вот он возле дома. Вот она дверь. К этой двери всего три шага. Всего три мгновения, или три вечности. Вчера это были бы желаемые и приятные мгновения. Сегодня это три вечности. В них вместилась вся его жизнь и ещё тысячи жизней до него и после него. Как их преодолеть? Какая-то сила толкала его вперёд и какая-то сила удерживала. Какой-то голос шептал: «Беги, сохрани себя, завтра взойдёт Солнце, завтра будет всё по-другому, ты живёшь и Бог живёт в твоей душе в твоём теле!». – Но другой голос, какой то скрипучий, одновременно визгливый, отвратительный, громовой мощью давил уши бил в виски, пробегал дрожью по его телу, кричал, требовал, настаивал: «Иди! ты мужчина! не теряй мужского достоинства, иначе мир рухнет! отстаивай своё право! Дерись! Дерись за свою жизнь, за своё счастье! Иначе погаснет Солнце и исчезнут звёзды! Это твоё единственное счастье, другого не будет – оно приходит раз! Раз и навсегда, удержи его!».
Сердце оглушительно пулемётной очередью колотилось в Володькиной груди. Ему вторило эхо. От такого эха пульсировал весь мир. Он не помнил, через секунду, или через тысячу лет, взялся за ручку и дрожащей рукой открыл дверь. Он зашёл в дом. Он не видел ничего. Он не осознавал ничего, на какое-то мгновение, кажется, потерял рассудок. Но тут он услышал такой знакомый, такой милый и дорогой голос —
– Володя! О, Боже! Как хорошо что ты пришёл! Заходи. К нам приехал гость. Знакомьтесь. Его зовут Николай Леонидович. Это мамин двоюродный брат, возвращается после ранения в свою часть и сделал такой крюк, чтобы навестить маму. Я хотела уже бежать за тобой. Николай Леонидович завтра уезжает. – Дядя, – она обратилась к Николаю Леонидовичу, – это Володя. Мой Володя, он намного младше меня, но это мой Володя. Познакомьтесь.
Николай Леонидович встал из-за стола, подошёл к Володьке, взял его, ещё дрожащую, руку и крепко пожал. Потом обнял его дружески за талию, подвёл к столу и усадил. К Володьке постепенно начал возвращаться естественный мир. Под потолком висела керосиновая лампа, отбрасывая во все стороны фантастические тени и ждала поэта, или художника, чтобы начать с этих теней и развить умопомрачительные сюжеты. По другой стороне стола сидела Иркина мама и приятно улыбалась Володьке. Ирка стояла возле русской печки, облокотилась на припечек и тоже приятно улыбалась. На столе стояла бутылка недопитого самогона, несколько стаканов и неказистая сельская снедь. Воцарилось молчаливое благоденствие. Нарушил молчание Николай Леонидович.
– Для знакомства – по маленькой. – Володька выпил и начал приобретать дар речи. Oy чувствовал, что уже может говорить, но не находил никаких слов. Да ещё и не прошёл пережитый стресс. Выручил Николай Леонидович. Он начал рассказывать как его ранило, как попал в госпиталь и ещё разную фронтовую всячину. Но он видел что Володька это воспринимает без особого интереса. Он сидел как будто его окунули в воду, вывели из первого шока, но ещё не вынули из воды. Николай Леонидович поменял тему.
– Давай напрямую, герой. Тебе племянница моя нравится? – Вижу, что нравится. Не упусти. Ладно. Вам с нами не очень интересно. Даю вам увольнение. Тебе, Володя, до завтра, А племяшке – на три часа. – Идёт? Вижу, что идёт. Идите посчитайте звёзды, потом расскажете. – Володьке показалось, что он ему подмигнул. Но это, наверно, только показалось.
Как только они оказались на улице плотина прорвалась! Не успели закрыть дверь. как Володька с жадностью голодного дикаря, с напором льва, с любовной яростью тигра, до излома костей прижал к себе Ирку и впился губами в её губы. Он высасывал её влагу. он чувствовал её язык, ноздри улавливали дурманящий запах, тот запах, что может уловить и отличить только влюблённый, тот запах, что будет в памяти десятки лет и будет чудиться за сотни километров. Всё поплыло, всё кружилось, потом всё исчезло и остался единственный мир. Мир чувств и осязаний. Вот она эта грудь, своей упругостью прижалась к телу, вот оно это сердце, что трепещет с той же амплитудой, что и Володькино сердце, с амплитудой земли, Солнца, звёзд и всего Мироздания. Вот оно единое целое, что воссоединилось из двух половинок, ищущих и страдающих. И ничего больше не нужно. Да разве может быть что-нибудь большее, кроме полноты ощущения этой радости и счастья. – Нет! – Всё остальное мелочь! Потому, что всё остальное – только фон. Бледный фон, чтобы увидеть как ярко вспыхнула звезда воссоединения двух любящих сердец. И не для кого-то. Нет! Только для них одних. Володька обнимал и с радостью осознавал. Что всего полчаса назад он это сокровище потерял, потерял, может быть, со своей жизнью, а сейчас нашёл, и нашёл навсегда. Навсегда!
Послушное тело Ирки угадывало его все желания, и повиновалось им. Она только шепнула —
– Пойдём на сеновал. На наш сеновал, что приготовил дед Михей. – На сеновале те же объятия, К Иркиному запаху присоединился запах сена, что было сверх естественно. Его рука прикоснулась к её груди, к обнажённой груди, он припал к ней губами. Его рука впитывала наощупь всю прелестную красоту девичьего тела. О, господи! Как можно было создать такое совершенство?! По мере движения руки Володьку охватила нервная дрожь. Дрожало и Иркино тело. И вот лоно! Вот оно лоно! Сто молний вспыхнули в Володькиной голове. Застонала Вселенная. Он сделал какое-то движение и провалился. И ничего не помнил. И, как бы уходя от действительности, он ничего не понимал. Он ощущал только безграничное счастье. Проснулся он от Иркиного поцелуя.
– Проснись милый. Уже поздно. Иди домой. Не провожай меня, здесь рядом. Теперь я – твоя, а ты – мой. Мой! Мой! Мой! И никто и ничто никогда не разлучит нас.
Какая прекрасная жизнь! Какая прекрасная земля! Небо очистилось от туч и необъятный звёздный свод раскинулся от горизонта к горизонту. И говорил он: «Смотрите, это я создал глаза, чтобы вы видели меня, это я создал ум, чтобы вы осознали меня. Это я вашими глазами вижу себя, а вашим умом осознаю себя, потому, что я и вы это одно целое. Серпастая Луна зарумянилась и зацепилась за далёкий стог сена, а вокруг ореол сияет голубым серебром. Вдали дома на сереющем небесном фоне растянулись в одну линию и только вербы возвышаются над ними как сторожевые башни. Точно также из-под ног убегают травяные лягушки, но уже с приятным шуршанием и с приятной прохладой прикасаются к босым ногам. А водяные лягушки, что три часа назад так неприятно квакали, вдруг стали исполнять прекраснейшую мелодию, мелодию продолжения жизни. Уже взлетели жаворонки, повисли над лугом и их серебристый голос оповещал о приближении утренней зари. Какая прекрасная жизнь! Скорее бы, скорее бы вечер, которого они с Иркой так боялись, а теперь так жаждали. Как переждать день? Как?
Идя домой, в таком прекрасном расположении духа, Володька почувствовал что какая то тяжесть оттягивает ему карман. И только сейчас осознал, что с ним пистолет. Как он его сейчас возненавидел, И возненавидел себя, что ещё недавно таскал для Бориса с гордостью автомат.
Как можно других лишать такой прекрасной жизни? Он вынул пистолет, нажал на рукоятке кнопку, вытащил чуть выпрыгнувший магазин с единственным патроном, думал он, и швырнул его в бурьян. Он хотел тут же выбросить и пистолет, но подумал – нельзя рядом, кто то найдёт и будет стрелять. Двадцать шагов до канавы с водой туда он его и швырнёт. Какая прекрасная жизнь! А есть дураки, что сами себя лишают этой жизни. У них, наверное, никогда не было Ирки. И, смеясь над ними, он захотел их передразнить – это они делают вот так. И он поднёс ствол пистолета к своему виску. Он был твёрдо уверен, что патрон выбросил вместе с магазином и нажал на курок.
Серп луны вдруг перевернулся и куда то улетел. Весь небесный свод вспыхнул вначале голубым, а потом ярко красным огнём и поглощал сознание. Языки его пламени нарисовали большой силуэт Ирки и безжалостно сжигали её. Остались только глаза, вначале пронзительные, потом печальные глаза. Их огни сжигались последними. Исчезли и они. Красный огонь вновь превратился в расплывчато-голубой, потом в серый, потом в чёрный. Над лугом висели жаворонки, их красиво печальные трели неслись над полями и что-то рассказывали миру… И ещё тысячи лет что-то будут рассказывать миру…
Стояли двое, или естественная зависть
На тротуаре, недалеко от автобусной остановки, с очень устойчивым запахом бензиновой гари, где раньше стояла передвижная тележка – (не автомат) и торговали газированной водой – сейчас пустое место.
Немного уйду от темы. Сейчас вряд ли кто-то помнит автоматы по продаже газированной воды. – Это мастодонт, чуть выше человеческого роста со своеобразной печуркой посредине лицевой стороны. В печурке стоял стакан, была мойка и было две щелочки для мелочи. Бросишь три копейки – прольётся стакан воды с сиропом, бросишь одну копейку, тот же стакан, но без сиропа. Не утолил жажду – можешь повторить хоть десять раз. Нальёт! В трёхкопеечную щелочку еще можно было воткнуть и двадцать копеек. Они оказались одинаковыми по габариту.
В городе, где я живу таких автоматов было штук сто. Город южный – пить хочется. Но, залезаешь в карман, а там нет ни одной трехкопеечной, или копеечной монетки! И ни у кого не выпросишь, и даже не разменяешь. Всем хотелось пить и не один раз за целый божий день! А вот двадцульки в кармане почему-то водились. Если очень хочется пить, то та щелочка что под три копейки охотно принимала и двадцать копеек. Но это была бандитская щелочка, потому что она выдавала не почти семь стаканов воды, как полагалось при честной советской торговле, а только один. И хоть куда жалуйся! Хоть к прокурору пойди – ничего не поможет. Знал, что даст один – не провоцируй сам себя!
Наша художественная мастерская продовольственного ОРСа была в одном здании с мастерскими по обслуживанию торговых автоматов. Мы заходили друг к другу поделиться сплетнями, или просто посмотреть кто что делает.
В 11 часов вечера, три мужика на мотороллерах объезжали автоматы по прдаже воды и изымали медь, как они говорили. Потом их считали тоже автоматическим счётчиком. Но прежде чем загрузить медь в счётчик, ребята вручную отсортировывали монетки достоинством в 20 копеек. Потом по честному (а иначе не могло и быть, так как мастодонт тоже считал количество монет в чрево его вложенных, и выдавал сведения кому следует), меняли двадцульки на трёшки.
После честной делёжки, с кем следует, у каждой троицы оставалось маржи, или как тогда считали навару – рублей по тридцать ежедневно. Умножьте на сто двадцать жарких дней и получалось 3500 рублей левых. Два года и ребята покупали автомашины. Но их больше двух лет не держали. После двух лет эту должность получали уже другие, приближённые к кому следует люди, желающие купить машины.
Извините за отклонение. Потомки должны знать как жили предки при развёрнутом социализме, строящие этот социализм.
Теперь о пустом месте на асфальте.
Оно не только пустое, а дважды пустое – потому что кусок не заасфальтированного тротуара, по абрису, когда-то стоявшей газовой тележки. (Но не автомата – Была продавщица) – Один метр – на полтора, если не быть совсем точным! Тележка не стоит уже давно – и, вследствие, по кромке её бывшего абриса пробивается худосочно лебеда и другой трудно узнаваемый бурьян никем не жалуемый. Сейчас, вместо когда-то вожделенной тележки, стояли двое. Прохожим не мешали. – Заняли, что неудобное для движения прохожих место. Ушлые!
Один – высокий худощавый с длинной шеей и огромным кадыком одет в клетчатую рубашку. Рубашка с чужого плеча и на чужом плече носилась долго. – Сейчас свисала рукавами, явно не родной руки, как у подбитой вороны крылья. Клетчатая материя скрашивала… скорее скрывала телосложение (если кто им интересуется) худосочного товарища, (тогда мы все ещё были товарищи), и определить – насколько тело лишилось былого жира и былых мышц, если даже они когда-то были – невозможно.
Зато, когда-то белая соломенная шляпа хоть и почерневшая и пожелтевшая от времени – одета по молодецки, набекрень! – Ухарь!
Широко открытые бесцветные глаза, близко посаженные друг к другу, не таились в глубине за крючковатым носом, а так и бегали туда-сюда. Живые!
Когда он о чём-то повествовал, то выпирающий кадык, в своём диапазоне, совершал вертикальные движения – то опускался, то поднимался. Не заметить его невозможно. Он полностью овладевал вниманием визави и никакая шляпа, и никакая рубашка не могли поспорить с этим анатомическим отростком, и хоть на мгновение, привлечь к себе внимание шляпным, и рубашечным гардеробом.
Звали человека Оглобля. По крайней мере – сейчас. И звали вполне законно. – Мельком взглянуть на фигуру, то кроме оглобли поставленной вертикально, ни с каким другим предметом, знакомым широкой публике, сравнить было невозможно – если смотреть в фас. А вот, если в профиль – то оглобля превращалась в коромысло, только сильно покрученное жизненными невзгодами.
На какие средства Оглобля жил никто не знал, и вряд ли кто-то интересовался. А он никому и не рассказывал. – Ни к чему! Но раз жил – значит средства, пусть самые маленькие, время от времени, у него крутились. Отсюда и бутылочка пива. А иначе – за что?
В те времена развитого социализма – (за что кто-то жил), могли заинтересовать лишь работников ОБХС и милиции. А им не до Оглобли! Были типажи и покруче. – Скажем, – заведующие мясными отделами гастрономических магазинов, а то и директора вожделенных магазинов, и не только гастрономических. – Поле деятельности широчайшее! А с Оглобли – что возьмёшь? Живёт человек – и пусть живёт! Если ты не дразнишь никаких собак, и никого не провоцируешь укладом своей жизни, то и ОБХС не было никакого дела до твоей жизни! Ползай по намеченному тобой кругу и благоденствуй! Сорвал где-то пару копеек, купи бутерброд, а нет то и так уснёшь. Нужно лишь было лавировать как эквилибристу на натянутом канате социализма, чтоб не угодить за тунеядство! Тунеядство – слово древнее, церковное. Откуда оно пришло на Русь – пока в процессе исследования. Мы так полагаем, что ни один не тунеядец, в хорошем понимании такого нетунеядского слова, напишет не одну диссертацию чтобы получить звания научного сотрудника, а то и профессора! И напишет! – Время такое – быть профессором престижно. Научный сотрудник, хоть какой (главное, чтоб знали что он научный сотрудник) мог подходить не к пустому мясному прилавку в торговом зале, а спускаться прямо в подвал, где это самое мясо хранится, и, уже без заискивания, с гордо поднятой головой советского гражданина, купить килограмм говядины.
Но мы отвлеклись.
Сейчас Оглобля держал в руках бутылку пива и отпивал из неё маленькими глотками. Растягивал удовольствие. После каждого глотка поглядывал на бутылку. Решал – то ли, сколько он уже отпил, то ли, сколько ещё осталось! При этом он, чтобы лучше увидеть, подымал бутылку вверх, закрывал один глаз, чтоб не мешал другому, ориентируемому на заходящее солнце, и через густой зеленый цвет пивной бутылки, и недопитого в ней пива оценивал на какую сумму выпил, или на какую ещё предстояло выпить, то ли оставить на завтра. Солнце – оно и в жизни Оглобли имело решающую, или оценочную роль. Конечно – Солнце летнее от Солнца зимнего отличалось. – Ещё бы! – Однако, после ревизии содержимого бутылки – выражение лица его не менялось. – Сфинкс!
Его визави, стоявший рядом – то ли друг, то ли просто проходящий мало знакомый, был чуть пониже, но гораздо плотнее! Оглоблей его, ну никак нельз назвать! – Явная противоположность! Скорее всего – колобок, к которому внизу воткнули два чуть отёсанных бревна и назвали ногами, а вверху приспособили ещё один, но гораздо мельче колобок! В этом приспособленном сверху колобке – (все знают как он называется), наметили расплющенный носик и узенькие, как прорезанные ножичком колючие глазки, с огромными мешками под ними. И ещё провели горизонтальную чёрточку под носом, чтоб назвать такую чёрточку – ртом. Шутники говорили – совсем русский!
Колючие глазки чуть спрятались под козырьком огромной грузинской кепи, чтоб не были, на любой взгляд, колючими. (Кепи, если он купил, то очень давно, но скорее она досталась от прежнего узкоголового мужа его теперешней жен., Из за того на колобок она не налазила, а лишь держалась сверху). Но как у Оглобли шляпа – кепи на колобке, одета набекрень, Такой же ухарь! – Родство душ.
Звали колобка – Хромой. Подтверждение тому служила палка, – на неё он опирался. Палка сверху до низу орнаментирована резными листьями несуществующего дерева, вырезанными, на скорую руку! На произведения искусства она не тянула. Мастером, резчика упомянутой палочки, можно назвать лишь условно! Резчиком был сам Хромой, и это говорило о том, что он мог хоть что-то немного изящное делать своими руками.
Если Оглобля обладал бутылкой пива, то Хромой стоял насухую. Правая рука опущена по швам и… как замерла. Зато левая шевелилась в кармане его собственных суконных брюк и производила там чуть ли не ритмические движения! Возникало впечатление, что он в слепую считал в кармане мелочь, определяя, хватит ли на бутылку пива. А если рука не покидала карман – то явно мелочи на бутылку пива не хватает! Рука не покидала карман ещё и потому … (предположительно), чтоб Оглобля видел – в кармане-то Хромого что-то есть, (всё таки!) и при благоприятных условиях можно бы сыграть в складчину!
Хромой гладко выбрит – и брился он перед зеркалом! В том не могло быть никаких сомнений. – Ни одного не добритого волоска на лоснящейся, красной, как борщовой буряк физиономии! А вот на счёт Оглобли – то побрит он полянами. Брился сам тупой и уже ржавой бритвой. При чём – без зеркала. А без зеркала, бритва так и норовит оставить порезы. Сущие пустяки! – Для Оглобли – мелочь!
На Хромом рубашка своя, но смотрелась тоже как с чужого живота. Она сильно обтянула грудь и живот. Пуговицы от натяжения чуть ли не обрывались. Междупуговичное пространство изображало на груди полу-дуги. Они напоминали листья вездесущей лебеды, и оттуда нахально выпирал седеющий волосяной покров. Грудной волосяной покров делал хромого солидным. По цвету он, чем-то напоминал его кепку. – Работал стилист – не иначе! – Природный.
Возраст, каждого шагнул далеко за тридцать, но не дотягивал до шестидесяти – не пенсионный. А жаль! – Каждый имел бы хоть маленькую, но копеечку!
По какому случаю они сошлись – им было до лампочки! Шли и остановились. Сейчас просто стояли! Прохожим не мешали – и хорошо!
Солидные мужчины, (а они себя считали таковыми), то и мы будем их так называть, были заняты обсуждением бочкового пива, что наливали в стеклянные специальные полулитровые бокалы предназначенные только для пива. Каждый бокал продавщицы норовили продать с высокой шапкой пивной пены! Все знали, что за счёт пены им не доливают грамм пятьдесят вожделенного пойла. Однако, так приятно было сдуть скраешка бокала шипящую подушку и добраться губами до желанной золотой жидкости. Поэтому маленькую погрешность киоскёршам прощали.
Прощали ещё и потому, что, именно на этом месте, довольно упитанная, (её собственное дело!), косившая одним глазом, вечно улыбающаяся клиентам, Марфа Лазаревна, к пиву подавала и сушёную рыбку за дополнительную плату. Таким сверх нормативным сервисом во времена развёрнутого социализма, она привлекала дополнительных покупателей. И возле киоска вечно толпилась очередь любителей пива, человек из трёх – четырёх.
В пивном киоске, по социалистическим нормам, торговать другой, будь какой продукцией, запрещалось. – Пивной киоск – пивом и торгуй – и никаких гвоздей! – Понимаешь ли! Так можно во что угодно превратить! – Киоск – то…
Но она – (потому и Лазаревна, что знала, где и как можно немножечко, без вреда развёрнутому социализму обойти его, или немножечко отодвинуть в совсем маленькую сторонку!). До открытия ларька Лазаревна успевала сходить на рынок и у специальных людей из подполы купить маленькие сушёные рыбёшки. (Специальные люди, торговавшие рыбёшкой, тоже знали как не столкнуться лбами из развёрнутым социализмом!). Из подполы потому, что на рынке тоже запрещалось торговать маленькими сушёными рыбёшками – (ведь это ростки капитализма!), а в магазинах их не было. Вот не было – и баста!