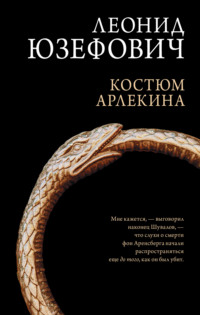
Костюм Арлекина
– Ну-ка, ну-ка, – заинтересовался Певцов. – Покажите!
Он внимательно осмотрел руки болгарина, выискивая след укуса.
– Да, есть силенка.
И повел его к стоявшей у подъезда карете.
Больше не было сказано ни слова, а Иван Дмитриевич, раз на то пошло, не обмолвился ни про беседу с камердинером, ни про сундук. Между тем поговорить надо было, сундук того стоил. Не слишком большой, но прочный, с обитыми медью боками и крышкой, намертво привинченный к полу по всем четырем углам, он стоял в кабинете; князь хранил в нем свои бумаги. Осмотрев это вместилище военных и дипломатических тайн Австро-Венгерской империи, Иван Дмитриевич убедился, что сундук пытались открыть без ключа. Возможно, каминной кочергой – на ней обнаружились свежие царапины. Медь у краев крышки была помята, но ни на самом сундуке, ни поблизости пятен крови отыскать не удалось. Очевидно, его пробовали взломать еще до возвращения князя из Яхт-клуба.
Певцов с болгарином уехали, а на смену им прибыл Шувалов. Его сопровождал секретарь австрийского посольства с двумя лакеями, которые вытащили из кареты и пронесли в спальню какой-то длинный ящик. Иван Дмитриевич не сразу сообразил, что это гроб.
Секретарь деловито рассказывал Шувалову, что сегодня же гроб законопатят, зальют щели смолой, как в холеру, затем через особую дырочку отсосут изнутри воздух, чтобы замедлить тление, забьют дырочку пробкой и по железной дороге Петербург – Варшава – Вена отправят тело князя в родовое поместье.
Когда гроб вынесли, Шувалов приказал Ивану Дмитриевичу:
– Подайте чернильницу!
Он был прикован к своим ежечасным докладам государю, как раб к веслу галеры. Взмах, еще взмах. В промежутках не оставалось времени сообразить, куда движется судно.
Жирная клякса упала с пера на доклад и растеклась по государевой титулатуре.
– Черт! – Шувалов нервно скомкал бумагу и смахнул ее на пол.
Иван Дмитриевич прошел в кабинет фон Аренсберга, взял со стола другой лист и вернулся.
– Что вы мне даете? – рассердился Шувалов. – Разве можно подавать доклад государю на такой бумаге? Она пожелтела от старости!
– Долго на свету пролежала, ваше сиятельство.
– Так зачем вы ее мне принесли?
– Показать, что покойный не часто предавался письменным занятиям.
– Не занимайтесь пустяками, господин Путилин! Я и без вас знаю, что ни стихов, ни романов князь не сочинял. Поймите: если мы до завтра не схватим убийцу – такие головы полетят, что уж вам-то на своем месте точно не усидеть. Или вы снова хотите стать надзирателем на Сенном рынке?
Свою полицейскую карьеру Иван Дмитриевич начал с должности помощника квартального надзирателя на Сенном рынке, и сейчас угроза шефа жандармов не столько напугала, сколько щекотнула самолюбие. Лестно было, что сам всемогущий Шувалов посвящен в подробности его биографии.
– Я хотел бы осмотреть содержимое этого сундука, – сказал Иван Дмитриевич.
– Я тоже, – усмехнулся Шувалов. – Но нет ключа.
– А у камердинера спрашивали?
– Он не знает. Мы с Хотеком весь кабинет перерыли и не нашли.
Шувалов пошел к столу, взял из середины бумажной стопки свежий, не пожелтевший лист, опять обмакнул перо и опять выругался: вместе с чернильной капелькой на пере повисли останки утонувшей в чернильнице мухи. Иван Дмитриевич осторожно снял их двумя листиками, сорванными с лимонного деревца в кадке, и Шувалов начал писать: титулатура, несколько строк, в которых свободно уместились все немногочисленные новости. Иван Дмитриевич тем временем еще раз оглядел сундук. На передней стенке изображены были Адам и Ева. Еще безмятежные в своей наготе, они стояли по обе стороны древа познания Добра и Зла, между ними лежало в траве яблоко, обвитое чешуйчатым черным телом Змея-искусителя.
Иван Дмитриевич подумал, что тяга мужчины и женщины друг к другу есть лишь частный случай закона всемирного тяготения, и Ньютон никогда не открыл бы его, если бы на голову ему упало не яблоко, а, скажем, груша.
Он перевел взгляд на чернильный прибор – и ахнул: Господи, как же раньше-то не заметил! Чернильница представляла собой бронзовое яблоко, уже, видимо, надкушенное, поскольку стоявшие справа и слева от него прародители человечества, тоже отлитые из бронзы, теперь прикрывали срамные места неловко изогнутыми руками. Эпоха неведения, чья последняя роковая минута запечатлена была на сундуке, миновала, видимо, только что. Ева как-то неумело, неестественно держала чуть окисленную, позеленевшую ладошку, загораживая ею низ живота, еще не сознавая волшебной силы этого жеста, отшлифованного с тех пор миллионами купальщиц.
Иван Дмитриевич двумя пальцами сжал чернильницу, повернул и несколькими круговыми движениями легко вывинтил ее из доски. В углублении под ней блеснул ключ с прихотливой бородкой, с массивным кольцом, вырезанным в виде змеи, кусающей себя за хвост.
– Занятно, – сказал Шувалов.
И опять же лишь сейчас Иван Дмитриевич понял, почему замочная скважина на сундуке помещена в центр большой алой розы с блестящими, как бы влажными лепестками. Он ввел ключ в узкую темную щель, обрамленную их бесстыдной краснотой, думая: что-то родится из этого соития? Замок щелкнул, Иван Дмитриевич откинул крышку.
Шувалов уже стоял рядом, заглядывая через плечо. Они увидели шпагу с золотым эфесом и вделанными в гарду часами; ордена на подушечках; маленькие, в каких держат драгоценности, коробочки; футлярчики, кипу ассигнаций и десятка полтора стопок с письмами, аккуратно перевязанных шелковыми ленточками.
«Людвиг, мой бородатый шалунишка, – успел прочитать Иван Дмитриевич, – сегодня я целый день…»
– И все от разных женщин, ваше сиятельство, – сказал он. – Видите, ленточки разных цветов. И цветá, я думаю, не случайно подобраны. С возрастом холостяки становятся сентиментальны, как барышни.
– Дайте ключ, – приказал Шувалов.
Он захлопнул крышку, закрыл сундук, положил ключ в карман и двинулся к выходу, повелительно бросив на прощанье:
– Вечером я буду у себя, приедете с докладом.
Стоя в эркере, Иван Дмитриевич наблюдал, как, отъехав от крыльца, шуваловская карета остановилась в конце квартала, где за четверть часа перед тем телега ломового извозчика впоролась в фургон с гробом князя фон Аренсберга. Там толпились и галдели зеваки, ругались кучера, но вот подъехала карета шефа жандармов – и разом всё стихло. Так усмиряются бушующие морские валы, когда с корабля выливают на них масло из бочонков. Сквозь двойные стёкла закрытого окна Иван Дмитриевич ощутил на лице ледяное дуновение власти. Хозяин требует службы, начальник – повиновения, а настоящая власть, вершинная, уже ни в чем не нуждается, кроме одного: только бы помнили о ней всегда, в каждую минуту жизни. Подлинная власть похожа на любовь: забыл о ней – значит, изменил.
Смерть фон Аренсберга потому и устрашала многих, что убийцы, задушив иностранного дипломата в двух шагах от Зимнего дворца, будто начисто позабыли о существовании этой власти. В такое трудно было поверить. Не бывает такого, тем более в России. Нет, думал Шувалов, преступники ничего не забыли. Помнили, голубчики. Еще как помнили! Потому и убили.
3Велев кучеру остановиться, Шувалов распахнул дверцу кареты и поманил к себе посольского секретаря, сопровождавшего тело фон Аренсберга:
– Господин секретарь, прошу вас передать это лично графу Хотеку…
Змея обвилась вокруг его указательного пальца, ключ от княжеского сундука на секунду повис над толпой, затем упал в ладонь секретаря. Стоявший неподалеку человек в чиновничьей шинели проследил за ним быстрым цепким взглядом.
– Да, – вспомнил Шувалов. – Будьте любезны назвать мне ваше имя.
– Барон Кобенцель.
– Кобенцель?
– Сказать по буквам, ваше сиятельство?
– Кобенцель, Кобенцель… Вы никогда не были мне представлены?
– Не имел чести.
– Откуда же я знаю эту фамилию?
– Один из моих предков приезжал послом из Регенсбурга в Москву, к Ивану Грозному. Он упоминается у Карамзина.
Шувалов сразу потерял к собеседнику всякий интерес. Он простился и уехал, фургон с телом покойного тоже готов был двигаться дальше, но в эту минуту, впервые за день, из-за облаков проглянуло солнце. Блаженно зажмурившись, Кобенцель подумал, что сопровождать гроб в посольство ему вовсе не обязательно, лакеи справятся и без него. Он сказал им, чтобы продолжали путь одни, а сам не спеша пересек Дворцовую площадь и под аркой Главного штаба вышел на Невский. Опасаться кого-то среди бела дня ему и в голову не приходило. Он не замечал, что какой-то человек в чиновничьей шинели неотступно следует за ним.
По обеим сторонам проспекта текла нарядная толпа, никто здесь не думал о смерти князя фон Аренсберга. Жизнь продолжалась, через полсотни шагов из распахнувшейся перед самым носом двери кондитерской соблазнительно повеяло ароматом жареного кофе. В окне Кобенцель увидел крошечный зальчик, обставленный в немецком курортном стиле. Он вошел. За тремя из четырех столиков сидело по паре, за четвертым – хорошо одетый мужчина средних лет с породистым витиеватым носом. Это был агент Левицкий, посчитавший ниже своего достоинства отправиться прямо туда, куда командировал его Иван Дмитриевич. Он прихлебывал горячий шоколад с таким наслаждением, что Кобенцель, сам вообще не способный испытывать сильные чувства, ему позавидовал.
– Прошу вас, мсье. – Левицкий королевским жестом указал на стул напротив себя.
Кобенцель сел, заказал кофе с пирожным, попросил у хозяина лист бумаги, достал карандаш и со смешанными чувствами, среди которых преобладало, пожалуй, смутное удовлетворение, начал набрасывать письмо жене, уехавшей на Пасху в Вену. Когда-то у нее был роман с Людвигом фон Аренсбергом, и теперь, ни о чем, упаси боже, не напоминая, хотелось выразить ей соболезнования таким образом, чтобы она оценила его, Кобенцеля, великодушие.
– Письмо, написанное карандашом, подобно разговору вполголоса, – улыбнулся Левицкий.
– Это русская поговорка? – спросил Кобенцель.
Левицкий рассмеялся:
– Вы иностранец?
– Да.
– Но ваш русский язык превосходен.
– Благодарю за комплимент. Дело в том, что наша семья вот уже триста лет связана с Россией. Один из моих предков был послом Священной Римской империи при дворе Ивана Грозного.
– О-о! – заинтересовался Левицкий. – А знаете ли вы, отчего он умер?
– Существует легенда, будто царь приказал гвоздями прибить ему к голове шляпу, когда он отказался снять ее перед царским троном. Но это ложь, это всё поляки выдумали.
– Поляки? Почему поляки?
– Из политических соображений. Чтобы поссорить Москву с Веной.
– Вот как? Любопытно… Впрочем, я спрашивал не о нем.
– О ком же?
– Об Иване Грозном. Вам что-нибудь известно о причинах его смерти?
– Я читал Карамзина, – скромно сказал Кобенцель.
– Карамзин всё врет, – заявил Левицкий. – Вот я вам расскажу…
Человек в чиновничьей шинели, сидевший за угловым столиком, осторожно косил в их сторону, прислушиваясь к разговору.
– Однажды, – рассказывал Левицкий, – когда царь за обедом поел много жирного, Борис Годунов предложил ему сразиться в шахматы. Сели играть. А Борис, как брюнет, был человек хитрый, это исторический факт. Он, видите ли, завел себе такую манеру: за коня, например, возьмется, подержит, в затылке им почешет, потом передумает – и пойдет слоном. Это, конечно, против правил. Ну, царю в конце концов надоело, он говорит: «За кого взялся, собачий сын, за какую фигуру, ею и ходи!» Годунов ровно и не понимает: «За кого взялся?» – «За коня!» – «Не брался, государь…» Нарочно гневит его, из себя выводит. Царь, натурально, в амбицию: «С кем споришь, холоп? Ходи конем!» Годунов не уступает: не брался, и всё тут. Божится, бестия, будто даже пальцем до этого коня не дотронулся. Врет в глаза, да еще на свидетелей кивает: они, мол, подтвердят, всю правду скажут. А бояре, что за игрой смотрели, то были годуновские сообщники, вместе в заговоре. Они на коленки попадали, лбами об пол стукаются, вопят: «Не вели, государь, казнить, поблазнилось тебе! Не брался он, Бориска-то, раб твой, за коника!» Царь аж затрясся весь. Глаза выпучил, ка-а-ак закричит: «Ходи конем!». Тут ему в голову кровь ударила, захрипел – и помер. Обычное дело в таком возрасте, к тому же после жирного.
Кобенцель молчал. Он не знал: то ли нужно порадоваться гибели тирана, то ли осудить способ, каким заговорщики довели его до смерти.
– Вот это я понимаю, чистая работа, – сказал Левицкий. – Не то что ночью в постели подушками душить.
– Вы… Вы имеете в виду князя фон Аренсберга?
– Он, правда, в шахматы не игрывал, не по его характеру. Но картишки очень даже любил. И азартен был, мир его праху! Если бы на него умного шулера подобрать, можно было до сердечного удара довести. Дали бы этому шулеру сотенок пять, он бы уж расстарался. А убийцам небось многие тысячи заплатили. Не знают люди цену деньгам, ей-богу!
Письмо жене Кобенцель так и не написал, но уже не хотелось дольше оставаться за этим столиком. Он расплатился и вышел в вестибюль. Потоптавшись там, нерешительно приоткрыл какую-то дверь, в надежде, что за ней окажется отхожее место. Оттуда пахнуло сыростью, мрачная лестница с выщербленными каменными ступенями вела куда-то вниз, в темноту.
Вышедший вслед за ним человек в чиновничьей шинели спросил:
– Вам в нулик-с?
– Да, – смущенно покивал Кобенцель.
– Это здесь.
– Как-то, знаете…
– Пойдемте, я вас провожу.
Могильным земляным холодом тянуло из подвала и ничем больше. Принюхиваясь, Кобенцель в нерешительности застыл у порога, как вдруг почувствовал, что незнакомец приблизился вплотную и со странной настойчивостью чуть ли не подталкивает его к лестнице. Стало страшно. Кобенцель отскочил в сторону, толкнул стеклянную дверь с колокольчиком и выбежал на шумный, залитый солнцем проспект.
4Задумавшись, провожая взглядом шуваловскую карету, Иван Дмитриевич стоял у окна, когда в гостиную без стука вошел сыскной агент по фамилии Сыч. Шел он, пританцовывая, и загадочно улыбался, словно приготовил начальнику приятный сюрприз. Следом ввалился полицейский с мешком, который он опасливо держал перед собой на вытянутых руках.
– Важнейшая, Иван Дмитриевич, улика! – сияя, сказал Сыч. – Газеточку позвольте.
Он взял верхнюю из целой кипы только что доставленных для князя свежих газет, хотел положить ее на стол, но почему-то передумал и расстелил на крышке рояля. Затем скомандовал своему спутнику:
– Давай!
Полицейский развязал мешок, пристроил его устьем на газете и бережно, слегка встряхивая, поднял. На рояле осталось лежать нечто круглое, желтовато-синюшное, жуткое, в чем Иван Дмитриевич не сразу признал отрезанную человеческую голову. Он прикрыл глаза. Горло перехватило спазмом, из которого отрыгнулось жгучей рвотной кислятиной.
– Вот она, Иван Дмитриевич! Нашли, – со сдерживаемым ликованием объявил Сыч.
На его тощей усатой физиономии читалось радостное сознание исполненного долга.
– Ты зачем ее сюда притащил, болван? – заорал Иван Дмитриевич, с трудом одолевая стоящую в горле дурноту.
Сыч погрустнел:
– Эх! Думал, порадую вас…
– Да я тебе кто? – взвился Иван Дмитриевич. – Ирод, что ли? Чингисхан? Дракула?
Голова покоилась на газете лицом к окну – маленькая, темная, сморщенная, с надорванным ухом, окруженная со всех сторон равнодушно-величественной гладью рояля, невыразимо жалкая в своем посмертном одиночестве, где ее лишили даже тела, – и вызывала не ужас, не брезгливость, а то чувство, какое покойная теща Ивана Дмитриевича пыталась развить в его жене, когда отрывала у ее кукол ручки и ножки.
Сыч между тем рассказывал, как сегодня в шестом часу утра полицейские, проходя Знаменской улицей, возле трактира увидели на земле эту голову, подобрали ее и отнесли в участок. Там она и пролежала без всякой пользы, пока не попалась на глаза ему, Сычу, зашедшему туда совершенно случайно.
– Ну а сюда-то ты ее для чего приволок? – устало спросил Иван Дмитриевич.
– Толкуют, австрийскому консулу голову отрубили. Думал, она.
– Кто толкует?
– Народ.
– Где?
– Везде. Я, к примеру, от водовоза слышал.
Иван Дмитриевич вздохнул. Да-а! Еще фонарей не зажгли – а молва уже весь австрийский дипломатический корпус под корень извела: посла, дескать, зарезали, консулу голову отрубили. Приказчик табачной лавки, куда Иван Дмитриевич выбегал купить табаку, доверительно сообщил ему, что австрияков студенты режут. Зачем? Приказчик и это знал: чтобы наш государь с ихним королем поссорились. Начнется война, государь уедет из Питера со всем войском, тогда студенты и забунтуются. Черт-те что!
Неужели кто-то сознательно распускает такие слухи? Иван Дмитриевич покосился в сторону рояля. Вестницей надвигающегося хаоса казалась эта голова. Рассматривать ее не хотелось, но краешком глаза он отметил все-таки, что мужская, с бородой и усами.
– Забери ее. Вместе с газетой, – велел Иван Дмитриевич и спохватился: – Нет, обожди. Говоришь, на Знаменке возле трактира нашли?
– Да.
– Там их много. Возле какого?
– «Три великана», Иван Дмитриевич.
– Забирай и покажи половым. Если признáют, сразу мне доложишь.
– Слушаюсь.
Полицейский, всё это время не проронивший ни слова, раскрыл мешок и прижал его одним боком к роялю, а Сыч, не касаясь мертвой головы, на газете начал подтягивать ее к краю рояльной крышки, чтобы затем уронить прямо в мешок.
Когда наконец она туда упала, Иван Дмитриевич вынул из бумажника наполеондор, найденный под княжеской кроватью, и на ладони протянул его Сычу.
Тот расплылся в счастливой улыбке:
– Это мне? Ох, Иван Дмитриевич, балуете вы меня!
– Шиш тебе! Разбежался.
– Чего тогда дразните?
– Ты посмотри на нее хорошенько, чтобы запомнить. Это французская золотая монета, на ней император Наполеон Третий… Запомнил?
– Ну, – скучным голосом сказал Сыч.
– Значит, так, – распорядился Иван Дмитриевич. – Двигай на Знаменку, а как с головой разберетесь, пойдешь по церквам, поспрашиваешь, не заказывал ли кто заупокойный молебен отслужить на такую денежку.
Потом он прошагал к двери, распахнул ее и позвал:
– Константино-ов!
Тот слонялся по коридору в ожидании, когда любимый начальник сменит гнев на милость, и явился мгновенно.
– Видишь? – показал ему Иван Дмитриевич всё тот же наполеондор.
– Вижу. Не слепой.
– Ты чего так отвечаешь? Обиделся, что ли?
– А вы как думаете! Я вас тут с утра караулю, не жрамши, а вы меня ни за что ни про что из-за стола выгнали.
– Ладно, сочтемся. Ступай сейчас по трактирам, попробуй разузнать, не расплачивался ли сегодня кто-нибудь такими деньгами. Для начала на Знаменку загляни. Помнишь, какие там трактиры?
– «Избушка», «Старый друг», «Калач», «Отдых рыбака», «Три великана», «Лакомый кусочек», – отчеканил Константинов.
– Вот тебе эта монетка, спрячь. Показывай ее, но в руки никому не давай. Сумеешь узнать что-то путное – будет твоя.
Последнюю фразу Иван Дмитриевич из человеколюбия произнес уже после того, как Сыч и полицейский с мешком покинули гостиную.
* * *Много позднее, в Петербурге, обрабатывая свои записи и добравшись до эпизода с отрезанной головой, Сафронов зацепился мыслью за слово «газета».
На другой день он пошел в читальный зал Императорской Публичной библиотеки, где попросил принести ему несколько газетных подшивок двадцатилетней давности – с номерами за конец апреля и начало мая 1871 года. Для верности хотелось сопоставить то, что писала про убийство князя фон Аренсберга тогдашняя пресса, с тем, что рассказывал об этом Иван Дмитриевич, но, как с удивлением обнаружил Сафронов, ни одна из столичных газет ни 25 апреля, ни в последующие дни не сообщала о преступлении в Миллионной ровным счетом ничего.
Между тем, излагая события тех дней, Иван Дмитриевич жаловался, что невозможно было выйти из княжеского особняка на улицу, чтобы не наткнуться на репортера, норовившего задать ему какой-нибудь дурацкий вопрос.
Всё это было, по меньшей мере, странно. Наскоро проглядев газеты, Сафронов начал просматривать их внимательнее – в надежде обнаружить хотя бы крохотную заметочку о гибели австрийского военного атташе.
Первые полосы всюду занимали обширные корреспонденции о боях под Парижем: инсургенты отбивают атаки версальских войск, форт Исси переходит из рук в руки, наполненный листовками Коммуны воздушный шар поднялся над городом, но из-за отсутствия ветра все листовки упали на пролетарское Сент-Антуанское предместье, которое и без того не нуждается в пропаганде социалистических идей. С негодованием отвергалось беспочвенное утверждение одного берлинского еженедельника, будто генерал Домбровский, едва ли не самый популярный из повстанческих генералов, по происхождению русский. Нет! Он хотя и российский подданный, но поляк.
О чем еще писали газеты в те дни?
В Англии предложение дать избирательное право женщинам отвергнуто парламентом: за – 151 голос, против – 220.
В Одессе закончился трехдневный еврейский погром. Евреи призывают бойкотировать питейные заведения, где собирались погромщики. Студенты оцепили трактир «Золотой якорь», не пропускают туда посетителей. Полиция разогнала студентов.
За истекшую неделю в Петербурге зарегистрировано 89 случаев заболевания холерой.
Во время гуляния в Демидовском саду мадемуазель Гандон танцевала на открытой сцене канкан и привлечена к суду за нарушение приличий в публичном месте. На суде свидетель, жандармский подполковник Фок, отверг это обвинение, сказав: «Господа, о каком неприличии может идти речь, если танец исполнялся в мужском костюме? Ведь ничего же не было видно!»
Арестован бессрочно-отпускной солдат Иванов, который подделывал жетоны общественных бань для простонародья и получал по ним чужую одежду.
Касторовые шляпы, шубки на кенгуровом меху, средства против облысения, паровые котлы, минеральные воды и так далее. Реклама.
Погода неустойчивая, хотя Нева уже вскрылась. Северная весна, последние полосы пестрят объявлениями о сдающихся внаем дачах. Здесь же траурные каемки некрологов, но искомого имени среди них тоже не обнаружилось.
Лишь по дороге домой Сафронов сообразил, что в 1871 году еще не был принят новый цензурный устав, и каждый номер каждой газеты цензоры прочитывали до того, как он отправлялся в типографию. Естественно, всё лишнее вычеркивалось. Шувалов, очевидно, отдал соответствующие распоряжения, и ни одно известие о трагедии в Миллионной так и не сумело просочиться в печать.
При этом цензура постыдно проглядела следующий факт: «Санкт-Петербургские ведомости» уверяли своих читателей, что 25 апреля в столице было 12 градусов по Цельсию, солнечно, а «Голос» настаивал на температуре почти нулевой, с дождем и мокрым снегом.
Глава 3
Винтовка Гогенбрюка
1Иван Дмитриевич стоял у окна, дожевывая последний из бутербродов с безвредным для желудка белым куриным мясом, которыми его истово снабжала жена. Внезапно грянул звонок у входной двери. Через минуту камердинер ввел в гостиную нового посетителя. Молодой человек в военной форме, он отрекомендовался соответственно:
– Преображенского полка поручик…
Фамилию Иван Дмитриевич не расслышал, но к появлению такого гостя отнесся с понятным интересом. Казармы Преображенского полка располагались прямо через улицу от дома фон Аренсберга, тамошние часовые или дежурный офицер вполне могли сообщить об убийстве князя что-то важное.
– А вы, значит, господин Путилин?
– Он самый.
– Начальник сыскной полиции?
– Пока что – да. Присаживайтесь.
Поручик сел, настороженно всматриваясь в собеседника своими светло-серыми, ясными и одновременно чуть стеклянными глазами, какие бывают у стрелков-асов, молодых честолюбцев и застарелых пьяниц, знававших лучшие дни.
– Вам известно, – спросил он наконец, – что наша армия вооружается винтовками нового образца?
– Увы, – покачал головой Иван Дмитриевич. – Я человек штатский, даже охоту не люблю. Предпочитаю рыбалку.
– Старые дульнозарядные ружья переделываются по системе австрийского барона Гогенбрюка, – объяснил поручик. – Чтобы заряжать с казенной части.
Для наглядности он пальцем похлопал бронзовую Еву на чернильном приборе пониже спины.
– Отсюда… Понимаете?
– Очень интересно, – сказал Иван Дмитриевич. – Вы пришли сюда за тем, чтобы это мне сообщить?
Поручик быстро заглянул в спальню, в кабинет – и лишь потом, убедившись, что никто не подслушивает, начал рассказывать, как зимой его приставили к особой команде, проводившей испытания нового оружия. На испытаниях присутствовал сам Гогенбрюк и некто Кобенцель, тоже барон, какая-то мелкая шушера при австрийском посольстве. До обеда стреляли из гогенбрюковских винтовок, после принесли партию других, изготовленных по проектам русских оружейников, и – странное дело! – все они по меткости боя и по скорострельности дали результат гораздо худший, чем на прежних стрельбах. Никто ничего не мог понять. Изобретатели рвали на себе волосы и чуть не плакали, инспекторы сокрушенно разводили руками. В итоге принц Ольденбургский, который в тот день якобы случайно посетил испытания, рекомендовал поставить на вооружение пехоты именно винтовку Гогенбрюка. Лишь на обратном пути, когда возвращались в казарму, он, поручик, учуял, что от солдат попахивает водкой.

