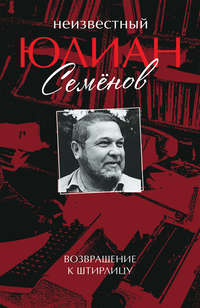
Неизвестный Юлиан Семёнов. Возвращение к Штирлицу
ИСАЕВ. Мы вечером, а полковник к утру, у него дела.
ВАНЮШИН. Сашенька, а что это вы так похорошели? Не к любви ль?
САШЕНЬКА. К оной, Николай Иванович, к оной!
САШЕНЬКА уходит.
ВАНЮШИН. А теперь пьем спокойно и думаем о Боге. Вы когда-нибудь слышали, как волчатники воют – волчицей кричат, волка подзывают? Я умею. Хотите, покажу? (ВАНЮШИН ложится на пол и страшно, протяжно “габит” – поет по-волчьи.) Вчера генерал Савицкий предложил американцам за миллион долларов купить все земли Уссурийского казачьего войска. Торговатъ землей Родины! Этого пока еще не было! Все-таки действительно рыба начинает гнить с головы.
Появляется МАША с цыганом-гитаристом. Она поет.
У всех купчишек генералин в мозгу! Интеллигент не падок до власти – в этом трагедия нашего общества! У нас до власти падки разночинцы, торговцы-купчишки и попы! А интеллигенты только правдоискательствуют! Идиоты! А правды в России – нет! Нет ее, правды-то! Нет!
ИСАЕВ. Успокойтесь, Николай Иванович…
ВАНЮШИН. А я спокоен! Я спокоен, как животное. Я спокоен, как тот изюбрь, которого вы завтра убьете. У вас, кстати, патронов на мою долю не найдется?
ИСАЕВ. А у меня только два. Хотя держите – я с собой на изюбря больше одного патрона не беру, это нечестно.
ВАНЮШИН. А если промажете?
ИСАЕВ. Не промажу. Я злой на охоте.
ВАНЮШИН уходит.
Хорошо ты поешь, Машенька, сердце холодит.
МАША. Красивый, а ты на охоту не езди…
ИСАЕВ. Почему?
МАША. Я сон видела вещий, будто у меня зуб выпал.
ИСАЕВ. Ну, будь здорова.
ИСАЕВ уходит в сопровождении СЛЕСАРЯ.
МАША. Гриша, а гитару с того дерева делают, что и гроб?
ЦЫГАН. Нет… Гробики лучше из сосны, она гниет чище.
Появляется ГИАЦИНТОВ.
ГИАЦИНТОВ. Гриша, выйди, сынок, мне с Машенькой надо Обмолвиться.
ЦЫГАН уходит.
МАША. Он не мешает мне, Гриня-то. Он меня любит, не то что вы все.
ГИАЦИНТОВ. Сядь. На руку, погадай.
МАША. Позолотить надо.
ГИАЦИНТОВ. Мало я тебе золотил.
МАША. Удача тебя ждет, да плохая это удача будет, черный. Кровавая она выйдет, эта твоя удача. Не бери красивого с собой – не бери. Оставь его. Хочешь, я к тебе сегодня поеду? За это всю ночь с тобой проведу.
ГИАЦИНТОВ. Не болтай, не болтай. А поехать – и так поедешь, иначе табор ваш прогоню из города.
МАША. А мы дорог не боимся.
ГИАЦИНТОВ. Значит, удача, говоришь? Ну ступай, спасибо тебе.
МАША. Нет, ты мою просьбу уважь.
ГИАЦИНТОВ. Ну ступай, ступай. Какие ты глупости говоришь, право; красивый – мой приятель, ты не думай, я его на хорошее зову.
МАША. Смотри, а то я с нашим чертом говорить стану. Он – рогатый, он кого хошь найдет.
ГИАЦИНТОВ. А хвост есть?
МАША. Смеешься, черный. Гляди, я правду говорю.
МАША уходит. ГИАЦИНТОВ пьет, потом снимает телефонную трубку.
ГИАЦИНТОВ. Больницу мне. Алло, это отделение для душевнобольных? Здравствуйте. Как самочувствие господина Фривейского? Ясно. Понятно. Спасибо. До свидания. Сейчас я буду.
ГИАЦИНТОВ уходит.
Картина третья
Охотничья заимка Тимохи. ВАНЮШИН спит на лавке. Агент СЛЕСАРЬ и АДЪЮТАНТ ВОЛЯ спят у двери, чтобы никто не мог войти или выйти. САШЕНЬКА и ИСАЕВ сидят у окна, занесенного снегом.
САШЕНЬКА. Если прижаться щекой к замерзшему окну, то сначала холодно, а потом жарко – как жжет. Попробуйте, Максим Максимыч.
ИСАЕВ. Я при вас несколько глупей, Сашенька. Мне обязательно при вас хочется говорить самые умные вещи и обязательно афоризмами.
САШЕНЬКА. Это вам, наверно, передается мое состояние, мне тоже хочется быть ужасно оригинальной и умной, чтобы вы не сразу поняли, какая я дура.
ИСАЕВ. Молодой месяц слева. Загадывайте – сбудется.
САШЕНЬКА. Загадала.
ИСАЕВ. У вас глазищи японские.
САШЕНЬКА. Да?
ИСАЕВ. Будто не знаете…
САШЕНЬКА. Знаю.
ИСАЕВ. Зачем переспрашиваете?
САШЕНЬКА. Зачем, зачем… Хочу, чтобы вы в меня влюбились…
ИСАЕВ (прижавшись щекой к окну). Сначала жарко, а потом ужасно холодно.
САШЕНЬКА. У вас на скулах румянец с синевой, как у склеротика.
ИСАЕВ. Спасибо.
САШЕНЬКА. Я вас нарочно злю.
ИСАЕВ. Давайте играть в ладушки.
САШЕНЬКА. Я не умею.
ИСАЕВ. Умеете. Это вы просто забыли. Сейчас я стану петь и подбрасывать вашу ладонь, а вы бойтесъ, чтобы я вас между делом не хлопнул по руке.
САШЕНЬКА. А вы сильно будете хлопать?
ИСАЕВ. Нет, совсем не сильно.
САШЕНЬКА. Давайте.
ИСАЕВ. Ладушки, ладушки, где были? У бабушки! А что ели? Кашку! А что пили?
САШЕНЬКА. Спирт. Вы не по правде играете, я не боюсь вас, вон вы мне поддаетесь и в глаза не глядите.
ИСАЕВ. Сашенька, а вот если б люди были вместе – долго, вечность, а потом один из них взял и уехал, но чтоб обязательно и в скорости вернуться, тогда как?
САШЕНЬКА. О чем это вы, Максим Максимович? Я ж отказалась ехать с отцом в Париж, коли вы тоже здесь остаетесь.
ИСАЕВ. Когда бы вы только видели, как я отвратителен, если сфотографировать мое отражение в ваших глазах. Я кажусь маленьким, жирным и расплющенным, словно на меня положили могильную плиту. И рожа, как новый пятак.
САШЕНЬКА. Зачем вы так говорите? Я не княжна Мэри, я прожила революцию и пять лет войны, меня окольно не надо отталкивать, вы мне лучше все прямо в глаза говорите, а то я бог весть что подумаю.
ИСАЕВ берет деревянную свистелочку с подоконника и тихонько играет протяжную, заунывную мелодию.
САШЕНЬКА. Что вы молчите? Ну? Ответьте же что-нибудь! Вы когда-нибудь очень пожалеете, что не позволили мне всегда быть подле вас.
ИСАЕВ. Я знаю.
САШЕНЬКА. Ничего вы не знаете…
ИСАЕВ. Смотрите, какая тайга под луной. Будто декорация. У вас лоб выпуклый, хороший.
САШЕНЬКА. Вы, верно, думаете, что в нем ума много?
ИСАЕВ. Вы – умная.
САШЕНЬКА. Женщине надо родиться дурой, тогда ее ждет счастье.
ИСАЕВ. Это не ваши слова.
САШЕНЬКА. Мои.
ИСАЕВ. Сашенька… Моей профессии… журналиста противна любовь к женщине, потому что это делает ласковым и слишком мягким. А это недопустимо. Но раньше я вообще никогда не любил; не успел, наверное, потому что главным для меня были… мои читатели. Они, читатели, требуют всей моей любви и силы, всего сердца и мозга – иначе незачем огород городить. Так я считал.
САШЕНЬКА. Вы и сейчас продолжаете считать так?
ИСАЕВ. Да.
САШЕНЬКА. Я поцелую вас, Максим Максимыч, можно?.. Милый мой, дорогой человек, а ведь ваши читатели газетами окна на зиму заклеивают и фамилию вашу пополам режут – я сама видела.
ИСАЕВ. Сашенька, Сашечка, Саша…
САШЕНЬКА. Я пойду за вами куда позовете. Я готова нести на спине поклажу, в руках – весла, а в зубах – сумку, где будет наш хлеб. Я готова быть подле вас всюду – в голоде, ужасе и боли. Если вы останетесь здесь – я останусь подле вас, что бы вам ни грозило.
ИСАЕВ. Скоро утро. Ложитесь, я буду сидеть подле вас.
САШЕНЬКА ложится на кровать. ИСАЕВ укрывает ее медвежьей полостью. Сидит возле нее и поет ей колыбельную песню. Открывается дверь.
СЛЕСАРЬ (со сна). Кто?! Что?! Куда?!
ТИМОХА. Тише ты. Я это, егерь Тимоха.
СЛЕСАРЬ. А-а… (Сонно.) Ну, проходи.
ИСАЕВ.Ну?
ТИМОХА. Будет зверь. Айда спать, а то завтра маятность предстоит.
ИСАЕВ. Места для нас определил?
ТИМОХА. Порядок.
ИСАЕВ ложится подле Сашеньки. ТИМОХА укладывается на полу и тушит лампу.
ИСАЕВ. Сашенька, я очень верю прекрасному глаголу – «ждать». А вы? Спит. Сашенька – единственная женщина, которую я мечтал видеть всегда рядом…
Окно зимовья освещается желтым светом автомобильных фар.
Входит ГИАЦИНТОВ с тремя сотрудниками контрразведки.
ГИАЦИНТОВ. Тише топайте, люди спят. (Он подходит к постели и долго смотрит на лежащего Исаева.)
Центр сцены. Вдали – грохот канонады. Рваная колючая проволока. Луна искрится на снегу. Через это снежное мертвое поле, среди трупов убитых, идут БЛЮХЕР и ПОСТЫШЕВ.
БЛЮХЕР. Красный. Белый. Белый. Казак. Красный…
ПОСТЫШЕВ. Русские они все…
БЛЮХЕР. Правда крови стоит.
ПОСТЫШЕВ. Завтрашний бой решит все.
БЛЮХЕР. Слышишь?
ПОСТЫШЕВ. Что?
БЛЮХЕР. Вроде – песня…
ПОСТЫШЕВ. Нет. Лес стонет. Мороз стволы ломает.
БЛЮХЕР. Сердце разрывается, когда людей посылаешь с голыми руками на колючую проволоку, под пулеметы…
ПОСТЫШЕВ. Правда крови стоит.
БЛЮХЕР. Не забыли б только про это.
ПОСТЫШЕВ. Такое не забывают.
БЛЮХЕР. Знаешь, мне иногда прямо крикнуть хочется, и чтоб крик мой, словно обелиск, остался навечно: «Люди, дети, внуки! Помните про то, как голодные солдаты революции умирали за ваше счастье! Обязательно помните! Забыв тех героев, которые свершили самую великую и добрую революцию, вы предадите самих себя, свое сердце, свою мечту!»
ПОСТЫШЕВ. Они будут помнить.
БЛЮХЕР. Пошли в окопы. Через час – штурм Волочаевки.
ПОСТЫШЕВ. Слышишь?
БЛЮХЕР. Что?
ПОСТЫШЕВ. Ночь какая божественная.
БЛЮХЕР. Стрелять перестали совсем…
ПОСТЫШЕВ. В такую ночь стрелять – красоту рушить.
БЛЮХЕР. Ну, до утра, Пал Петрович.
ПОСТЫШЕВ. До утра, Василий Константинович…
БЛЮХЕР. Пал Петрович… А ведь верно… Поют… Мужики поют… Слышишь…
Поют мужики протяжную песню – о доме, который бросили, о детях, которые остались одни, о бабах, которые одни горемычничают. Подходит ГРЖИМАЛЬСКИЙ.
ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Василий Константинович, дальнейшее ожидание деморализует войска. Моя жена в свое время ставила любительские спектакли. У них был термин – «передержать спектакль». Пусть лучше выпустить чуть раньше, поможет энтузиазм, напор, горение.
ПОСТЫШЕВ. Андрей Иванович, дорогой, фронт – не спектакль, там не из игрушечных пистолетов стреляют.
ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Если б я решил саботировать – то лучшей ситуации не сыщешь. Все вокруг ропщут, считают, что это мы, бывшие генералы, удерживаем вас от последнего броска…
БЛЮХЕ Р. Кто именно?
ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Увольте от точного ответа, я считаю это доносительством.
БЛЮХЕР. Помните Пушкина. «Мы ленивы и нелюбопытны»? Мы еще склонны прикрывать невежество – в военной науке тоже – презрительной ухмылкой обожравшегося культурой Фауста. Соскобли с иного «Азбуку коммунизма» – и предстанет голенький крикун-обыватель.
ПОСТЫШЕВ. А что касается недовольных медлительностью Блюхера – то это нам выгодно: это дезинфекция, которой во Владивостоке не могут не верить, потому что она исходит от преданных, но недалеких людей.
ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Вы страшные хитрецы.
БЛЮХЕР. А как без нее воевать-то, без хитрости? Какие у вас пропозиции по завтрашнему бою?
ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Здесь я предлагаю вам широкую деятельность…
БЛЮХЕР. У индусов есть поговорка: «Горе тому народу, правитель которого слишком деятелен». Как бы нам такому правителю не уподобиться? Ну, пошли в штаб, будем все перепроверять напоследок.
ПОСТЫШЕВ. Счастливо.
БЛЮХЕР. Ты в окопы?
ПОСТЫШЕВ. Да.
БЛЮХЕР и ГРЖИМАЛЬСКИЙ уходят. ПОСТЫШЕВ стоит, замерев, слушая песню. К нему подходят ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ БОЙЦЫ.
ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Пал Петров, когда ж начнем?
ВТОРОЙ БОЕЦ. Душа истомилась – сковырнуть надо белого гада, в дома вернуться, землю нежить.
ПОСТЫШЕВ. Землю нежить…
ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Мы теперь заново рожденные, мы теперь все окрест вдвойне любим: и небо, и бабу, и землю, и дите.
ПОСТЫШЕВ. Это как понять – «заново рожденные»?
ВТОРОЙ БОЕЦ. Кто из труса выкарабкался и стал врагу в глаз смотреть.
ПОСТЫШЕВ. Ну, пошли. Вон солнце забрезжило. Через час – штурм Волочаевской сопки.
ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Слава тебе, господи! Спаси, сохрани и помилуй – наше красное дело!
ПОСТЫШЕВ. Думаешь – слышит он тебя?
ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Этого я не знаю, а порядок есть порядок! Даешь Волочаевку, мать твою белого гада семь раз так!
Картина четвертая
Утро в лесу. Снег, голубое небо, и вдали – черная стена тайги. Возле большого стога – ГИАЦИНТОВ с ИСАЕВЫМ.
ГИАЦИНТОВ. Скоро начнется гон…
ИСАЕВ. А вон тот ваш человек, что под деревом, у него ружья нет.
ГИАЦИНТОВ. У него два нагана и граната, не беспокойтесь за вооруженность моих сотрудников.
ИСАЕВ. Молчу.
ГИАЦИНТОВ. Погодите молчать, Макс, у нас еще есть пять минут для разговора. Я вчера был у Фривейского, он очень плох, но тем не менее мы с ним объяснились.
ИСАЕВ. Бедный Александр Александрович…
ГИАЦИНТОВ. Да, не говорите. Я счастлив, что мы с вами наконец остались один на один.
ИСАЕВ. А вон там – человек.
ГИАЦИНТОВ. А это не человек. Это филер. Мечтал уединиться и вот – мечты сбылись. В городе – никак не выходит, чтоб один на один. Звать к себе – интеллигенция станет вас сторониться, как возможного агента охранки. У вас? Всегда полно народа. А в кафе «Банзай» вы так часто бывали с Ченом, что вас там хорошо запомнили.
ИСАЕВ. Там прекрасно делали рыбу.
ГИАЦИНТОВ. Карп по-монастырски?
ИСАЕВ. Нет, это обычно. Мне там нравились креветки, зажаренные в мясе осетра.
ГИАЦИНТОВ. Да, помню, как-то раз пробовал, это занятно. Но мы отклонились в сторону от разговора. Он будет краток. Я ничего не хочу знать о вашем прошлом, хотя оно крайне занятно и изобилует белыми пятнами, словно карта Антарктиды. Меня занимало ваше настоящее, оно элегантно, оно достойно вас. Вы – обаяшка, а это не просто достоинство человека, это его профессия. Но волнует меня ваше будущее. Сегодня, после отстрела изюбря, вы скажете мне «да». Понимаете меня?
ИСАЕВ. Я готов сейчас сказать вам «да». Мне только не совсем понятно, о каком «да» идет речь?
ГИАЦИНТОВ. Вам пять лет? Вы плохо выговариваете букву «р»? Вы еще мочитесь в кроватку? Перестаньте, дуся, мы ж с вами люди вполне зрелого возраста.
ИСАЕВ. А если – «нет»?
ГИАЦИНТОВ. Умница. Хорошо, что вы сказали про «нет». Я запамятовал предупредить вас об этом. Если я услышу «нет», то завтра мы будем хоронить вас, как случайно застрелившегося на охоте.
ИСАЕВ. Такая жестокость, Кирилл Николаевич…
ГИАЦИНТОВ. С людьми вашей профессии и ваших связей мне иначе нельзя.
ИСАЕВ. Клянусь Богом, я буду нем как рыба.
ГИАЦИНТОВ. Мне уже говорил про это ваш приятель Чен.
ИСАЕВ. Кто?
ГИАЦИНТОВ. Чен.
ИСАЕВ. Ув-ле-чен. Смешная рифма.
ГИАЦИНТОВ. Бросьте-бросьте. Неужто вы не знали, что Чен – здешний резидент ЧК?
ИСАЕВ. Сейчас я начну хохотать и спугну изюбра, полковник.
ГИАЦИНТОВ. Хватит, Исаев. Вы были обложены мной. Я наблюдал за вами все последнее время, как ревнивый муж. Ясно вам? Партия сыграна, надо выбирать достойный выход.
ИСАЕВ. Кирилл Николаевич, а вы знаете, что у контрразведчиков мания подозрительности – профессиональная болезнь?
ГИАЦИНТОВ. Наслышан.
ИСАЕВ. Любопытно, в вашей конторе есть профсоюз, который защищает права занемогших на боевом посту?
ГИАЦИНТОВ. Хватит. Только не вздумайте шутить. Целить в изюбря буду один я. Ваш патрончик мои люди разрядили.
ИСАЕВ. Тогда мне нечего здесь делать. Я домой пойду.
ГИАЦИНТОВ. Значит, «да»?
ИСАЕВ. Нет.
ГИАЦИНТОВ. Это пока «нет». А домой я вас не пущу. Вернее, по дороге домой с вами и произойдет несчастный случай. Право, я не шучу. В нашей профессии есть только одна опасность – заиграться, Так вот с вами я заигрался, мне обратно нельзя отрабатывать. После того, как вы мне скажете «да», я объясню вам – зачем вы мне нужны.
Слышно, как в лесу ТИМОХА начинает загон. Он кричит: «Ай, давай, давай, давай! Пошел на полковника! Пошел! Пошел!» В загоне раздается несколько выстрелов. После первого же выстрела из стога вылезают четверо людей во главе с ПОТАПОВЫМ. ГИАЦИНТОВА обезоруживают. ИСАЕВ стреляет в Слесаря.
ИСАЕВ. Это тебе за Чена, гад! Готов агент Слесарь. Полковник, у нас мало времени и шутить мы не будем. Быстро вперед, если побежите – пристрелю, нам терять нечего.
ГИАЦИНТОВ идет вперед, в лес, подняв руки вверх.
Слышны выстрелы в загоне, крики ТИМОХИ и гиацинтовских сотрудников.
Эпилог
Так же, как в прологе, на сцене, на фоне рельсов, уходящих в Москву, стоит БЛЮХЕР, взяв под козырек. Он внимательно смотрит в зал и провожает глазами – из одного конца в другой – проходящие воинские части. Гремит песня «По долинам и по взгорьям». БЛЮХЕР берет под козырек. К нему подходит ИСАЕВ – в форме комбрига с орденами на груди – и становится рядом. Потом подходят ПОСТЫШЕВ, ПОТАПОВ, ГРЖИМАЛЬСКИЙ.
БЛЮХЕР. Ест теперь силища. Ишь, как поют. Силища… Такую – никому не одолеть… Никогда!
Звучит песня:
И останутся, как в сказке,Как манящие огни,Штурмовые ночи Спасска,Волочаевские дни!..Занавес
Провокация
Действие с перерывом на ночь
Посвящается Роману Кармену
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
ЖУРНАЛИСТ, он же полковник советской разведки МАКСИМ ИСАЕВ
РОГМЮЛЛЕР, оберштурмбаннфюрер СС, он же ФРЭД
АНИ, агент РОГМЮЛЛЕРА
ПЬЕР РЕПУБЛИКЭН, он же доброволец испанских интербригад ФРИЦ КЛАМ
ШАРЛЬ, официант, он же ЖЮЛЬ ДАВАР, начальник контрразведки одной из интербригад
ПЕРВЫЙ СД
ВТОРОЙ СД
ТРЕТИЙ СД
АЗИАТ, агент РОГМЮЛЛЕРА
ТАНЦОВЩИЦА
ТАНЦОРЫ-БЛИЗНЕЦЫ
ЛИЗ ДЖУРОВИЧ, журналистка
ШЕФ КРИМИНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ
МОНАХ
Кинопролог в этой пьесе должен быть взят из фильма Кармена и Симонова «Гренада, Гренада, Гренада моя…». Кадры этой кинопоэмы должны показать последние дни республиканской Испании, горечь поражения и в то же время неистребимое желание продолжать борьбу до победы, за новую, республиканскую, свободную Испанию.
1
Маленькое варьете в нейтральной стране. На сцене варьете в центре зала певице АНИ поет песенку. Временами, отрываясь от записной книжки, на Ани, улыбаясь, смотрит ЖУРНАЛИСТ. Она улыбается ему. В отдельном кабинете сидят три офицера из службы политической разведки. ПЕРВЫЙ СД внимательно наблюдает за ЖУРНАЛИСТОМ. АНИ кончила петь, ей поаплодировали.
ПЕРВЫЙ СД. Журналист заказал еще виски.
ВТОРОЙ СД. Меня чертовски мучит изжога.
ТРЕТИЙ СД. Выпейте соды.
Входит старый ПРОДАВЕЦ газет.
ПРОДАВЕЦ. Последний выпуск вечерних газет! Франция интернирует республиканцев на границе! Мадрид чествует победу Франко! Предстоящее выступление канцлера Германии Гитлера! Таинственное исчезновение из политической тюрьмы Барселоны командира интернациональных бригад Пьера Републикэна! Беглеца разыскивают силы безопасности в аэропортах Парижа, Рима, Берлина и Мадрида! Литвинов выступит в Лиге Наций! Последние новости!
ВТОРОЙ СД. Пожалуйста, все газеты.
ПРОДАВЕЦ. Прошу вас. (Уходит.)
ТРЕТИЙ СД. Ну, что там? О Републикэне есть подробности?
ВТОРОЙ СД. (читая газету). Теперь он придет только сюда. Ему больше некуда деться. Рогмюллер сработал точно. Он всучил прессе именно то, что нам нужно. Здесь – единственное место, через которое он будет уходить в Москву.
ТРЕТИЙ СД. Сколько дней певица работает с ЖУРНАЛИСТОМ?
ПЕРВЫЙ СД. Третий день. Они говорят, как философы на диспуте.
ВТОРОЙ СД. Он приятный парень. В таких влюбляются.
ПЕРВЫЙ СД. Пусть влюбляется.
ВТОРОЙ СД. Она – самый ценный агент Рогмюллера.
ТРЕТИЙ СД. Где он, кстати?
ПЕРВЫЙ СД. Сейчас придет. (Смотрит на часы.) У него еще есть две минуты. Он любит поражать точностью.
ВТОРОЙ СД. Рогмюллер спал с ней?
ПЕРВЫЙ СД. Меня это тоже интересует.
ВТОРОЙ СД. Сверьте часы. Оберштурмбаннфюрер СС Рогмюллер!
Через зал идет маленький, седой, с моложавым лицом, обворожительно улыбающийся человек. Он мило раскланивается со знакомыми.
РОГМЮЛЛЕР (высокому знакомому). Анри, я выиграл три сета у нашего приятеля. У него неплохой удар с левой, но, говоря откровенно, играть он не умеет. (Полной даме.) Миссис Штейнберг, я не советую вам брать Леже у Феликса, я не верю ему, он может всучить подделку. (Молодой девушке.) Мисс Даулло, к сожалению, я не смогу отвести вас по тропам в горы – завтра я должен опробовать фуникулер у девятой отметки. (Молодому парню.) Добрый вечер, ваше сиятельство…
МОЛОДОЙ ПАРЕНЬ (перебив его). Вы свинья, Фрэд. Вы подонок.
РОГМЮЛЛЕР. Ваше сиятельство, я предупреждал вашего секретаря…
МОЛОДОЙ ПАРЕНЬ. Заткнитесь! Вы подвели моих друзей. Они ждали вас два дня, чтобы идти на ледник…
РОГМЮЛЛЕР. Но, ваше сиятельство…
МОЛОДОЙ ПАРЕНЬ. Подите прочь!
РОГМЮЛЛЕР сдержанно кланяется и заходит в отдельный кабинет.
ТРОЕ СД поднимаются.
РОГМЮЛЛЕР. (Лицо стало морщинистым, отечным, старым, без улыбки. Очень сдержан в жестах.) Здравствуйте, ребята, рад вас видеть. Прошу садиться.
ТРЕТИЙ СД. Виски, пива?
РОГМЮЛЛЕР. Кофе. (Просматривает газеты.) Моя дезинформация в прессе сработала. Его засекли люди нашего военного атташе в Лондоне. Он брал билет сюда.
ВТОРОЙ СД. Какой рейс?
РОГМЮЛЛЕР. Не знаю. Он оторвался от слежки. Люди из Лондона сообщают, что он будет здесь завтра у журналиста с архивом интернациональных бригад – желтый кожаный саквояж – от двенадцати до часу. Мы возьмем его здесь. И никаких претензий: нейтральная страна.
ПЕРВЫЙ СД (продолжая вести наблюдения). Журналист послал певице воздушный поцелуй.
РОГМЮЛЛЕР. Вам здесь не следует задерживаться. У журналиста точный глаз. Я заочно встречался с ним два раза: в Испании и Нюрнберге.
ВТОРОЙ СД. Журналист – из профессионалов? Или любитель?
РОГМЮЛЛЕР. По-моему, из любителей. Вроде господина Хемингуэя. Впрочем, в Берлине считают, что он кадровый сотрудник русской разведки. Я с этим не согласен…
ТРЕТИЙ СД. Стоило тогда охотиться за ним в Испании?
РОГМЮЛЛЕР. Стоило. Его разоблачительные статьи против нашей помощи Франко были опасны, как танки или самолеты. Он будоражил общественное мнение, а это страшнее танков и опасней работы кадрового разведчика…
ПЕРВЫЙ СД. Недолго же он молчал после той вашей операции.
РОГМЮЛЛЕР. Это не моя вина.
ТРЕТИЙ СД. А чья?
РОГМЮЛЛЕР. Хватит о прошлом. Давайте подумаем о настоящем. Вы поселитесь на вилле Пронто. Организуйте там дежурство. Машина журналиста и Републикэна доедет только до виллы Пронто, мои механики позаботятся об этом. Так что мы их возьмем тихо, без стрельбы. И уведем через горы к нам, в рейх.
ВТОРОЙ СД. А если они решат лететь?
РОГМЮЛЛЕР. И журналист, и Републикэн знают, что авиапорты блокированы. У них одна дорога: через восточную границу, машиной.
ПЕРВЫЙ СД. И – тем не менее: если они решат лететь?
РОГМЮЛЛЕР. Один шанс из миллиона. Тем не менее я предусмотрел и это. Ани, которая работает с ним, сообщит нам заранее, если они решат уходить воздухом. От виллы до аэропорта сорок миль – вы успеете обернуться. Там в горах есть две площадки для отдыха, мы легко их возьмем – пустое шоссе, много слепых поворотов…
ВТОРОЙ СД. Почему вы думаете, что Ани будет знать, каким путем они решат уходить?
РОГМЮЛЛЕР. Операцией руковожу я, не правда ли? Так что давайте разграничим функции: каждому свое. Ну, счастливо. Ждите моих новостей.
РОГМЮЛЛЕР поднялся, следом за ним – ТРОЕ СД. Обменялись рукопожатиями.
СД ушли, РОГМЮЛЛЕР садится за столик возле эстрады. АНИ подходит к РОГМЮЛЛЕРУ.
АНИ. Хэлло, Фрэд.
РОГМЮЛЛЕР. Хэлло, Ани.
Подходит ОФИЦИАНТ ШАРЛЬ.
РОГМЮЛЛЕР. Ани – кофе, мне – теплое молоко.
ОФИЦИАНТ (показывая на горло). Миндалины?
РОГМЮЛЛЕР. Вы прозорливец, Шарль.
ОФИЦИАНТ. Я прослежу, чтобы молоко было лишь слегка подогрето.
Отходит.
РОГМЮЛЛЕР. Вы плохо выглядите, Ани. Устали? С ним трудно работать?
АНИ. Вы часто видите во сне песок?
РОГМЮЛЛЕР. Ни разу не видел. Во сне я всегда вижу дерьмо. И еще я часто вижу, как лечу в пропасть. Первое – к деньгам, второе – свидетельствует, что я продолжаю расти… Мой стареющий организм бросает вызов природе. Падать в пропасть – это к росту.
АНИ. А я в последнее время вижу песок. Это плохой сон.
РОГМЮЛЛЕР. Ерунда… Не верьте снам…
АНИ. Фрэд, вы тоже верите снам. Все верят снам и приметам. Все. Только идиоты не верят снам.
РОГМЮЛЛЕР. Как у вас с ним? (Ани пожала плечами.) Вы не ответили.
АНИ. Женщину легко подчинить себе. Но после того как женщина подчинилась и это не рождено любовью, всегда появляется протест. Он, правда, не осмыслен, но это тем страшнее.
РОГМЮЛЛЕР. Протест обычно целенаправлен. Против чего направлен ваш протест?
АНИ. Я вроде оккупированной страны…