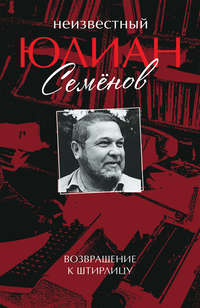
Неизвестный Юлиан Семёнов. Возвращение к Штирлицу
РОГМЮЛЛЕР. Бросьте вы себя изводить, право слово. В мире все так относительно, так перепутались все понятия… Сплошь и рядом добро оказывается злом и, наоборот, зло, рассмотренное с точки зрения исторической целесообразности, – на самом деле не что иное, как добро.
АНИ. Так вы оправдаете инквизицию.
РОГМЮЛЛЕР. Инквизиция не нуждается в оправдании.
АНИ. Когда вы так говорите, люди отшатываются от нас, как от прокаженных.
РОГМЮЛЛЕР. А мы этого не боимся. Инквизиция стимулировала развитие разума, она – матерь прогресса, дай тогда церковь свободу мысли, и мысль бы замерла. Мысль развивается только в том случае, если ей поставлены препоны. В наш век тоже надо ставить препоны мысли. Советы Востока и демократии Запада этого сделать не в состоянии. Мы, наш режим, пошли на великий подвиг, взяв на себя тяжкое бремя называть правду – правдой, и человечество, избранная его кровь, воздвигнет в нашу честь монументы, когда мир войдет в пору золотого века. И мы с вами – маленькие звенья в этом великом эксперименте. Разве не высшая радость подчинить себя, свою сущность этому эксперименту?
АНИ (кивнув на ЖУРНАЛИСТА). А при чем здесь он?
РОГМЮЛЛЕР. Он мешает нашему эксперименту.
АНИ. Вы думаете, он…
РОГМЮЛЛЕР. Ани, я разучился думать, поверив в предначертанное нам. Зато научился честно выполнять свой долг.
АНИ. Я боюсь, что у меня с ним ничего не выйдет. Он другой, он не похож на остальных.
РОГМЮЛЛЕР. Все мужчины одинаковы, за столом и в постели во всяком случае.
АНИ. Вы судите по себе?
РОГМЮЛЛЕР. Ани, у меня сейчас нет времени на дискуссии… Вы должны быть с ним сегодня и завтра до двенадцати часов. Когда к нему придет высокий черный человек со шрамом на лбу и с желтым саквояжем в руках, вы позвоните к портье и попросите подать вам такси, все логично: мужчины ценят женщин, которые оставляют их наедине с друзьями.
АНИ. Вам нужен человек со шрамом?
РОГМЮЛЛЕР. Да.
АНИ (кивая на ЖУРНАЛИСТА). Он вас не интересует?
РОГМЮЛЛЕР. Постольку поскольку…
Из-за занавески вышел ОФИЦИАНТ. Поставил на стол молоко и кофе.
ОФИЦИАНТ. Я проследил за молоком сам. Оно чуть теплое.
РОГМЮЛЛЕР. Спасибо, Шарль.
ОФИЦИАНТ ШАРЛЬ медленно отошел от столика. Двинулся через зал. Остановился возле другого столика, за которым сидел МОЛОДОЙ ПАРЕНЬ.
ОФИЦИАНТ. Ваше сиятельство, я не советую вам сегодня брать форель. Рыба утомлена нерестом, она идет сейчас вверх к водопадам, поэтому мясо у нее сухое и волокнистое. Рекомендую взять угря под белым вином. Прислали великолепных угрей из Финляндии. Они хорошо готовят мужчину к вечерней партии.
МОЛОДОЙ ПАРЕНЬ. Шарль, я еще не в том возрасте, чтобы готовить себя к любви особо калорийной пищей.
ОФИЦИАНТ ШАРЛЬ кланяется царственным сдержанным поклоном и подходит к столику ЖУРНАЛИСТА.
ОФИЦИАНТ. Еще виски?
ЖУРНАЛИСТ. Да.
ОФИЦИАНТ (убирая со стола, очень тихо). Она работает на гестапо.
ЖУРНАЛИСТ. Ну и прекрасно…
ОФИЦИАНТ. Тебе надо уходить.
ЖУРНАЛИСТ. Почему? Она будет мне лучшей защитой.
ОФИЦИАНТ. Тебе надо уходить!
ЖУРНАЛИСТ (громко). И обязательно – воды.
ОФИЦИАНТ. О да!
АНИ подходит к ЖУРНАЛИСТУ.
ЖУРНАЛИСТ. Вы сегодня очень хороши. (Протягивает ей фиалку.)
АНИ. Спасибо.
ЖУРНАЛИСТ. Кофе?
АНИ. Виски. Вы когда-нибудь цыган слушали?
ЖУРНАЛИСТ. Да.
АНИ. Где?
ЖУРНАЛИСТ. В Испании…
АНИ. А сегодня у нас поет цыган из России. Вы бывали в России?
ЖУРНАЛИСТ. Бывал.
На сцене в луче прожектора появляется цыган. Он поет тоскливую, прекрасную песню о родине. Овация. Цыган исчезает со сцены в полной темноте.
АНИ. Цыгане кокетничают любовью к родине. Но я это понимаю перед и после, а когда он поет, я только слушаю это, и ничего больше. Наверное, самая великая сила искусства в том, что оно позволяет человеку забыть себя.
ЖУРНАЛИСТ. По-моему, смысл искусства в том, что оно заставляет человека вспоминать себя.
АНИ. Вы говорите как старец.
ЖУРНАЛИСТ. Я на вас очень сердился, когда вы сидели с тем седым красавцем.
АНИ. Вам кажется, что он красив?
ЖУРНАЛИСТ. Кто вас разозлил?
АНИ. Заметно?
ЖУРНАЛИСТ. Если сощуриться.
АНИ. Женщина должна быть покорной. Я знаю.
ЖУРНАЛИСТ. Верно. Лучшее оружие женщины – ее беззащитность, но она это начинает понимать, научившись защищаться.
АНИ. Вы когда-нибудь завидовали толстым торговцам, которые покупают любовь? Без ваших философских выкладок?
ЖУРНАЛИСТ. Вы сказали пошлость… Зачем?
АНИ. Мечтаю всю жизнь встретить хотя бы одного слабого мужчину. Как Христа.
ЖУРНАЛИСТ. Разве Христос был слабым?
АНИ. Конечно. В этом Его сила.
ЖУРНАЛИСТ. Верите в Бога?
АНИ. Да.
ЖУРНАЛИСТ. Давно?
АНИ. Восемь месяцев.
ЖУРНАЛИСТ. Мы начинаем искать Христа, осознав свое бессилие перед жизненными обстоятельствами. А потом с Божьей помощью выкрутимся и забываем свою веру. О Боге надо думать перед тем, как делаешь зло. После того как зло сделано, Бог не вернется к человеку. Что же случилось восемь месяцев назад?
АНИ. Я любила такого же странного человека, как вы. Он был горноспасателем. Он погиб восемь месяцев назад… Пошел в горы с двумя жирными торговцами и не вернулся… Вы верите в Бога?
ЖУРНАЛИСТ. Порой. Это мешает моей профессии.
АНИ. Вы профессию выбрали по доброй воле?
ЖУРНАЛИСТ. Профессия как родители: ее не выбирают. Если профессии выбирать – наступит не жизнь, а существование.
АНИ. Может быть, высшая истина заключается именно в том, чтобы человек существовал? Может, открыв в себе душу, он замахнулся на то высшее, что не может быть им понято? Может, именно за это людям мстят совестью, отчаяньем, любовью, самотерзанием? Может, разум, совесть, добро, честь – все это придуманные дьяволом химеры?
ЖУРНАЛИСТ. Может быть. Попробуйте освободить себя от стыда, любви, горя. Наверное, это очень удобно.
АНИ. Я стараюсь. В этом мире подлости нельзя жить по законам чести. Это как ходить юлой среди похотливых скотов.
ЖУРНАЛИСТ (прислушиваясь к объявленному номеру пантомимы). Этого вчера не было.
АНИ. Эмигранты из Германии. Антифашисты.
Начинается пантомима. Юноша и девушка танцуют на сцене. Оба почти совсем обнажены. Из темноты появляется громадный мужчина в коричневом трико и в фуражке штурмовика. А двое, не замечая его, танцуют то чарльстон, то фокстрот. Штурмовик подходит к девушке, приглашает ее на танец – манерно и воспитанно. Мы видим, что на боку у него кортик. Он начинает танцевать с девушкой неуклюжий падеграс. Девушка и юноша, переглядываясь, смеются над ним, потом девушка вырывается от коричневого, и они с юношей начинают танцевать упоительный, веселый чарльстон. Коричневый негодует. Он вырывает девушку у юноши, показывает им, какие танцы прилично танцевать, но над ним смеются, и девушка возвращается к юноше. Тогда коричневый закалывает юношу, бросается на девушку, обнимает ее, кидает на пол… Темнота… Бравурный нацистский марш. В луче прожектора – девушка, теперь уже не в белом, a в коричневой униформе, марширует послушно за штурмовиком, танцует с ним спортивные танцы – те, что танцевали на фашистских празднествах в Нюрнберге. Потом, неожиданно для зрителей, в руках у штурмовика и девушки оказываются автоматы, и они маршируют прямо на зрительный зал, а юноша в белом агонизирует, и девушка видит это. На мгновение она останавливается, она очнулась, она замирает, а затем стреляет в себя из автомата. Затемнение.
Тишина. Зал не аплодирует. Все сидят молча, даже когда дали полный свет. И только РОГМЮЛЛЕР несколько раз похлопал исполнителям.
ЖУРНАЛИСТ. Она не туда стреляла…
АНИ. Куда ей надо было стрелять?
ЖУРНАЛИСТ. Если она любила того белого парнишку, ей надо – стрелять в коричневого.
АНИ. А что коричневый? Слабый, глупый, обманутый, добрый мужчина.
ЖУРНАЛИСТ. По-моему, артисты трактуют его как тирана… Он служит тирании.
АНИ. Ну и что? Тирания хотя бы освобождает от мучительной необходимости думать.
ЖУРНАЛИСТ. Под большим тираном свои собственные злодейства кажутся безобидными. А? Послушайте, Ани, это звучит банально, но тем не менее мне хочется чем-то помочь вам. Правда.
АНИ. Я не понимаю мужчин, которые хотят помочь женщине. Такие мужчины не умеют любить. Послушайте, уезжайте отсюда, милый…
ЖУРНАЛИСТ. Ну-ка, скажите еще раз.
АНИ. Я прошу вас – уезжайте отсюда. Сейчас, сегодня, немедля…
ЖУРНАЛИСТ. Не это.
АНИ. Вы хотите, чтобы я повторила слово «милый»?
ЖУРНАЛИСТ. Да.
АНИ. Если вы хорошо уплатите, я скажу «любимый».
ЖУРНАЛИСТ. Вы плохо играете шлюху. Лучше пойте. Это у вас выходит значительно интересней.
АНИ. Я не обиделась. Вы любите дождь?
ЖУРНАЛИСТ. Люблю.
АНИ. Пойдемте бродить под дождем, а?
ЖУРНАЛИСТ. Пошли.
Они уходят.
2
То же помещение, но сейчас здесь нет никого, кроме Рогмюллера. К нему подходит АЗИАТ.
РОГМЮЛЛЕР. Ну?
АЗИАТ. Они гуляли по набережной до часу сорока трех минут. После они поехали на такси «АМ-Л 7642» в кабаре аэропорта.
РОГМЮЛЛЕР. Кто это видел?
АЗИАТ. Мой человек.
РОГМЮЛЛЕР. Кто именно?
АЗИАТ. Мой верный человек.
РОГМЮЛЛЕР. Где они сидят?
АЗИАТ. Я еще не получил сведений, я торопился к вам.
РОГМЮЛЛЕР. Они сидят за третьим столом на втором этаже.
АЗИАТ. Откуда вы знаете?
РОГМЮЛЛЕР. У меня сейчас там свой верный человек.
АЗИАТ. Кто?
РОГМЮЛЛЕР. Один – один, мой дружочек. Я же ответил вашими словами: «Верный человек».
АЗИАТ. Покажете?
РОГМЮЛЛЕР. Никогда.
АЗИАТ. Не боитесь их визита в аэропорт?
РОГМЮЛЛЕР. Отправлять Републикэна в Москву самолетом – безумие. В Москву идут наши самолеты. «Люфтганзы». Мы посадим самолет в Берлине, если он сядет в него.
АЗИАТ. Но есть еще белградский рейс. Его выполняют англичане. И летит их самолет в четырнадцать часов – именно по четвергам. Завтра четверг.
РОГМЮЛЛЕР. Этот рейс не долетит до Белграда, в обслуживании этого рейса есть мои люди. Они сделают так, чтобы пилоты завернули в Вену; это тоже предусмотрено. Я боюсь только за машину журналиста. О чем они говорили, прогуливаясь по набережной?
АЗИАТ. Они часто останавливались, прогуливаясь. Их разговор казался им обоим весьма многозначительным. Я же едва сдерживал смех.
РОГМЮЛЛЕР. Что вам казалось многозначительным в их разговоре?
АЗИАТ. Видите ли, я весьма внимательно слежу за современной американо-европейской литературой. Их литераторы наивно полагают, что говорить с читателем следует глаголами, междометиями и союзами. Они наивно полагают, что люди их поймут. Это заблуждение. Людям следует говорить препарированную правду. Людям нравятся определения. Глаголы, союзы и междометия чужды, потому что это – их суть. Они живут глаголом, то есть действиями, междометием – в силу своей интеллектуальной нищеты – и союзом – в силу очевидной необходимости связывать фразы. Отсюда – они тянутся к определениям и прилагательным – самым красивым категориям в языке. Поверьте мне. Журналист и певица стараются обмануть друг друга.
РОГМЮЛЛЕР. Это естественно. Она выполняет свой долг перед нацией, а он ею увлечен.
АЗИАТ. Вы заблуждаетесь, Фрэд.
РОГМЮЛЛЕР. В чем?
АЗИАТ. Она тоже увлечена им.
РОГМЮЛЛЕР. У нее слишком горькое прошлое, чтобы остались силы на это настоящее.
АЗИАТ. Вы заблуждаетесь.
РОГМЮЛЛЕР. Перестаньте. Она любила парня, которого пришлось убрать, чтобы сохранить ее для нас. Мы оберегаем от любви.
АЗИАТ. От этого нельзя уберечь. И если она узнает, что ее парня убрали ваши люди, она наделает массу глупостей.
РОГМЮЛЛЕР. Она не узнает. Парня убрал я. Мне это было больно делать, поскольку за день перед этим он спас жизнь мне и моему другу, толстяку из Ганновера.
АЗИАТ. Только не говорите, что вы сделали это во имя долга. Вы любите ее. Трагедия европейцев заключается еще и в том, что вы любите одну женщину. Мы – многоженцы… Это для того, чтобы сердце принадлежало многим; когда оно отдано многим, оно принадлежит только одному. Мне.
В варьете входит толстуха, которой Фрэд в первой картине не советовал брать Леже. Она подходит к АЗИАТУ и что-то шепчет ему на ухо. АЗИАТ, кивнув, отпускает толстуху.
РОГМЮЛЛЕР. Ну что?
АЗИАТ. Пока все идет по намеченному вами плану. Он обнял её… Когда европейцы волнуются, они обычно курят. Хотите хорошую сигарету из Анкары?
РОГМЮЛЛЕР. Миленький мой дружочек, запомните раз и навсегда: ботинки, которые жмут, у нас в Европе в хорошем магазине обуви обмениваются администрацией.
АЗИАТ. Да?
РОГМЮЛЛЕР. Да.
АЗИАТ. Я служу вам пять лет, и я уже успел познакомиться с половиной вашей агентуры в Европе. А сейчас я увидел, что вы можете терять лицо от любви к женщине – вашему агенту, и в довершение ко всему вы сказали мне, что горноспасателя, которого любила певица Ани, убрали вы. Менять ботинки больше подходит мне по ситуации. В теперешней ситуации вам следует терпеть.
РОГМЮЛЛЕР. Меня шантажировали в Белграде после дела Барту, в Париже и в Мадриде в сентябре тридцать седьмого.
АЗИАТ. Я знаю. Это была Европа, но я – Азия.
РОГМЮЛЛЕР. Мне это надоело. Идите и делайте свое дело. Я крайне устал, мой друг.
АЗИАТ. Давайте все-таки закончим этот необыкновенно важный для нас обоих разговор именно сейчас.
РОГМЮЛЛЕР. Какие-то занятные интонации появились в вашем голосе.
АЗИАТ, открыв занавеску, манит пальцем человека. Тот входит и передает АЗИАТУ маленький кожаный ящичек. Это диктофон. АЗИАТ кивком головы отпускает человека. Тот уходит. АЗИАТ находит то место пленки, где Рогмюллер говорит ему о том, что горноспасателя убрал он сам, проигрывает слова Рогмюллера: «… Она не узнает. Парня убрал я. Мне это было больно делать, поскольку за день перед этим он спас жизнь мне и моему другу, толстяку из Ганновера…»
АЗИАТ. Этого достаточно, не так?
РОГМЮЛЛЕР. Пожалуй.
АЗИАТ. Тогда начнем?
РОГМЮЛЛЕР. Кому вы служите?
АЗИАТ. Азии. Вы отняли у нас все. Вы помешали нам думать. Вы нарушили наши устои, наши обычаи, вы внесли свою европейскую суету в нашу жизнь. Мы пришли к вам – маленькие и униженные, скрывающие тысячелетнюю ненависть за стеклами очков. Мы пришли учиться вашему современному коварству. Мы научились ему и теперь возьмем обратно то, что вам не принадлежит по праву. Нам теперь легче, потому что есть вы – доктрина национал-социализма. Вы – дрожжи, на которых западный мир вырастет для того, чтобы залить себя кровью. После сюда придем мы. Наиболее умные из вас станут тогда нам служить. А вы – умнейший из умных – начнете работать на меня сейчас.
РОГМЮЛЛЕР. Черт возьми, я все-таки был прав: в разведку идут или полные болваны, или гении. Вы умница – ни разу не заговорили о деньгах. Ну-ка, давайте руку – кто кого положит?
Они меряются силой. РОГМЮЛЛЕР кладет руку АЗИАТА на стол.
АЗИАТ. Теперь левой.
РОГМЮЛЛЕР. Бьют обычно правой.
АЗИАТ. Мы бьем с обеих рук.
Снова меряются силой, и теперь АЗИАТ легко кладет на стол руку РОГМЮЛЛЕРА.
РОГМЮЛЛЕР. Браво. Вот теперь я не отказался бы от хорошей сигареты из Анкары.
АЗИАТ (протягивает портсигар). Пожалуйста.
К АЗИАТУ подходит молоденькая продавщица цветов, мто-до шепчет ему на ухо.
АЗИАТ. Хорошо. Возвращайтесь туда.
Девушка уходит.
РОГМЮЛЛЕР. Интересные новости?
АЗИАТ. Прежние. Они сейчас смотрят танцы братьев-близнецов.
РОГМЮЛЛЕР. Как реагируют?
АЗИАТ. Принимают очень хорошо. Когда вы передадите мне агентуру? Певицу – в первую очередь. Она станет Матой Хари, когда начнет работать на нас.
РОГМЮЛЛЕР. Вы же говорили, что знаете мою агентуру.
АЗИАТ. Знать не означает владеть. Цифры, банковские счета, компрометирующие материалы, данные телефонных прослушиваний, явки – это значит владеть агентурой. Причем, поверьте, мешать я вам не стану. Даже совсем наоборот. Я буду по-прежнему помогать вам.
РОГМЮЛЛЕР. Кофе?
АЗИАТ. С удовольствием.
РОГМЮЛЛЕР. Шарль!
Появляется ОФИЦИАНТ.
Два кофе.
ОФИЦИАНТ уходит, царственно поклонившись.
АЗИАТ. Вы достойно проиграли. Я вел вас пять лет, с тех пор, как работаю на вас. Я очень рад, что мне не пришлось прибегнуть к тем компрометирующим материалам, которые бросают на вас тень.
РОГМЮЛЛЕР. Ради любопытства – покажете как-нибудь?
АЗИАТ. Я могу это сделать сейчас, всё у меня в портфеле.
РОГМЮЛЛЕР. Довольно рискованно носить такой материал в портфеле.
АЗИАТ. Я был убежден, что этот разговор состоится именно сегодня. Вы были очень взволнованы тем, как поведет себя певица. И не столько в деле, сколько в плане личного общения с журналистом. Нет?
РОГМЮЛЛЕР. Да.
АЗИАТ. Вот видите. Поэтому вы потеряли контроль над собой – даже в разговоре с единомышленником. Поверьте, мы, азиаты, думаем дальше и точнее, чем вы.
ОФИЦИАНТ приносит кофе, ставит на столик и удаляется.
РОГМЮЛЛЕР. Там никого нет, за занавеской?
АЗИАТ. Мы одни.
РОГМЮЛЛЕР. Я имею в виду не только ваших людей.
АЗИАТ поднимается и заглядывает за занавеску, РОГМЮЛЛЕР в это время кошачьим движением достает из кармана маленький шарик и бросает его в кофе АЗИАТУ.
АЗИАТ (вернувшись). Там никого.
РОГМЮЛЛЕР. Вы будете делать какие-нибудь пометки?
АЗИАТ. Нет, вы будете говорить. Я запишу ваш голос – это надежнее любой расписки.
РОГМЮЛЛЕР. Диктофон сильно меняет голос.
АЗИАТ. У нас хорошие пленки, Фрэд.
РОГМЮЛЛЕР. Тогда прекрасно. Как вам этот кофе?
АЗИАТ. Великолепный кофе.
РОГМЮЛЛЕР. Помните, вы мне рассказывали великолепную новеллу о разнице между азиатами и европейцами?
АЗИАТ. За последние пять лет у нас с вами было восемь разговоров на эту тему. Какой именно вы имеете в виду?
РОГМЮЛЛЕР (дождавшись, пока АЗИАТ допил кофе). Я имею в виду вашу новеллу об отравленном хмеле.
АЗИАТ. О хмеле?
РОГМЮЛЛЕР. Пистолет вы достать уже не сможете. Руки не двигаются, да?
АЗИАТ медленно оседает на стуле, глаза его начинают стекленеть.
Помните, вы говорили мне, что азиат, если он хочет убрать врага, поначалу сажает отравленный хмель, делает из него отравленное пиво и пьет его по каплям, чтобы приучить себя к яду. Потом приглашает к себе врага, принимает его как лучшего друга и угощает его отравленным пивом, пьет это пиво сам, но враг умирает, а он – жив, и никто не обвинит его в злодействе, потому что он тоже пил из этой же бутылки вместе с покойником. Ну а мы, бедные европейцы, продолжаем работать по старинке.
АЗИАТ падает со стула. РОГМЮЛЛЕР обыскивает АЗИАТА, забирает у него все из кармана, берет портфель, диктофон и уходит. Появляется ОФИЦИАНТ. Приподнимает стол, достает маленький микрофон, прячет его, быстро уходит. Слышен его крик: «На помощь! Сюда! Фрэд убил человека!»
Затемнение.
3
Стеклянное кабаре аэропорта. За столиком – АНИ и ЖУРНАЛИСТ. Рядом за столиком три католических монаха пьют чай. Играет джаз. К столику подсаживается один из БРАТЬЕВ-ДВОЙНИКОВ, исполнитель ритмических танцев.
АНИ. Я хотела поблагодарить вас. Вы настоящие артисты.
ТАНЦОР. Нам с братом очень приятно слышать это от вас.
ЖУРНАЛИСТ. Вас объявили как чилийцев. Вы испанцы или португальцы?
ТАНЦОР. Мы венесуэльцы.
ЖУРНАЛИСТ. Парле испаньоль?
ТАНЦОР. Мы говорим только на немецком, идише и древнеиудейском. Мы с братом евреи, подданные рейха. Рейхсминистр Геббельс ценит искусство моего брата и мое. Поэтому мы были пожалованы за наше искусство венесуэльской национальностью.
Слышен голос диктора: «Через десять минут вылетает самолет “Эйр Франс” рейсом в Дакар. Просим пройти пассажиров к посадочному полю».
Знаете, когда рейхсмаршалу Герингу сказали, что маршал Мильх – полукровка, наш великий вождь ответил: «Я сам решаю, кто у меня в штабе еврей, а кто – не еврей». Не правда ли, это гуманно и остроумно?
ЖУРНАЛИСТ. По-моему, это вандализм.
ТАНЦОР. Тише! Что вы говорите? Разве можно так громко?!
ЖУРНАЛИСТ. Слава богу, здесь еще пока что не ваш рейх.
ТАНЦОР. Не говорите так, умоляю вас… Я же вижу фрейлейн – немка.
Голос Диктора: Самолет «Пан америкэн эйрлайн систем» выполняет рейс в Мадрид. Просим пассажиров занять места в аэроплане.
ЖУРНАЛИСТ. Мир в двадцатом веке обязан принадлежать человечеству, а не какой-то одной избранной нации.
ТАНЦОР. Зачем вы так говорите? Зачем вы пугаете меня? Вы так нарочито громко произносите свои ужасные слова?! (Уходит.)
АНИ. Они очень напуганы. Их семьи живут в Германии. Не надо с ними так говорить. Это безжалостно.
ЖУРНАЛИСТ. Жалость? Сострадание? Эти мерзкие химеры? Да еще по отношению к евреям? Какой позор, Ани…
АНИ поднимается, чтобы уйти, ЖУРНАЛИСТ берет ее за руку и рывком сажает подле себя. Она как-то покорно обмякает и опускается подле него. В это время появляется РОГМЮЛЛЕР. Он видит всю эту сцену. Подходит к столику.
РОГМЮЛЛЕР. Хэлло, Ани, добрая ночь, сэр. Внизу заняты все столики. Вы позволите мне присесть у вас?
ЖУРНАЛИСТ. Садитесь.
РОГМЮЛЛЕР. Ани молчит…
ЖУРНАЛИСТ. Садитесь.
РОГМЮЛЛЕР. Благодарю. Я сегодня весь вечер ломаю голову – где я вас видел?
ЖУРНАЛИСТ. Мы встречались при довольно занятных обстоятельствах в Испании и Германии. Заочно, правда.
АНИ. Фрэд – американец.
РОГМЮЛЛЕР. Я никогда не бывал в Германии. Вообще ненавижу немцев… Жирные колбасники.
ЖУРНАЛИСТ. А как быть с бедным Моцартом?
РОГМЮЛЛЕР. Он – выродок. Веселый парнишка, который хорошо умел любить. Немцы не умеют любить.
ЖУРНАЛИСТ. Да? Занятный вы парень…
К их столику подходит ТАНЦОР – это второй брат-близнец.
ТАНЦОР. Что вы здесь говорили моему брату? Он в истерике, он портит номер, роняя этим престиж великого рейха! Он артист, и не смейте путать его в вашу проклятую политику! Мы благодарны нашему рейху и обожаемому фюреру! А ваши гнусные разговоры нам отвратительны! Мы – венесуэльцы, ясно вам! Мы не имеем никакого отношения к проклятым евреям! Евреи в рейхе – слуги Рузвельта и Сталина!
ЖУРНАЛИСТ. Вон отсюда! Вон!
ТАНЦОР, враз сникнув, отходит от столика.
АНИ. Боже мой… Зачем вы так?
ЖУРНАЛИСТ. Я видел, как в вашем рейхе убивают людей за то лишь, что они не принадлежат к арийской расе…
РОГМЮЛЛЕР. Я никогда не думал, что журналисты умеют быть такими грозными.
ЖУРНАЛИСТ. Откуда вы знаете мою профессию?
РОГМЮЛЛЕР. Я стараюсь знать все о тех людях, которым нравится Ани. Ее покойный приятель был моим другом. Он погиб у меня на руках.
ЖУРНАЛИСТ. Простите, я сейчас.
Отходит к телефону, набирает номер. Тихо разговаривает.
РОГМЮЛЛЕР (наблюдая за ЖУРНАЛИСТОМ, негромко). Ани, вы заметили, что ваше чувство, если оно становится серьезным, трагично. Всякий, кем вы по-настоящему увлекаетесь, гибнет.
АНИ. Значит, на очереди вы, Фрэд.
РОГМЮЛЛЕР. Не лгите.
АНИ. Чем вы взволнованы?
РОГМЮЛЛЕР. Если этот парень не просто проведет с вами ночь, но будет спать с вами, он погибнет. Вы должны выполнить свой долг без этой… жертвы…
АНИ. А если это не жертва? Если я хочу этого?
РОГМЮЛЛЕР. Ани… Не надо так шутить… Ани…
АНИ. Знаете, какая самая страшная пытка двадцатого века?
РОГМЮЛЛЕР. Я не палач.
АНИ. Пытка – это постоянная память о тех, кто погиб, встретившись со мной. Это память о тех, кого я подставляла под ваш удар. Я понимаю, что из этой вашей игры мне нельзя выйти, но я очень… я смертельно устала… У меня так никогда не было.
РОГМЮЛЛЕР. Я обманывал вас когда-нибудь?
АНИ. Это глупо – обманывать агента. Обманутый агент становится двойником.
РОГМЮЛЛЕР. После того как завтра мы закончим операцию, я сделаю вам предложение, Ани. И если вы примете его, я буду готов нести любое наказание на родине, но вы окажетесь вне игры. Я закрою вас собой.
АНИ. А память, Фрэд? Что делать с нашей памятью? С моей, но особенно с вашей?
Подходит ЖУРНАЛИСТ.
ЖУРНАЛИСТ. Ани, мы можем идти.
АНИ. Спокойной ночи, Фрэд.
РОГМЮЛЛЕР. Всего хорошего, Ани. Доброй ночи, сэр. Сейчас стало очень холодно, видно, днем в горах прошли снежные обвалы.
ЖУРНАЛИСТ. Какое это имеет отношение к сегодняшней ночи?
РОГМЮЛЛЕР. Прямое, сэр, прямое. Ани может простудить горло, а это ее хлеб. Может быть, вы позволите мне довезти вас к вашему приятелю?
ЖУРНАЛИСТ. Почему вы решили, что мы едем к моему приятелю?
РОГМЮЛЛЕР. Куда еще едут так поздно?