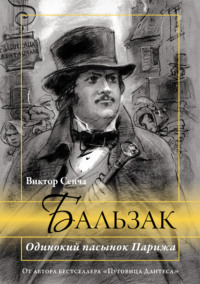
Бальзак. Одинокий пасынок Парижа
– Оноре, дружок, как твои зубы? – спросит, бывало.
– Всё в порядке, Адриен, а что?
– У тебя же на нижнем коренном имелось дупло… Помню, как ты мучился. Сходил бы к дантисту…
– Да я про тот зуб давно забыл! Приложил к вздувшейся десне, как подсказала молочница Генриетта, свиное сало, и зуб тут же успокоился.
– Но ведь там же дупло! – не унимался Даблен. – Зуб снова заболит, его непременно следует полечить…
– Ерунда! Запомни: волки никогда не обращаются к зубодёрам. А клыки у них – ух!..
* * *Мансарда в шестиэтажном доме была далека от совершенства и напоминала скорее склеп, нежели жилое помещение.
Её описание мы без труда находим в «Шагреневой коже»: «Как ужасна была эта мансарда с желтыми грязными стенами! От нее так и пахнуло на меня нищетой… в щели между черепицами сквозило небо… Комната стоила мне три су в день…»
Убогость каморки сильно раздражала: окружающий мир следовало переделывать под себя. Письменный стол… Его просто не было. Хозяин жилья и не думал тратиться на такую роскошь: кому он нужен, этот письменный стол?! Разве какому-нибудь сумасшедшему писаке – так такому не место в подобной мансарде на улице Ледигьер. Вместо стола – бюро. Жалкое и обшарпанное, как сама каморка, покрытое неприглядным сафьяном. Старое кресло, стоявшее в углу, угрожало оказаться рассадником тысяч безжалостных клопов… То же с матрасом расшатанной кровати. А эти облезлые стены!
Нет-нет, здесь всё будет по-другому. Сюда, в простенок, он повесит великолепное зеркало в золочёной раме… А здесь, напротив, будет помещена гравюра с изображением родных сердцу турских лугов… Письменное бюро следует хорошенько отмыть, поставив на него бронзовый подсвечник… Вороньи перья, писчая бумага, чернильница… Шаткий стул, на котором будет сидеть при написании сочинений, следует отдать в починку…
Эти несчастные су! Складываясь один к одному, они превращались в солидные десятки и сотни, а потом… Потом – во франки. Франки – это угроза впасть в долги, что вообще недопустимо. Как говорила матушка, он должен быть осмотрителен и бережлив. Иначе не продержаться. Легко сказать! Денег сильно не хватало. В мансарде постоянно гулял ветер. Следует прикупить тёплый халат, а на голову – ватиновый колпак. И… и… и…
Эти «и» убивали! Им не было конца. От мелких делишек раскалывалась голова! И лишь перо и шуршащая под ним бумага освобождали от надоедливых мыслей. Тогда-то и начиналось самое настоящее: на сцене появлялся истинный Оноре. Думающий и пишущий. В обнимку с его героями, характерами, действиями персонажей, их мыслями, чувствами, переживаниями и потребностями. Всё это и был Бальзак, выросший из безвестного сочинителя в великого романиста.
Первые шишки оказались болезненны. И всё же мысль о свободе окрыляла. Свобода! Наслаждаться ею хотелось вечно.
«Помню, как весело, бывало, я завтракал хлебом с молоком, – пишет Оноре в «Шагреневой коже», – вдыхая воздух у открытого окна, откуда открывался вид на крыши, бурые, сероватые или красные, аспидные и черепичные, поросшие желтым или зеленым мхом. Вначале этот пейзаж казался мне скучным, но вскоре я обнаружил в нем своеобразную прелесть. По вечерам полосы света, пробивавшегося из-за неплотно прикрытых ставней, оттеняли и оживляли темную бездну этого своеобразного мира. Порой сквозь туман бледные лучи фонарей бросали снизу свой желтоватый свет и слабо означали вдоль улиц извилистую линию скученных крыш, океан неподвижных волн… Словом, поэтические и мимолетные эффекты дневного света, печаль туманов, внезапно появляющиеся солнечные пятна, волшебная тишина ночи, рождение утренней зари, султаны дыма над трубами – все явления этой необычайной природы стали для меня привычны и развлекали меня. Я любил свою тюрьму, ведь я находился в ней по доброй воле».
Всё по-честному: юноша наслаждался тем, что выбрал сам, по собственной воле.
Но как же ты ошибался, милый Оноре! Свобода – та же медаль: при наличии лицевой стороны обязательно бывает оборотная…
* * *Итак, Париж, улица Ледигьер. Начало литературного поприща молодого и начинающего писателя. Париж – не Тур, и даже не все те городки, где он бывал, вместе взятые. Париж – это Париж, столица. Лувр, Нотр-Дам-де-Пари, Елисейские Поля, Булонский лес…
Однако пока столица вдохновляла – и только. А ещё – соблазняла. Но вот славой и не пахло. Ни славы, ни признания собратьев по перу, ни звона в кармане золотых, ни хруста крупных ассигнаций, ни дорогих обедов в кругу почитателей-обожателей (и обожательниц!) – ничего! Каторжный труд взамен скудного обеда. Пока только это. Оставалось последнее – надежда. Вот она-то и придавала юному и тщеславному человеку веру в себя и в то, чем он занимался. Хотя, как уверяют мудрецы, иногда для высокой цели бывает достаточно одной лишь надежды.
Первый серьёзный труд обернулся большим разочарованием. В конце апреля 1820 года, как пишет сестра Лора, Оноре явился к отцу с готовой трагедией. Во всё лицо белозубая улыбка, а в глазах – торжество триумфатора. Молодой писатель уверен: его «Кромвель» гениален! Кропотливый труд во время бессонных ночей должен был окупиться сторицей.
Для начала организовали чтение в кругу друзей. И вот все в сборе.
«Друзья являются, начинается торжественное испытание, – вспоминает сестра. – Восторг автора постепенно стынет, ибо по лицам слушателей, холодным либо удрученным, он замечает, что не производит большого впечатления. Я была в числе удрученных. То, что я выстрадала во время этого чтения, предвосхитило тот ужас, коий довелось мне испытать при первых представлениях “Вотрена” и “Кинолы”. “Кромвель” еще не был отмщением г-ну ***; последний с обычной резкостью высказал свое мнение о трагедии. Оноре, повысив голос, отвергает его суждение, но прочие слушатели, хотя и в более мягкой форме, тоже говорят, что произведение весьма несовершенно. Наш отец собирает все суждения и предлагает дать прочитать “Кромвеля” какому-нибудь почтенному лицу, знающему и беспристрастному. Г-н де Сюрвиль, инженер, строитель Уркского канала, который впоследствии станет его зятем, предлагает своего бывшего учителя из Политехнической школы. Брат принимает этого литературного старейшину в качестве верховного судии. Славный старик добросовестно прочитал пьесу и объявил, что автору следует заняться чем угодно, только не литературой. Оноре мужественно принял этот удар – он не дрогнул и не разбил себе голову о стену, ибо не признал себя побежденным.
– Трагедии не мое дело, вот и все, – сказал он и снова взялся за перо»{42}.
Кажется, Цицерон заметил: поддержи талантливого, ибо бесталанный пробьёт себе дорогу сам! Бесценный дар Оноре нуждался в поддержке. Неужели труду стольких бессонных ночей уготовано бесславно желтеть в письменном столе? Нет, этому не бывать! Ему просто завидуют! А если нет?..
Близкий товарищ Оноре Даблен, видя состояние друга, взялся помочь:
– Стоит ли грустить, Оноре? Твой «Кромвель» просто великолепен, но кто его видел?
– Ну… моя трагедия… некоторые считают её скучной…
– Ерунда! Если предлагать – то труппе Comédie-Française.
– Comédie-Française? – удивился тот.
– Вот именно. Там халтура не пройдёт! А «Кромвель» – никакая не халтура. Все будут сражены глубиной твоего таланта и отточенностью исторических персонажей…
Друг познаётся в беде. И очень хорошо, когда рядом этот самый друг имеется. Бескорыстный поступок добряка Даблена позже найдёт отражение не в одном бальзаковском романе. А пока он, скромный торговец скобяными товарами, имевший к театральным подмосткам не бо́льшую близость, чем Колумб к индийским берегам, пытается найти кого-то, кто смог бы помочь начинающему гению.
«Ценитель» нашёлся в лице некоего мсье Лафона – отнюдь не театрального кумира, тем не менее настоящего актёра. Его никто не знает, ибо роли, которые тот играет в Комеди́ Франсе́з, безнадёжно проходные – «подай-принеси» и «кушать подано». Это для изысканной театральной публики: если уж актёра – так непременно уровня Рокур или Франсуа Тальма. Но в глазах Оноре и Лафон за счастье. Ведь если он (сам Лафон!), ознакомившись с «Кромвелем», представит трагедию молодого драматурга (а она просто не может не понравиться!) своим партнёрам по театру, то драма будет немедленно поставлена в столичном Comédie-Française. А это несомненное признание таланта! Трагедией заинтересуются члены правительства и, кто знает, быть может, сам король Луи! Вот он, прямой путь к Славе и Богатству.
Однако в последний момент уже заупрямился сам Оноре:
– Нет, с меня хватит! Если и этот, как его…
– Мсье Лафон…
– Если и этот именитый актёр скажет, что мой «Кромвель» – тягомотина, у меня окончательно сдадут нервы, после чего вообще не останется сил писать дальше.
– Но как же быть? – воскликнул Даблен.
– Хватит критиков, они мне просто надоели! Я им всем докажу, что Оноре Бальзак кое-что может. Поверь, настанет час, когда все эти критики при упоминании моего имени будут снимать шляпы…
* * *Как бы то ни было, пока для начинающего писателя всё выглядело довольно безрадостно. Из окна мрачной мансарды Оноре видел лишь унылую повседневность – редких прохожих да кровли парижских домов («бурые, сероватые или красные, аспидные и черепичные»). Тоска и неопределённое будущее. Впору вешаться…
Впрочем, последнее в планы юного Бальзака никак не входит. Дитя Империи, он вместе с молоком матери (правильнее – кормилицы) впитал в себя почти фанатичное обожание Наполеона. То было поколение, влюблённое в своего императора больше, чем в родного отца. До мозга костей. До умопомрачения. И пусть императорская армия разбита, а кумира французов отныне называют не иначе, как узурпатором, не так-то просто отнять предмет всеобщего обожания. Выходец из простой семьи, покоривший полмира, – это ли не тот, которому следует поклоняться? И если Наполеон стал императором, завоевав Европу оружием, то почему бы ему, Бальзаку, молодому и талантливому, не стать… императором пера? Фантастично? Конечно. Только кто сказал, что не осуществимо? Ведь он не простой писака, а Бальзак! Оноре де. Последняя маленькая приписка, появившаяся не столь давно у всей семьи, ещё больше укрепляла его веру, придавая смелости и окрыляя надеждой.
Из письма сестре Лоре: «…Великий Расин потратил два года на отделку “Федры”, предмет зависти всех поэтов. Два года!.. два года!.. подумай только, целых два года!.. Но мне сладостно, изнуряя себя день и ночь, мысленно связывать свои труды со столь дорогими мне существами! Ах, сестра, если небо одарило меня хоть крупицей таланта, великой радостью для меня будет увидеть, как моя слава озарит всех вас! – писал он сестре. – Что за блаженство победить забвение и еще больше прославить имя Бальзака! При этой мысли кровь у меня бурлит! Когда мне случается набрести на удачную идею, мне кажется, что я слышу твой голос: “Ну же, держись!”
…Какие страдания приносит любовь к славе! Да здравствуют бакалейщики, черт побери! Они весь день продают, вечером подсчитывают выручку, время от времени упиваются какой-нибудь мерзкой мелодрамой – и счастливы!.. Однако они проводят все свое время между сырами и гостиной. Живут полной жизнью скорее литераторы; однако все они сидят без гроша и богаты только спесью. Да что там! Пусть себе живут, как знают, и те и другие, и да здравствуют все на свете!»{43}
И всё-таки ему тяжело. Рядом с гением всегда кто-то должен быть рядом – тот, кто бы помогал, баловал, заботился и любил. Без любящего «кого-то» трудно втройне.
Однажды он сообщил Лоре, что нанял слугу:
«…У него такое же смешное имя, как у слуги доктора. Тот слуга зовется Тихоня, а мой зовется Я-сам. Право, скверное приобретение!.. Я-сам ленив, неловок, нерасторопен. Его хозяин хочет есть, хочет пить, а он не предлагает ему ни хлеба, ни воды – он даже не может защитить его от ветра, дующего в дверь, и в окно, как Тюлу в свою флейту, только не так приятно.
Следует выговор хозяина слуге.
– Я-сам! – Чего изволите, сударь? – Видите вы эту паутину, в ней жужжит большая муха, да так громко, что я чуть не оглох! А эту живность, прогуливающуюся по постели, а эту пыль на оконных стеклах, от которой я слепну?..
Лентяй глядит, но не трогается с места! И несмотря на все эти недостатки, я не могу расстаться с этим тупицей Я-самом!..»{44}
В другом своём письме он продолжает начатую тему со слугой Я-самом:
«Новости насчет моего хозяйства самые плачевные: работа вредит опрятности. Бездельник Я-сам все больше распускается. Он выходит за покупками только раз в три-четыре дня к самым близким лавочникам, продающим самую скверную провизию во всем квартале; прочие слишком далеко, а этот малый экономит даже на движениях. Так что твой брат (коему предназначено сделаться столь знаменитым) уже сейчас питается как великий человек, иными словами, умирает с голоду!
Другое зловещее обстоятельство: кофе убегает и разводит ужасную пакость на полу; требуется много воды, дабы возместить ущерб; но поскольку вода сама не поднимается в мою поднебесную мансарду (она только стекает оттуда в ненастные дни), придется предусмотреть после покупки фортепьяно установку гидравлической машины, если кофе и впредь будет убегать, пока хозяин и слуга ворон считают. Не забудь послать мне вместе с Тацитом плед, чтобы укрывать ноги; и если бы ты могла присоединить к этому какую-нибудь старую-престарую шаль, она пришлась бы очень кстати. Ты смеешься? Это именно то, чего мне недостает для моего ночного одеяния. Сперва надо было подумать о ногах, которые больше всего мерзнут; я закутываю их в туренский каррик… Вышеупомянутый каррик закрывает только полтела, верхняя часть остается незащищенной от мороза, которому надо проникнуть лишь сквозь крышу и мою куртку, чтобы добраться до кожи твоего братца, слишком, увы, нежной, дабы его переносить; так что холод меня покусывает.
Что касается головы, то я рассчитываю на дантовский колпак, чтобы спасаться от аквилона. Экипированный таким образом, я смогу очень приятно существовать в своем дворце!..»{45}
Но это быт, каков он есть у одинокого молодого человека. То – некий занавес, скрывающий от остальных главное – работу. Бальзак трудится не покладая рук: он пишет. Ибо знает: не будет писать – потеряется смысл его теперешней жизни. Ведь просто брызгать чернилами – не самоцель. Цель в другом – стать не просто писателем, а знаменитым, кумиром читателей!
«Ты спрашиваешь, что нового? – обращается Оноре в очередном письме к сестре. – Надо тебе рассказать; на мой чердак никто не приходит, значит, я могу говорить только о себе и болтать всякий вздор, например: на улице Ледигьер № 9 случился пожар, прямо в голове одного бедного молодого человека, и пожарные не смогли погасить огонь. Поджог совершила прекрасная женщина, с которой он даже не был знаком, говорят, что она живет во Дворце четырех наций, за мостом Искусств; она зовется Слава. Беда в том, что погорелец рассуждает, он говорит себе: “Есть у меня талант или нет, в обоих случаях я готов ко многим огорчениям! Без таланта я пропал! Придется провести всю жизнь, постоянно чувствуя неудовлетворенные желания, мелкую зависть, горькие муки!.. Если у меня есть талант, меня будут преследовать, клеветать на меня; в таком случае, я знаю, мадемуазель Слава прольет немало слез!..”»{46}
С некоторых пор на его рабочем столе появляется гипсовая статуэтка незабвенного кумира – Наполеона. К ножнам шпаги Бонапарта Оноре прикрепит «скромную» табличку: «Завершить пером то, что он начал мечом! Оноре де Бальзак».
Завершит. Правда, на это уйдут годы…
* * *Сестра нашего героя, Лора Бальзак, была под стать старшему брату – умной и чрезмерно мечтательной. А ещё унаследовала от матушки врождённый максимализм – в частности, в вопросе о браке. Уж если любить – так достойного; а замуж – непременно за лорда! Хотя, если подумать, можно бы и за маркиза. Ведь она прехорошенькая, да ещё и умница, каких поискать. Замуж не против, но чтоб не за старика-зануду. И совсем было бы хорошо, попадись молодой, красивый, знатный да богатый. Ну и с приложением в виде «де».
Однако достойных женихов на любовном горизонте пока не находилось. Если был красив – то беден; богатый – старый и скряга; знатный – «чёрный вдовец», сменивший трёх жён… Никого. Ну вот ещё… мсье Сюрвиль. Но разве этот инженер-путеец, окончивший, кстати, Политехническое училище и что-то ремонтировавший на обводном канале реки Урк, близ Вильпаризи, – так вот, разве он пара? Нет и нет! Не тот масштаб! Да, он умён и широких взглядов. Не вздорен и, кажется, влюблён. В неё, в Лору. А Лора? Она в нерешительности.
«В ту пору я еще жила в царстве мечты, – вспоминала Лора. – Вдруг я в один прекрасный день разбогатею, вдруг я выйду замуж за лорда, вдруг, вдруг, вдруг!..»{47}
Мсье Сюрвиль – не лорд, и даже не маркиз. Да и без «де». Хотя… хотя это самое «де» всё-таки имелось. Эжен-Огюст-Луи был внебрачным ребенком провинциальной актрисы Катрин Аллен. Фамилия Сюрвиль – сценический псевдоним его матушки. А вот отец скончался ещё до рождения сына. На помощь матери-одиночке пришёл родной брат умершего отца, богатый руанец, который назначил побочному сыну брата годовую ренту в тысячу двести ливров. Ещё через какое-то время по решению суда Эжен был признан «побочным сыном покойного Огюста Миди де ла Гренере, имеющим право в качестве такового считаться наследником своего отца». Хотя юный Эжен продолжал называть себя Аллен-Сюрвиль.
Таким образом, мсье Сюрвиль – наследник «покойного Огюста Миди де ла Гренере», своего отца; следовательно, настоящий дворянин с достойной наследника частицей «де». Ничего удивительного, что инженер Миди де ла Гренере-Сюрвиль, в отличие от Лоры де Бальзак, считал девушку прекрасной для себя партией.
«На Новый год он явился с конфетами, но напрасно, – пишет А. Моруа. – Его банальные подарки встречали с пренебрежением. Однако в мае 1820 года молодой инженер наконец воспользовался своим правом на отцовское имя – Миди де ла Гренере – и наследство. Узнав о брачных планах сына, Катрин Аллен открыла ему тайну его рождения. В письме, адресованном графу де Бекке, генеральному директору ведомства путей сообщения, Эжен указывал, что его матушка до сих пор не позаботилась добиться исполнения давнего решения суда, а потому ему пришлось съездить в Руан, чтобы узаконить свое гражданское состояние. И он просил отныне именовать его Миди де ла Гренере-Сюрвиль»{48}.
Последнее обстоятельство многое меняло. Пожизненная рента молодого человека могла обеспечить семье жизнь в достатке. Лора извелась: но он ведь даже не маркиз!
– Послушай, деточка, такими женихами не бросаются! – насела на капризную дочурку матушка. – Мсье Сюрвиль – инженер, имеет приличное жалованье… У него впереди прекрасная карьера! Хорошенько подумай, дочь моя, хотя и думать нечего: блестящая партия!..
Пьер Сиприо: «Лора строила воздушные замки. Она хотела выйти замуж за юного и прекрасного пэра Франции, карета которого была бы украшена старинным родовым гербом. Все претенденты получали безоговорочный отказ. Один – “из-за слишком худых ног, другой – из-за близоруких глаз, третий – из-за фамилии Дюран”. Сюрвиль не вскружил голову Лоре, но к нему она в конце концов почувствовала симпатию».{49}
Лора была послушной дочерью. 18 мая 1820 года она выйдет замуж за мсье Сюрвиля. Венчались в парижской церкви Сен-Мерри, куда съехались многочисленные гости и родственники. Но всё это явилось некой парадной вывеской. А суровая правда заключалась в том, что жених оказался заурядным инженером второго класса со скромным жалованьем в двести шестьдесят франков в месяц, что было меньше условий, оговорённых в брачном контракте.
Однако в данной ситуации Лора повела себя в высшей степени достойно. Победила её покладистость. Как правильно замечает Андре Моруа, не в силах похвалиться настоящим, она «сама придумывала себе блестящее будущее. Уж она-то продвинет мужа по службе, пустит в ход свои связи и добьется для него подряда на строительство всех каналов Франции».{50}
Лора де Сюрвиль оказалась прекрасной женой, во многом слепившей свою семью собственными руками.
* * *За полтора года жизни в «литературной мансарде» Оноре Бальзак набил немало творческих шишек, которых ему потом хватило на годы вперёд. От здорового духа почти ничего не осталось – впрочем, как и от здорового тела. Парнишка так отощал, что матушка почти в категоричной форме заставила сына вернуться в лоно семьи, окружив «гения от литературы» домашним теплом и заботой. Нет, это не было капитуляцией! Как считал сам Бальзак, то было кратким временем собраться с новыми силами.
«Ныне я понимаю, что не богатство составляет счастье человека, – однажды напишет Оноре в письме Лоре. – …Те три года, которые я проведу (здесь), будут для меня всю остальную жизнь источником радостных воспоминаний. Ложиться спать, когда заблагорассудится, жить, как тебе вздумается, работать над тем, к чему есть склонность, а когда не хочется, вовсе ничего не делать, не ломать голову над будущим, встречаться только с умными людьми… и покидать их, когда они тебе наскучат, видеть глупцов только мимоходом и поспешно уходить, завидя их; думая о Вильпаризи, вспоминать только хорошее; иметь своей возлюбленной Новую Элоизу, своим другом – Лафонтена, своим судьей – Буало, своим образцом – Расина и местом для прогулок – кладбище Пер-Лашез… Ах, если бы это могло длиться вечно!..»{51}
И всё-таки начинающий писатель угнетён. Его жизнь пролетала в постоянном труде, а на выходе… На выходе почти ничего. Пшик!
Двадцатые годы XIX века – расцвет в литературе английского романтизма. Книги Байрона и Вальтера Скотта во Франции раскупаются на ура. Читателям хотелось пиратов, рыцарей и пылкой любви. А также чего-нибудь мистического: узников таинственных замков, ведьм, колдунов, любвеобильных пажей и обиженных красоток, взывающих о помощи.
Первый роман Бальзака – «Стени, или Философические заблуждения» («Sténie»), написанный в стиле Руссо и выпорхнувший из-под его пера, как поначалу казалось, чтобы прославить даровитого автора, – очень быстро принёс разочарование. Всё то же, на потребу публики: «колдунья-магнетизёрша», узники в цепях, средневековая поножовщина… Однажды он не выдержит: «Это не роман, это оскомина!..» Со «Стенией» получилась одна морока: сто раз садился за неё и столько же раз бросал. Так и не закончил. Оскомина.
А в голове ещё один роман… и ещё…
Романы – хорошо. Но для молодых французов имелось занятие посерьёзнее, чем сочинять сказки про любовь. Например… военная служба.
А. Труайя: «Его угнетает возможность провести годы на военной службе, но первого сентября 1820 года судьба улыбнулась Оноре – он освобожден от подобной перспективы. Сертификат генерального секретаря префектуры Сены говорит о том, что у молодого человека слишком маленький рост – 1 метр 655 миллиметров. Полный коротышка с цветущей физиономией и подпорченными зубами не в восторге от того, что видит в зеркале, но уверен – божественный огонь скрывается под столь неказистой оболочкой. И хочет как можно скорее доказать это. Родным, конечно же. Но главное – тысячам незнакомых людей, которые, закоснев в ежедневных заботах, ждут, сами того не зная, появления на небосводе литературы его, и только его – Бальзака».{52}
Романы «Фалтурна» («Falthurne») и «Корсино» («Corsino») писались быстро, но ни один из них так и не был закончен. У автора, как он сам признавался, просто не хватало терпения изводить себя и бумагу. Лишь много позднее Бальзак поймёт, почему так произошло: он писал не то, что требовал его талант. Следуя общей тенденции, романист всего лишь подстраивался под модный англо-французский роман того времени. Отсюда цепь неудач.
Нет, такое непозволительно, это не для него! Это просто немыслимо!..
И всё-таки Оноре ошибался! Он делал всё правильно. А несколько неудачных произведений оказались лишь ступеньками вверх. Проходя эти ступеньки, рождался блистательный писатель-романист. Он научился таким образом писать романы!
Из письма Бальзака сестре Лоре: «Если бы хоть кто-нибудь придал немного прелести моему холодному существованию! Нет для меня цветов жизни, а ведь я в том возрасте, когда они расцветают! К чему мне будут богатство и наслаждения, когда моя юность уже пройдет? Зачем нужен театральный костюм, если ты больше не играешь роли? Старик – это человек, который отобедал и теперь смотрит, как едят другие, а я молод, моя тарелка пуста, и я голоден! Лора, Лора, исполнятся ли когда-нибудь два самых заветных моих желания: быть знаменитым и быть любимым?..»{53}
Но однажды всё закончилось. Basta, сказал строгий батюшка, ba-sta! Довольно сомнительного сочинительства. В январе 1821 года очередной платы за съёмную квартиру на улице Ледигьер не последовало.