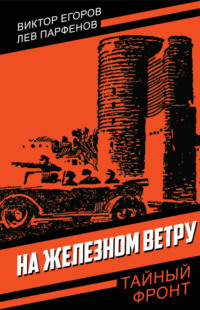
На железном ветру
Алибек сграбастал его за отвороты шинели:
– Брешешь! Что оружие – брешешь!
– Брешет собака на базаре… Идете?
– Идем… – Михаил затравленно оглядел товарищей. – Ребята, погодите, я другой пиджак надену.
Взбежал по лестнице, постучал в дверь. Скомканный пиджак держал под мышкой. Открыла опять сестра Надя – плотная круглолицая девушка семнадцати лет.
– А-а, ты… А тут тебя…
– Знаю, знаю… Мама дома?
– На базаре.
Это облегчало дело. Михаил проскользнул мимо сестры в гостиную, оттуда к себе в «темную» – небольшую, лишенную окон комнату. Сунул пиджак под подушку, на ощупь нашел очки-консервы. Без таких очков трудно было ходить по Баку во время норда – пыль забивала глаза. Тихонько выбрался в прихожую, снял с вешалки пиджак, с которым еще вчера, казалось, расстался навеки и, крикнув «запри!», был таков.
2
Ребята свернули на Цициановскую и прибавили шаг. Ветер теперь дул в спину, подгонял. На мостовой то в одном, то в другом месте внезапно вздымались, закручиваясь, пылевые смерчи и так же внезапно опадали. Панель была аккуратно разлинована отглаженными ветром песчаными валками – свеями. Песок хрустел под ногами. Немногие прохожие, двигавшиеся против ветра, напоминали бурлаков с известной картины Репина – шли, наклонившись вперед, будто волокли за собою непосильной тяжести груз.
Михаил сжимался под пронизывающим нордом, безуспешно стараясь запахнуть кургузый пиджачок, согреть под мышками красные руки, почти по локоть вылезавшие из рукавов. Мозжило нос. Он явно распухал, нарушая естественные пропорции лица.
Свернули на Коммунистическую и почти сразу же вышли на площадь Красной молодежи. С юга площадь ограничивала десятиметровая зубчатая стена Крепости. За нею теснились плосковерхие дома старого города, справа над стенами маячил минарет древнего дворца ширваншахов. Две круглые зубчатые башни, как часовые, стояли по обе стороны широкой арки ворот. Над воротами нависал мощный контрфорс, наводивший на мысль о неприступности стен. Когда-то от ворот начиналась дорога на Шемаху.
Ветер заметал песок под арку ворот. Ребята бегом наискось пересекли площадь и очутились у подъезда невзрачного двухэтажного здания – Дома красной молодежи. Здесь помещался комсомольский клуб. В просторном, вестибюле не было ни души.
Ленька бросил на друзей уничтожающий взгляд.
– Ну вот, из-за вас опоздал. Нашли время мордобитием заниматься.
Между тем всего десять минут назад, когда ему рассказали о драке, он выразил искреннее сожаление, что ему в ней не довелось участвовать. Никто не стал уличать его в противоречии – до того ли!
Заглянули в зал заседаний, где устраивались лекции, диспуты, а иногда и танцы. Пусто. Вернулись в вестибюль. С площадки второго этажа долетели невнятные голоса. Как по команде ринулись наверх.
Нет, не опоздали! Перед дверью так называемой музыкантской комнаты гудела толпа. Работая плечом, Михаил попробовал пробиться поближе к двери. Друзья поспевали за ним. Но какой-то верзила в замасленной кепке не захотел уступить дорогу.
– Ты куда такой шустрый?
– Туда, – горячо выдохнул Михаил.
– Мы все туда.
– Я записывался в ЧОН…
– А остальные – в инвалидную команду?
Кругом засмеялись. Михаил понял – спорить с этим здоровяком бесполезно. Спросил:
– Вызывают или как?
– Пока никак, – скучным голосом отозвался парень.
Другой сосед оказался более словоохотливым.
– Сам Логинов здесь. Будет с каждым бойцом знакомиться.
Дверь музыкантской распахнулась, и на пороге появился высокий человек лет двадцати пяти, в красноармейской гимнастерке. Это был Кафаров – заведующий военным отделом Бакинского комитета комсомола. Он держал перед собою несколько листов бумаги – должно быть списки.
Оглядел собравшихся, улыбнулся, узнавая знакомых. Сказал:
– Кого вызову – заходите.
«Если по алфавиту, то попаду в числе первых», – подумал Михаил и безотчетно попытался продвинуться поближе к двери.
Кафаров заглянул в список:
– Семакин, Гаджиев, Гречкин, Левченко, Джебраилов.
Верзила вдруг рванулся вперед, ощутимо ткнув Михаила локтем в грудь.
Вызывали не по алфавиту. Михаил почувствовал зависть к тем, кто скрылся в кабинете.
– Слушай, а если нас не вызовут?
Черные глаза Алибека лихорадочно блестели, на острых скулах выступил румянец.
– С чего ты взял? – хмуро отозвался Михаил. – Мы комсомольцы. У Ибрушки и Леньки отцы рабочие, у меня – буровой мастер, тоже, считай, рабочий…
– А у меня бывший приказчик.
– Ну и что? Не буржуй ведь.
Вскоре из музыкантской один за другим вышли пятеро вызванных. Посыпались было вопросы, но следом появился Кафаров, и опять наступила напряженная тишина.
– Принятым в часть особого назначения через час собраться внизу, в зале, – объявил Кафаров и опять уткнулся в список. «Сейчас, сейчас меня, – лихорадочно билось в голове Михаила. – Да ну же, ну же – Донцов…» Рубашка прилипла к спине и под коленками противно подрагивало. Кафаров назвал несколько фамилий, среди них Ибрагима и Леньки. Те прошли в кабинет, причем лица у обоих сделались какими-то отрешенными.
Над ухом плачущий голос Алибека:
– Ну, что я говорил?
– Отстань! – свирепо огрызнулся Михаил.
Огляделся. Народу в коридоре было еще много. «Чего я боюсь? Вызовут… Не хуже других… В комсомол же приняли, – и в ЧОН примут».
Когда вышли Ибрагим с Ленькой, метнулся к ним.
– Ну как?
Губы Ибрагима вопреки его стараниям сохранить серьезный вид расползлись до ушей. Хлопнул приятеля по плечу.
– Взяли! Сейчас, наверно, и вас с Алибеком вызовут. – Поколебавшись, сказал: – Знаешь, почему-то про тебя спрашивали: какой человек.
Кафаров начал выкрикивать фамилии. Михаил протиснулся к самой двери, стараясь обратить на себя внимание.
Однако, встретившись с ним глазами, Кафаров никак не дал понять, что помнит о нем. Пропустил в музыкантскую счастливцев, среди которых оказался Алибек, и захлопнул за собой дверь.
Михаил не услышал своей фамилии и в следующий вызов. Вскоре он один остался около заветной двери. Друзья виновато топтались неподалеку, на лестничной площадке. Михаил не смотрел в их сторону. Они так же старательно отводили от него глаза, не желая показать, что понимают его унижение.
«Не доверяют», – вползала в мозг ядовитая мысль и тяжелой обидой наполняла все его существо. – Недаром Ибрушку спрашивали про меня… За что, за что? Войти, сказать: у меня брат – чекист, в особом отделе Одиннадцатой армии… Да разве они не знают?»
Последняя группа принятых в ЧОН покинула кабинет.
«Все. Больше ждать нечего…» Скосил глаза на лестничную площадку. Догадались ребята уйти или нет? Разговаривать с ними теперь было бы пыткой. Перед глазами – сплошной серый туман… Спазма сдавила горло.
Кто-то вышел из кабинета.
– Донцов, зайди! – голос Кафарова.
Михаил стоял, точно пригвожденный к месту. Молчал. Знал: стоит раскрыть рот – и расплачется, как гимназистка.
– Зайди, говорю.
Трудным усилием преодолел спазму. Разлепил рот.
– Я… что ли?
– А кто же еще?.. Э, постой, постой… – Кафаров тронул его за плечо, повернул к свету.
– Что с тобой? Глаза красные, нос – спелый гранат, – заболел, что ли?
– Да нет, здоров я, – испуганно встрепенулся Михаил.
– Ну, давай.
Кафаров втолкнул его в музыкантскую.
В небольшой комнате стоял облезлый канцелярский стол, пяток стульев. У двери на гвоздях – шинель и кожаная куртка. На подоконнике – буденовка и фуражка. За столом сидел рыжеватый парень в помятой гимнастерке – секретарь городского комитета комсомола Логинов. «Спал, видно, в одежде», – подумал Михаил. У секретаря было широкоскулое лицо, и потому бросалась в глаза худоба, втянутые щеки, костистый, разделенный пополам подбородок.
– Садись, Донцов, – секретарь кивнул на ближайший стул.
Михаил сел.
Логинов придвинул к себе стопку каких-то документов, должно быть личные дела комсомольцев, полистал их, поднял на посетителя светлые глаза.
– Учишься?
– В высшем начальном училище, – с готовностью подтвердил Михаил.
– В высшем начальном, – задумчиво повторил секретарь. – А как со здоровьем? Силенка есть?
Михаил скромно потупился:
– Не жалуюсь.
Кафаров, сидевший сбоку от стола, потянулся за кисетом, искоса нацелил на Михаила смеющиеся глаза.
– Слышь, Донцов, а что у тебя все-таки с носом? Ударил кто?
Михаил насупленно молчал. И чего придирается? Если и ударили, так теперь из-за этого в ЧОНе нельзя состоять?
– Дрался? – в упор спросил секретарь.
– Ну, дрался! – Михаил задиристо вскинул голову. – А что? Нельзя? Пусть всякий контрик тебе на глотку наступает?..
– Какой контрик?
– Да хоть Гасанка Нуралиев.
– Это не сын ли бывшего нефтепромышленника?
– Ну да. Такой гад… – «…отцовский пиджак на мне порвал», – чуть было не сказал Михаил.
– Из-за чего же у вас? – полюбопытствовал Кафаров.
– Он на комсомольцев зуб имеет. Драка была идейная.
– Ах, вон как! Тогда совсем паршиво.
– Почему?
– Да потому, что он же тебе и вложил.
Михаил от возмущения даже привстал со стула:
– Он?! Мне?! Видели бы вы, как я… – «бросил на землю Рза-Кули», – хотел он сказать, но промолчал – это было бы хвастовством.
– А нос-то, – весело напомнил Кафаров.
Михаил помрачнел и отвернулся: «Дался ему мой нос…»
– Да ты не сердись, – подобрел Кафаров. – Попало – ничего, заживет. Важно, чтобы понял: голыми руками контрреволюцию не задавишь.
Михаил посмотрел на свои оббитые, в ссадинах, пальцы, согласно кивнул.
– Вот мы и решили, – серьезно заговорил Логинов, – что полезно будет тебе пройти еще одно училище, тоже высшее, только не начальное, а окончательное. Хочешь работать в Чека?
Если бы перед Донцовым появился вдруг всесильный сказочный волшебник и предложил выполнить любое желание, Михаил не раздумывая попросил бы: «Сделай меня чекистом». Поэтому слова секретаря он воспринял, как чудо. В первое мгновение просто не поверил своим ушам. По мере того как сказанное доходило до его сознания, восторг, жгучий, невозможный, праздничный, почти нереальный, затоплял его сердце. Кровь тугим горячим потоком ударила в лицо, выдавила слезы. Михаил встал… сел… опять встал…
– Товарищи!.. – Прижал к груди скомканную кепку. – Я всегда… Я… хоть сейчас… Я готов…
Его порыв тронул Логинова. Он вылез из-за стола, шагнул к Михаилу, легонько тряхнул за плечи.
– Ну вот и хорошо. Да ты не волнуйся… Мы ж тебя знаем. И Василия Егоровича, брата твоего, знаем… Семнадцать-то тебе исполнилось?
Михаил почувствовал себя так, словно из парной его выбросили на мороз. Конец! Сейчас узнают, что ему только пятнадцать, и посмеются: «Что ж ты нам голову морочил? Иди пока, дерись со своим Гасанкой…»
– Ис… полнилось, – трудно ворочая сухим языком, проговорил Михаил.
– Ну что ж, приходи завтра к Кафарову в горком. Только пока никому ни слова. Разве что родителям. Сам понимаешь, куда тебя посылаем. Работай на страх врагам. Да и паек получишь. Семья-то большая?
Михаил моргал, не понимая. О пайке оп вовсе не думал. Какой уж паек?! Он готов был с себя последнюю рубашку отдать, только бы приняли в Чека.
– Будем надеяться, не подведешь. Как сам-то считаешь?
Голос изменил Михаилу.
Вместо твердой, гремящей металлом фразы «Не подведу», из глотки его вырвался жалкий хрип.
– Ну, двигай, – сказал секретарь горкома, понимающе жмуря глаза.
3
В коридоре Михаила обступили друзья.
– Как дела? Слушай, как дела! – нетерпеливо дергал за рукав Алибек. – С нами?
– А то как?
– Асса! – Алибек встал да носки и, скорчив свирепую физиономию, прошелся в лезгинке: – Ай, какие мы джигиты! Ай, какие молодцы мы! Пошли в зал, товарищи бойцы! Смерть мировому капиталу!
Со смехом и шутками спустились в вестибюль. Здесь Михаил отстал от друзей. Он не имел права поделиться с ними своей радостью, и, наверное, поэтому захотелось побыть одному, обдумать неожиданный поворот в жизни.
Вышел на улицу, глубоко натянул кепку. Ветер заметно утихомирился. Солнце стояло низко на западе, и длинные тени до половины закрывали площадь. Михаил прошел вдоль крепостной стены и свернул направо.
Улица подобно дельте реки делилась на два рукава. Левый – Ольгинская, правый – Михайловская. Между ними тупым клином встал двухэтажный дом, похожий на стрелку острова или на корабль. В детстве Михаил любил бывать здесь с матерью. Нижние этажи сплошь заняты мелкими лавчонками с раздвижными, всегда гостеприимно распахнутыми дверцами. За эти дверцы их так и называли – растворы. Над витринами тянулись белые тенты. Какими только сластями не торговали в растворах… И рахат-лукумом, и халвой, и финиками, и душистым лимонадом. А самое главное – обе улицы выводили к морю. Сейчас магазины закрыты и улицы пустынны. Михаил вышел на набережную, пересек бульвар, остановился у каменного парапета. Лицо окропило холодными брызгами. Одна за другой набегали волны, с грохотом разбивались о пирс. Справа и слева темнели пустые причалы на деревянных решетчатых сваях. А когда-то здесь дымили пароходы и свай не было видно за их бортами.
Михаил взглянул на город. Прямо перед ним, господствуя над приморской частью Крепости, вздымалась огромным цилиндром сорокаметровая Девичья башня. От нее по всей высоте отходила в виде отростка недлинная стена, назначения которой никто не знал.
За башней вверх по горе уступами взбегали дома с плоскими крышами. Издали казалось, будто они стоят друг на дружке.
Сколько народу живет в Баку? В школе учитель географии говорил: больше двухсот тысяч. Сколько же среди них врагов Советской власти? И как он их будет искать среди этакой прорвы людей? А как быть с родителями? Логинов разрешил сказать им о поступлении на работу в Чека. Мог бы и не разрешать: все равно придется от них скрыть. Иначе жизнь пойдет прахом. Отец не позволит бросить школу.
Солнце зашло. Алые блики легли на маслянистые бока волн. Пенные гребни отливали розовым, точно светились изнутри. Холод пробирал до костей. Михаил повернул домой. Отец, наверное, явился с работы, выражает неудовольствие: куда Мишка делся? Требует, чтобы вся семья была в сборе, когда он дома. Прямо самодержец какой-то. А тут еще с пиджаком морока… Отец не сегодня, так завтра узнает.
Предчувствия не обманули.
Отец, среднего роста плотный старик шестидесяти лет с густыми пшеничными усами и глазами яркой голубизны, увидев Михаила в дверях, тотчас скрылся в «темной». По укоризненным взглядам сестер, по тому, как мать, прислонившись к изразцовой печке и сложив на животе руки, тихонько вздыхала, Михаил понял – порванная обновка обнаружена. Отец вернулся темнее тучи. В руках – злосчастный пиджак. Он ухватил его пальцами за плечи и легонько встряхнул перед собою, как приказчик в магазине готового платья.
– Это что?
Вопрос был задан явно для запала, и Михаил счел за благо промолчать.
– Я тебя спрашиваю или нет? Где ты испоганил пиджак?
– Дрался, – виновато опустил голову Михаил.
– Та-ак… Я работаю, сестры хребты гнут, чтоб только его, сук-киного сына, выучить, как путного… Последнее ему отдаем, чтоб не хуже людей, не голодранцем ходил, а он – на-ко тебе – дрался… Ему наплевать, – отец возвысил голос, ожесточенно тряхнул пиджаком и швырнул на пол, – ему наплевать, что от семьи, почитай, фунтов пять хлеба псу под хвост! Кто тебя ободрал?! Ну?! Опять с этими босяками из притона связался?!
– Да.
Ни слова больше не говоря, отец схватил висевший на гвозде у окна ремень.
Михаил выскочил в прихожую.
– Стой, башибузук!
Боль обожгла ухо, полосою прошла по спине. Доставалось Михаилу от отца и раньше, но тогда было больно, и только. Сейчас он не испытывал страха перед физической болью. Иное чувство поднялось в нем. Он вдруг осознал себя взрослым и не мог допустить, чтобы его выпороли, как мальчишку. Схватился за ремень.
– Папа, не надо! Папа, не имеешь права, я…
«Я чекист», – едва не вырвалось у него.
Отец дернул ремень к себе.
– Что?! Я т-те…
Михаил прыгнул к входной двери, повернул ключ, очутился на площадке, ничего не видя в темноте, сбежал с лестницы. Долетел отчаянный крик матери:
– Миша, верни-ись! Миша-а!..
Он не остановился.
«Ничего, пусть, пусть, – стучало в мозгу, – пусть они узнают, пусть узнают». Что именно «они» должны узнать – в этом он не отдавал себе отчета, так же как и в том, куда он, собственно, идет. Фонари на улице еще не зажигались, было темно, лишь кое-где падали на панель полоски света из окон. Ветер утих и в спокойном воздухе звуки доносились издалека. Поравнявшись с лавкой Мешеди Аббаса, Михаил услышал за дверью грубую ругань. Голос, хриплый, напористый, принадлежал Рза-Кули. Встреча с ним на пустынной улице после всего, что произошло днем, могла бы плохо кончиться. Но Михаилу и в голову не пришло поостеречься. Напротив, он хотел столкновения, жестокой битвы, в которой израсходовался бы камнем осевший в груди заряд досады, обиды, злости. А еще лучше, если бы его убили (ну, не совсем, а так…) Это заставило бы отца горько пожалеть о содеянном.
Михаил пересек Цициановскую, миновал еще квартал и свернул на Воронцовскую. Опомнился только перед бывшим домом Лаврухина – двухэтажным, не считая полуподвала, зданием в стиле ампир. Фасад украшали высокие зеркальные окна. Когда-то весь первый этаж занимал сам Лаврухин. Прошлым летом, после муниципализации недвижимости, его уплотнили. Теперь вместе с дочерью Зиной он помещался в двух угловых комнатах. Окна их были черны. Только в полуподвале светились два маленьких квадратных окошка. Там жила старшая, замужняя сестра Михаила – Анна. Еще покидая дом, Михаил знал, что пойдет к сестре. Здесь его встречали радушно и понимали лучше, чем в семье. Подумал: «Переночую, а там видно будет». Через калитку прошел во двор, опираясь о стену, спустился по неровным кирпичным ступенькам. Нащупал шершавую от облупившейся краски дверь, постучал.
Открыл Ванюша – муж сестры. В лицо пахнуло теплом, кислым запахом детских пеленок.
– Здорово живешь, родственник, – приглушенно сказал Ванюша, отступая в глубь темной прихожей и пропуская Михаила. – Тише, Аня ребят укладывает.
Лицо Ванюши скрадывала темень, но в голосе его угадывалась улыбка. Знакомая мягкая, доброжелательная улыбка, которую все так любили в семье Донцовых. Михаил почувствовал: надрыв его слабеет, рассасывается тяжесть на сердце. Он воспринял это как должное, потому что заранее знал: именно так и будет, стоит ему переступить порог сестриного дома.
– Заходи, чего стал? – шепнул Ванюша и легонько толкнул в спину.
Михаил оказался в чистой, оклеенной зеленоватыми обоями комнате с низким сводчатым потолком («как в церкви», – шутил Ванюша).
Все здесь было устроено так же и расположено на тех же местах, что и у Донцовых. И венские стулья стояли точно такие же. Один из них Михаил помнил с детских лет. Когда-то он надевал его на шею и палками выбивал из фанерного сиденья барабанную дробь. Стул и по сей день сохранял следы от палочных ударов.
На комоде на белой вышитой скатерке лежал толстый в тисненой обложке альбом с фотографиями.
Года четыре назад этот альбом составлял предмет гордости Анны. Его подарила на новоселье дочь домохозяина Зина, тогда еще девочка. Подарила вместе с фотокарточкой, на которой была запечатлена она сама рядом со своим братом, геройским офицером – вся грудь в крестах, – прибывшим на побывку по ранению. Всякий раз, явившись к сестре, Михаил непременно просматривал альбом. Собственно, интересовало его лишь изображение Зины на пятом листе, на остальных фотографиях он задерживал внимание для отвода глаз.
Но сейчас было не до альбома.
Михаил опустился на диван. Напротив, за перегородкой, другая комната, служившая спальней. А за капитальной стеной, к которой примыкал диван, – нежилое помещение. Раньше там помещался хозяйский погреб. За перегородкой слышался голос Анны:
Баю, баю, баю-бай —Приходил дедок Вавай…Ванюша постоял перед Михаилом, потом уселся напротив. Положил руки на колени, причем левую передвигал с заметным усилием. Был он в два раза старше Михаила, а выглядел чуть ли не ровесником. Молодили его белокурые вьющиеся волосы, чистое лицо с гладким высоким лбом, ясные серые глаза. Невысокий, неширокий в плечах, он благодаря пропорциональному сложению казался рослым и сильным. Под черной рубашкой угадывалась выпуклая грудь.
В семье Донцовых мужа Анны, деповского слесаря Ивана Касьяновича Завьялова, все, от мала до велика, именовали попросту Ванюшей. Причиной тому были и его мальчишеская наружность, и добрый, веселый нрав, унаследованный от отца – астраханского грузчика.
– Давненько не виделись, – сказал Ванюша. – Я третьего дня забегал к старикам, да тебя не застал. – И, оглянувшись на перегородку, повеселел: – Погоди, сейчас Аня управится, ужинать сядем… А то, погляжу, чтой-то ты нынче квёлый.
Михаил сидел, уставившись в пол, вертел в руках кепку.
– Ванюш, можно у вас переночевать?
– Ночуй. А что на Сураханской – пожар, что ли?
– Я из дому ушел.
– Это в каком смысле?
– С отцом поссорился. Из-за пиджака.
Михаил коротко поведал историю с пиджаком, нехотя упомянул о драке во дворе караван-сарая. Как ни хорошо он знал Ванюшу, реакция зятя оказалась совершенно неожиданной. Вскочил, хлопнул Михаила по плечу.
– За что это тут моего братца нахваливают? – певуче проговорила Анна, появляясь из-за перегородки. Из всех сестер Анна казалась Михаилу самой красивой. У нее все было крупно: и стан, и лицо, и губы, и глаза. Слегка вьющиеся пепельные волосы, туго затянутые на затылке в тяжелый пучок, казались слишком густыми.
Михаилу пришлось повторить все сначала. На сестру его рассказ произвел совсем другое впечатление.
– Батюшки! – ахнула она. – Час от часу не легче! Да ты о матери-то подумал, дубовая твоя голова?! Ведь она сейчас места себе не находит. Сказал хоть, куда идешь-то?
– Нет.
– И он еще тут рассиживается… Ты тоже хорош! – сокрушенно покачала она головой, обернувшись к мужу. – Вместо того чтобы на путь наставить мальчишку, он его хвалить взялся. Господи! – она села к столу и бессильно уронила на колени руки. – Видно, все мужики на одну колодку – хуже малых ребят. Слышь, Михаил, сейчас же иди домой…
– Погоди, погоди, Анюта, – Ванюша встал между сестрой и братом. – Его тоже надо понять. Крут твой папаша не в меру – это уж и говорить нечего. Пиджак ему весь свет застит. А я так скажу: молодец, Мишка, что не спасовал перед бандюгами… А пиджак – не живая душа, можно другой купить…
– Купил один такой! – в голосе Анны послышались сварливые нотки – дань мгновенному раздражению. – Ты вон сунулся, куда не следовало, – теперь ходишь инвалидом. Купи другую-то руку, приставь!..
– Молодец, парень! Ей-богу, молодец! Самого Рза-Кули с ног долой! Правильно, так и надо. Милиция-то наша, да и Чека не больно их беспокоят. А бандитам нельзя спуску давать – на голову сядут. Всем народом надо навалиться…
– Аня, ты это… ты давай меня ругай… Обо мне речь… Что ты за него взялась, он не виноват…
Анна выслушала Михаила с тем смешливым удивлением, какое у взрослых вызывают речи не но годам развитого ребенка. И вдруг, запрокинув голову, расхохоталась.
– Нашелся защитник… Ой, господи!.. Ну как есть ребята малые… Это ж надо…
Ванюша, смеясь, обнял Михаила.
– Ну, брат, вдвоем нас голыми руками не возьмешь – не дадимся.
– Да нет, на самом деле, – не сумев сдержать улыбку, заговорил Михаил, – чего она на тебя-то?
– А ты как думал? – Ванюша весело подмигнул жене, – Учить-то нашего брата надо? Ведь это пока холостой, полагаешь – умней тебя на свете нет, а женишься – враз докажут, что ты круглый дурак…
– Смотрите-ка, разговорился… Лучше бы подумал, как с этим чертоломом быть.
В тоне Анны не слышалось уже прежней строгости, а взгляд, которым она наградила мужа, свидетельствовал о полном примирении.
– Да как быть? – Ванюша искоса оглядел Михаила, будто оценивая. – Коли уж парень взбунтовался, пусть у нас переночует. Собери ему поужинать, а я пока слетаю на Сураханскую, мать успокою.
Михаилу постелили на диване. Заснул он мгновенно, лишь голову донос до подушки. Когда вернулся Ванюша, не слышал.
4
Егор Васильевич Донцов всю ночь ворочался, думал о детях. Не спала и жена его, Настасья Корнеевна. Раза два пыталась заговорить с мужем, но Егор Васильевич притворился спящим. Что ей скажешь? Сам будто в темном лесу, что к чему – не ведаешь. С дочерьми куда легче. А парни, – словно им шлея под хвост попала, – пули отливают один другого хлеще.
Был Егор Васильевич человеком строгих правил и от детей требовал безоговорочного послушания.
Происходил он из крестьян Тамбовской губернии. В Баку попал еще мальчишкой вместе с родителями, недавними крепостными князя Юсупова.