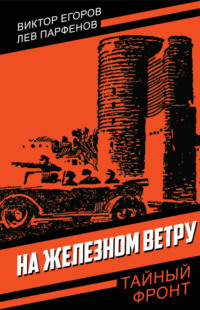
На железном ветру
Встречались они редко. И только во дворе. В комнаты Зина его не приглашала, и он понимал причину: Милий Ксенофонтович не одобрил бы выбора дочери. Разговоры их касались главным образом книг. Зина жила в мире, далеком от повседневности, мечтала об экзотических странах и океанских рассветах. В ее словах, жестах, повадках было что-то от джеклондоновских женщин – мягкое и смелое. Она аккуратно посещала училище и больше никуда не ходила. Заветным желанием Михаила было пригласить ее на танцы в Дом красной молодежи. Впрочем, он понимал, что это вряд ли осуществимо. Она слишком отличалась от тех девушек комсомолок, что посещали Дом молодежи. Те не обращали внимания на поношенную одежду парней. В их глазах такая экипировка выглядела естественной, они, дочери рабочих, сами не блистали туалетами. Они были грубоваты, громко и свободно смеялись, в их речах часто проскакивали жаргонные словечки, с детства вошедшие в язык где-нибудь в родных Сабунчах или Романах. Зина среди них выглядела бы белой вороной. Да и он стеснялся бы перед нею своей одежды. И подвергся бы всеобщему осмеянию.
В разговорах с Зиной он избегал касаться политики. Опасался, вдруг она отзовется неодобрительно о Советской власти, о комсомоле, о Красной Армии. Ведь тогда придется немедленно порвать с ней дружбу, забыть и думать… о буржуйской дочке. Да, именно так оскорбительно он и вынужден будет ее назвать. Пока же слова «буржуйская дочка» совершенно не ассоциировались с образом Зины.
Михаил ждал недолго. В вязаной шапочке, в легком пальто, размахивая желтым портфельчиком, она обежала с крыльца, кивнула:
– Пошли.
Две длинные – до пояса – косы разметались, и она небрежным движением закинула их за спину.
– Рассказывай, – попросила она, как только вышли за калитку.
С великолепной, почти гусарской беспечностью Михаил поведал о драке в караван-сарае, о порванном пиджаке, о ссоре с отцом и своем бегстве. При этом он поглядывал по сторонам, всей душой желая, чтобы навстречу попался кто-нибудь из знакомых ребят. То-то бы вылупил гляделки, увидев его с такою красавицей. Потом на него посыпались бы вопросы: «кто такая?» да «что у тебя с ней?», а он бы в ответ таинственно улыбался.
Тщеславные его помыслы были прерваны вопросом:
– Зачем ты дерешься? Ведь такие, как Рза-Кули, могут убить.
– Большевики перед контрой не отступают, – сурово молвил он.
Она украдкой взглянула на него. Лицо его выражало непреклонность. Большой шишковатый лоб грозно навис над глазами, губы сжались в нитку и четко выявился крутой изгиб подбородка.
– Ты большевик?
– Конечно. Всякий комсомолец – большевик.
Сердце его тоскливо сжалось. Вот сейчас скажет: «Ну и уходи. Большевики отобрали у нас все богатство, и я не желаю иметь с тобою ничего общего».
Они вышли к Парапету и свернули налево. Под деревьями сквера прохаживались и стояли, группируясь по двое, по трое, люди в цивильных «господских» одеждах довоенного вида. Мелькали папахи, картузы, не редкостью был и котелок. «Черная биржа» спозаранку приступала к «операциям».
Зина улыбнулась какой-то своей мысли и тронула его за рукав.
– Слушайте, господин большевик, а я что придумала-а…
– Что?
– У папы четыре или пять пиджаков. Висят без дела. Куда ему столько? Ведь теперь либерте, эголите, фратэрните, верно? Свобода, равенство и братство. Как ты посмотришь, если я, будучи свободным человеком, по-братски и во имя идеи равенства подарю тебе один пиджак?
«Ты что же, за буржуйского холуя меня считаешь?» – готово было сорваться с его языка. Но улыбка ее светилась такой простодушной радостью (видно, ей очень понравился замысел с пиджаком), что ни о каких задних мыслях и речи быть не могло. Михаил весело рассмеялся, представив себя в лаврухинском пиджаке.
– Нет, правда, – серьезно заговорила Зина, практичная, как всякая женщина, – пиджак пропадает без пользы. А ты явишься в нем домой, и твой папа перестанет сердиться. И тогда незачем уходить из дому.
Нежность теплой волной прошла через сердце Михаила. Он старался не смотреть на девушку, чтобы не выдать своего чувства.
– Ты не беспокойся. Из дому я и так не уйду…
Зина потупила взгляд, потому что в голосе его уловила то особенное волнение, особенную зыбкость, за которыми угадывалось все, чего она втайне желала.
– Ванюша ходил к отцу еще вчера, все уладил… – продолжал Михаил, – а сказал я так, для красного словца…
– Наврал?
– Ага.
– Зачем?
– Так. Думал, тебе будет со мной интересней.
Зина замедлила шаги, не поднимая глаз, тихо заметила:
– Что же тут интересного?..
– Не знаю… Мне казалось…
Они остановились около закрытых наглухо ворот рядом с Армянской церковью.
– Я… мне и так… интересно, – едва слышно проговорила она. Губы ее вздрагивали.
Они не заметили, когда и как оказались в нише калитки под прикрытием акации. Калитка была заперта.
Мимо спешили к заутрене черные старушки. Никто не обращал внимания на юную пару.
– Зина…
– Что?
– Да я хотел…
– Что?
– …Я, понимаешь…
– Что?
– …ты не сердись…
– Не сержусь.
– …люблю тебя.
Она подняла на него глаза. Привстала на цыпочки, ткнулась губами куда-то в угол его рта и стремглав выскочила из ниши. По асфальту дробно простучали ее каблучки.
Когда Михаил появился дома, ни мать, ни сестры словом не обмолвились о вчерашнем.
Напротив, были предупредительны. Это умилило Михаила, и, чтобы не очень мучиться раскаянием, он поспешил убраться. Захватил учебники, как обычно, уходя в училище. Но путь его лежал совершенно в другую сторону.
В горкоме комсомола Кафаров без задержки оформил путевку. На форменном бланке с печатью было четким почерком написано:
«Член Коммунистического Союза Молодежи Донцов Михаил Егорович направляется в распоряжение Азербайджанской Чека для использования на работе».
Вскоре Михаил шагал по Набережной в сторону Кооперативной улицы, где находилась Чека. Сквозь голые деревья бульвара проглядывала морская синь. Теплый ветер, пахнущий водорослями, гладил лицо. Природа ликовала вместе с ним.
Он видел себя в черной, перекрещенной ремнями кожаной тужурке, с кобурой на боку. Все будет именно так. Его примут в Чека, и он сделается грозой врагов Советской власти. Как Дзержинский. Как брат Василий. Грудь его распирало от ощущения собственной значимости.
Он свернул на Кооперативную и увидел четырехэтажное серое здание с застекленными балконами. Квадраты балконных стекол блестели на солнце.
Михаил вдруг оробел. Мелькнуло: в этом огромном здании столько людей, опытных, знающих, смелых; кому здесь нужен он, мальчишка? Недавней приподнятости как не бывало. С каждым шагом все больше овладевала им мучительная неуверенность в себе. На что он надеется? Чекисты – это не Кафаров, не Логинов. Они-то мигом определят его настоящий возраст. Их не обманешь.
Остановился перед парадной двухстворчатой дверью с медной рукояткой. В зеркальном стекле отразилось худощавое испуганное мальчишеское лицо.
Коротко вздохнул, пригладил волосы, рванул на себя створку. Не поддалась. Рванул сильнее. Заперта, что ли?
– Не стоит, не стоит ломиться, коллега, – нетерпеливо сказали сзади, – дверь открывается внутрь.
Михаил выпустил рукоятку. Высокий сухопарый человек весьма сурового вида толкнул дверь, вежливым жестом пригласил Донцова войти первым.
В тесном вестибюле стоял красноармеец с кобурой на боку. Сухопарый кивком поздоровался с ним и прошел к лестнице, ведущей наверх.
– Тебе что? – строго спросил часовой.
Михаил протянул ему пропуск и путевку. Красноармеец – у него были коричневые, нахальные, как у шемаханского авары[4], глаза – снисходительно пробежал по строчкам, вернул бумаги:
– К Кузнецову в секретариат.
Михаил поднялся на второй этаж.
По коридору, заложив руки за спину и опустив голову, двигался здоровенный, наголо стриженный дядя в черном пиджаке. Михаил устремился к нему:
– Скажите, где мне…
Здоровяк вскинулся, будто у него выстрелили над ухом, испуганно оглянулся назад.
– Не разговаривать с арестованным!
Из-за его спины выдвинулся невысокий парень в кожаной тужурке, правая рука – в кармане.
– Проходи.
Тон его был властен, в глазах – решимость.
Михаил отшатнулся, прилип к стене. Испуг сменило восхищение. Ну и ну! Как он? «Не разговаривать… Проходи!» Сразу видно боевого чекиста.
Чтобы снова ненароком не попасть впросак, Михаил зашел в один из кабинетов. Сидевшая за машинкой пожилая женщина в пенсне объяснила обстоятельно, как найти товарища Кузнецова.
Застекленная веранда была разделена дощатой перегородкой на две неравные комнатушки. Большая оказалась пустой, в меньшей, похожей на закуток, сидел товарищ Кузнецов. Михаил ожидал увидеть человека с пронизывающим взглядом и сильным, как на плакатах, лицом. Но за столом сидел добродушный, располневший канцелярист в парусиновой толстовке. Бритая сияющая голова на короткой шее и очки делали его похожим на воскресного дачника.
Солнце стояло прямо напротив веранды и наполняло закуток тяжелым зноем. Ни малейшего движения воздуха не ощущалось через распахнутое настежь окно. Оно выходило на маленький дворик, напоминавший шахту.
Кузнецов пригласил посетителя сесть. Поминутно вытирая платком затылок и шею, прочитал путевку.
– Значит, к нам. Комсомольское, так сказать, пополнение. Что ж, хороший народ нам нужен. Да, нужен. Идете по желанию?
– Да, – довольно твердо выговорил Михаил и почувствовал облегчение. Кажется, ничего дядька.
– Что ж, ладно, ладно…
Кузнецов приложил к затылку мокрый платок и опять заглянул в путевку.
– Ладно, ладно… Сколько же вам лет?
Вот оно – началось!
– Се… семнадцать.
Лицо Михаила медленно заливала краска. Совестно было врать.
Добродушный Кузнецов промокнул платком шею.
– Ладно, ладно… А не найдется ли документа? Метрической выписи, скажем?
Метрической выписи не было. От матери Михаил знал, что в церкви Иоанна Предтечи, где его крестили, метрические книги утеряны. То ли поп пустил их на растопку, то ли бандиты разграбили – неизвестно. Все это довольно связно Михаил изложил Кузнецову.
– Такое положение везде, – доверительно сказал Кузнецов.
Он достал из ящика стола лист чистой бумаги, желтую ручку, написал несколько строк, пришлепнул под текстом круглую печать.
– Возьмите эту бумаженцию, товарищ Донцов, и шагайте с нею прямо отсюда в больницу, что на Большой Морской. Предъявите ее доктору Бабаяну. Он с научной достоверностью должен установить ваш возраст. Сами понимаете – у нас запрещена эксплуатация труда подростков, и мы с вами обязаны свято блюсти революционную законность.
Он встал, подал Михаилу направление.
– Пожелаю удачи. Из больницы милости прошу ко мне. Давайте отмечу пропуск.
Михаил не помнил, как шел по коридору, как спустился в вестибюль. На месте сердца ощущался комок горечи. «Конец. Не быть тебе чекистом. Не быть никогда».
В вестибюле стоял все тот же часовой.
Михаил сунул ему пропуск и хотел поскорее выскочить на улицу. Но часовой загораживал проход. Он повертел пропуск и уставил на Михаила нахальные глаза.
– Как дела? Домой небось завернули?
Наверное ему было до отчаяния скучно.
Михаила взяло зло: «Еще издевается, гад…» Сказал и удивился своему звенящему голосу:
– Стоишь?
– Ну, стою…
– И стой молча, пока не сменят. Разговаривать без дела часовому запрещено. Службы не знаешь.
– Ух ты, какой строгий, – пытаясь сохранить достоинство, натянуто заулыбался красноармеец.
Доктор Бабаян – кудрявый, средних лет армянин, разговорчивый и быстрый, как комочек ртути, – мельком заглянул в направление, бросил:
– Раздевайтесь, юноша.
В кабинете, кроме него, присутствовали довольно молодая черноглазая сестра и пожилой лысый фельдшер с усами, как у Тараса Шевченко. Вдоль степ стояли непонятные приборы: похожий на самовар никелированный бак с резиновой трубкой, высокая деревянная доска с делениями и ходившим по ней вверх и вниз ползунком.
Михаил снял пиджак, рубашку, бросил на табуретку.
– Совсем, совсем, – доктор нетерпеливо помахал рукой, будто отстраняя от себя ненужные мелочи.
– Как… совсем?
Михаил, краснея, покосился на сестру. Лицо ее было невозмутимым.
– Брюки, кальсоны долой. Вот так.
Михаил покорно разоблачился догола и прикрылся ладонями.
– Ну-ну, без фиговых листочков. Здесь вы передо мной, как на страшном суде перед господом богом, – стремительно подходя к нему, сказал доктор.
Михаил нахмурился, выпятил грудь и напряг мышцы. Подумалось, что так он будет выглядеть старше.
– Даже свой апостол Павел имеется, – продолжал доктор, взглянув на стоявшего рядом фельдшера.
Ощупал сухими холодными пальцами грудь, плечи, бицепсы и зачем-то горло.
– Ну-с, каково сложение, Павел Остапыч? – обратился к фельдшеру.
– Та шо ж – хоть сейчас у гвардию, – прогудел тот.
Доктор извлек из кармана халата трубку, выслушал и выстукал Михаила.
– Рано мужаете, юноша.
– Почему рано, мне семнадцать, – мрачно отозвался Михаил.
– Что вы говорите?! Будь у вас усы, я дал бы все тридцать, – доктор отошел к столу. – Юлия Филипповна, измерьте сего молодца.
Сестра велела Михаилу встать на низенькую площадку у основания доски с делениями. На голову опустилась доска, прикрепленная к ползунку.
– Сто восемьдесят.
– Отлично, – доктор потер ладонь о ладонь, будто услышал очень приятную весть.
Сестра подала Михаилу резиновую трубку от бака, похожего на самовар.
– Сделайте глубокий вдох и дуйте сколько хватит сил.
«Вот оно, самое главное», – подумал Михаил. Прежде надо успокоиться, выровнять дыхание. Так. Теперь наберем воздуху…
Бак оказался из двух цилиндров. Верхний, вставленный в нижний, лишь Михаил начал дуть в трубку, пополз вверх. Еще… Еще… Лицо Михаила побагровело, запас воздуха иссякал, а цилиндр поднялся всего на вершок. Ну, еще немножко… еще… Звякнул выскочивший из бака внутренний цилиндр.
– Одевайтесь, богатырь, – услышал Михаил голос доктора.
Победа!
Когда оделся, доктор пригласил его сесть к столу и начал что-то строчить на бланке. При этом говорил без умолку.
– Датой вашего рождения, дорогой мой, в пределах от 904-го до 906-го я могу распорядиться действительно, как господь бог. Выглядите вы на все семнадцать, тем более что страстно этого желаете. Следовательно, так и запишем: родился в 1904 году. Какой месяц вас более всего устраивает?
– Февраль.
– Не ошибитесь, юноша. Родившегося в феврале ожидает бурная, полная всяческих превратностей жизнь. Ненадежный месяц, знаете ли. То в нем 28 дней, то 29… Кстати, какого числа вы собираетесь праздновать день своего рождения?
– Первого.
– Ну, разумеется, не второго же… Тэк-с, – доктор встал, поднялся и Михаил. – Получите ваш документ. Позвольте поздравить с рождением.
«Новорожденный» принял бумажку, горячо и сбивчиво пробормотал: «Спасибо, спасибо… доктор», – пятясь к двери, поклонился фельдшеру, сестре, никелированному баку и покинул кабинет.
В вестибюле дежурил другой красноармеец, и это было чертовски досадно. Очень хотелось бы взглянуть в глаза тому нахалу.
Кузнецов по-прежнему сидел в своем закутке и утирался мокрым платком.
– Скоро обернулись, – улыбнулся он, увидев Михаила в дверях, и протянул руку: – Ну-ка, что там пишет доктор?
Прочитал, одобрил своим обычным «ладно, ладно», достал голубую новенькую папку и аккуратно уложил туда оба донцовских документа: путевку и справку о возрасте. Из облезлого канцелярского шкафа достал анкету, вручил Михаилу, кивнул на дверь.
– Идите туда, заполните. Пишите разборчиво.
За перегородкой стоял маленький столик и расшатанный стул. Чернила загустели, и писать ими было одно мучение.
В соответствующую графу Михаил внес новую дату своего рождения. При этом не только не испытал неловкости, но поймал себя на том, что верит, будто ему семнадцать лет. Такова магическая сила официального документа.
Прочитав анкету, Кузнецов удовлетворенно кивнул. Спросил только:
– Василий Егорыч Донцов из Одиннадцатой армии ваш брат?
– Да.
– Ладно, ладно… Теперь, будьте добры, ознакомьтесь с этим документом и, если не последует возражений, распишитесь внизу.
Перед Михаилом легла бумага с машинописным текстом, В ней говорилось о том, что нижеподписавшийся обязуется верно, не щадя сил и самой жизни, служить трудовому народу, Советской власти и делу мировой революции, свято хранить доверенную ему служебную тайну и в случае нарушения данной заповеди готов понести наказание по всей строгости революционных законов.
Фразы были торжественны, бескомпромиссны и вызывали трепет. Именно их и недоставало Михаилу, чтобы в полной мере ощутить значительность происходящих в его жизни перемен.
Без колебаний он поставил под текстом свою подпись.
Вместе с анкетой обязательство также легло в голубую папку. Михаил догадался: отныне папка станет «его». Она вберет в себя все, что с ним произойдет на службе в Чека. Подумалось: лет через десять эта папка, возможно, сделается пухлой, как роман Дюма. И такой же интересной. Если бы возможно было заглянуть вперед…
– Садитесь, Михаил Егорович, давайте познакомимся, – без улыбки сказал Кузнецов. – Меня зовут Федор Ильич. Я, как вы догадываетесь, занимаюсь личным составом. Вам работа предстоит ответственная – в секретном отделе. Этот отдел занимается борьбой с контрреволюционным политическим подпольем. – Он тронул очки за дужку, сдвинул вниз, давая отдохнуть переносице, взглянул на Михаила поверх стекол. – Здесь, как вы сами понимаете, требуются грамотные люди. Их, между прочим, у нас так и величают: наша интеллигенция. Вы меня поняли?
Михаил кивнул.
– На работу милости прошу завтра к девяти утра. Явитесь в комнату сорок пять, к товарищу Холодкову. Это начальник отдела. А теперь, Михаил Егорович, попрошу вас спуститься вниз к нашему фотографу. Сошлитесь на меня, он вас сфотографирует и завтра к концу дня милости прошу получить пропуск.
Спустя полчаса Михаил вышел на улицу. Остановился у дверей. Взглянул направо, налево. Нет, не сон, а явь – принят в Чека! Кто принят в Чека? Михаил Егорыч Донцов! Да, Михаил Егорыч! А Кузнецов-то! Мировой мужик. Только не похоже, что пролетарий. Но все равно мировой.
Прохожие с удивлением оглядывались на странного парня: стоит на пороге Азчека и улыбается – рот до ушей. Нечасто такое увидишь.
6
Большая удача, если в ранней юности жизнь твоя обретает ясную цель. Михаил понимал это, правда, скорее инстинктом, чем разумом.
Что было в его жизни до сих пор? Книги да красивые несбыточные мечты, разделенные с такими же подростками – Ибрагимом, Алибеком, Ленькой. Кругом круто менялась жизнь, а они, по малолетству и по причине полной зависимости от родителей, не имели права принять в ней участие, испробовать, на что годны.
Они издали следили за тем, как рушились устои старого мира, но это ничего не меняло в их личной жизни, тусклой жизни городских мальчишек из рабочих семей. Поэтому книги питали их воображение. Маленький лорд Фаунтлерой и Реми Мелиган, Морис Джеральд и Оливер Твист, Нат Пинкертон и граф Монте-Кристо – таков был круг их героев, таков был связанный с этими героями объем понятий, которыми они расцвечивали тусклую обыденность. Придуманная красота была эфемерна, но другой они не знали. И не могли знать. Красота суровой эпохи открывалась тому, кто участвовал в ее свершениях.
Таким человеком был брат Михаила.
В первый вечер, когда они остались вдвоем с Василием в «темной», Михаил вытащил из лежавшей на табуретке кобуры братнин наган и с удовольствием прицелился в лампочку. Василий молча отобрал у него револьвер, сунул под подушку.
– Ты чего? Бандитов опасаешься? – с загоревшимися глазами спросил Михаил.
Брат усмехнулся одной половиной рта – мешал шрам через всю щеку, – сел на стул, начал снимать сапоги.
– Тут, – сказал, – похоже, без бандитов хватает охотников до чужого оружия.
– Я, что ли?
– Догадливый.
Василий разделся, лег на свою старую скрипучую деревянную раскладушку с ножками в виде буквы икс.
Михаил погасил свет и тоже лег. Отвернулся к стене. После недолгого молчания сказал:
– Что я, маленький?
– Да нет, не маленький, – отозвался Василий. – На фронте встречал ребят чуть постарше тебя.
– Я бы тоже смог воевать.
– За что?
– Известно: за Советскую власть.
– Нужны Советской власти такие вояки.
– А что? – Михаил вскинулся на кровати. – Думаешь, струсил бы?!
– Нет, зачем же? Тут дело в другом. Помнишь, как ты в младшем классе с Нуралиевским сынком подрался?
– С Гасанкой?
– Ну да. Ты тогда разве для собственного удовольствия кулаки-то в ход пустил?
– Он сел на меня верхом… Я, говорит, буду твоим хозяином.
– Вот-вот, – обрадованно проговорил Василий, – отсюда, от печки и пляши. Либо он тебя оседлает, либо лупи его по морде – третьего не дано. Уж наш батя на что крут – сам знаешь, – и тот, помню, тебе эту драку простил. Понял: на твоей стороне справедливость, классовая справедливость…
Василий заскрипел раскладушкой.
Вспыхнула зажигалка, на миг вырвав из непроглядной тьмы резко очерченный профиль брата.
Точечный огонек цигарки, то разгораясь, то притухая, диковинным светлячком повис в воздухе. Запахло махорочным дымом.
– Борьба, Миша, – это нелегкое дело, – каким-то незнакомо жестким тоном проговорил Василий. – Нелегкое и некрасивое. Красиво о ней только пишут. Те, кто ее никогда в глаза не видывал. Ну, сам посуди: что красивого в убийстве, в смерти? Кровь, стоны, вопли. Каждая смерть с нашей ли, с вражеской ли стороны прибавляет вдов и сирот. Разве ты задумывался над этим, парень? – Помолчав, продолжал: – Представь себе знакомого человека, который тебе по нраву, друга, что ли…
С поразительной ясностью Михаил вдруг увидел давнишнее: на крыльце дома стоит, опираясь на палку, поручик Лаврухин с папиросой в зубах, рядом – кукольной красоты девочка.
– …Представь, что он, веселый, здоровый секунду назад человек, вдруг падает, сраженный пулей…
…Поручик на крыльце схватился за грудь, медленно стал оседать и рухнул на асфальт. Девочка в ужасе вскрикнула, закрыла руками лицо… Михаил почувствовал: по щекам от висков струйками сбегает пот.
– Горько это, тяжело…
Зашипела и погасла цигарка.
– Конечно, для какого-нибудь убийцы все просто. Ему чужая жизнь, что щепка. Но любители пострелять в людей в Красной Армии долго не держатся. Либо к «зеленым» сбегают, либо на мародерстве попадаются.
– Кто же нужен Красной Армии? – спросил Михаил, чувствуя неясную робость.
– Люди, Миша, люди, а не мастера убивать. Сознательные революционные бойцы требуются Красной Армии, которые, как бы тебе объяснить?.. Ну вот ты, скажем, заехал этому… Гасанке, что ли, по роже… Юшку пустил. Приятного мало, верно? Да ведь не мог иначе. Так и они, не могут не идти в бой против белой сволочи… Потому что революция – их кровное. Она установит справедливость на земле. Справедливость для них, для тебя. Это и дает им силу выдерживать смерть, кровь, свою и чужую. Понял?
– Понял.
– Навряд. Почаще вспоминай Гасанку, тогда, может, поймешь.
– А отец говорит…
– Ты отца не трогай. Он другую жизнь прожил. Старую. А нам с тобой новую начинать. Стремись к ней, строй ее. Я вот… всегда о ней думаю.
На этот раз молчание длилось долго. Брат, должно быть, разволновался, опять закурил.
– Что же мне делать? – Вопрос Михаила прозвучал по-детски беспомощно. Он сам уловил это и подосадовал на себя.
– Давай договоримся, братишка, – сказал Василий, – такие слова говоришь в последний раз. Не маленький. Что делать – пролетарию должно подсказывать классовое сознание. Вон Ванюша – смирен, смирен, а в решительный момент понял, что надо делать. Для начала вступи в Коммунистический Союз Молодежи. И друзей сагитируй. Вот тебе первое задание от Советской власти, товарищ. А теперь, – он погасил цигарку, – спать, спать…
Такие беседы происходили каждый раз, когда Василий ночевал дома. Он рассказывал о гражданской войне, о Ленине, о разгоревшейся в мире классовой борьбе, о руководителях и героях Бакинской коммуны Шаумяне, Джапаридзе, Петрове, Азизбекове, расстрелянных в Закаспийских песках. Этих людей он хорошо знал. Говорил горячо, вдохновенно, словно читал стихи. Но когда речь заходила о нем самом, о его работе, отделывался односложными словами. В ответ на просьбы Михаила рассказать, как он вылавливал контрреволюционеров, отмахивался:
– Да ну тебя!.. Начитался Пинкертонов.
Скрытность брата обижала Михаила и в то же время поднимала в его глазах профессию чекиста на некий недосягаемый пьедестал, делало ее особенно притягательной.