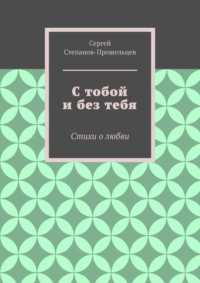
С тобой и без тебя. Стихи о любви
теперь безумно жаль всего, что не вернуть.
Торопятся часы. Уже осталось мало,
и я как будто сник, и к худшему готов,
но хочется опять того самообмана,
той мягкой теплоты оранжевых тонов.
* * *
Ты печали свои не смакуй,
отгони дней усталый табун.
Я помочь всё равно не смогу
вспомнить всё. Не нарушу табу.
Вечер был по-февральски уныл,
обвиваясь вокруг, как лассо.
Карнавальную маску луны
он напялил тебе на лицо.
Я сказал: «Дорогая Луна,
улыбнись, всё останется сном».
Ты была, как луна, холодна,
холоднее, чем снег за окном.
И к тебе больше нет мне путей,
всё горит, как в духовке пирог.
То предчувствие горьких потерь
оправдалось, хоть я не пророк.
Что осталось? Лишь зимние сны,
этот белый, как мельник, январь,
карнавальная маска луны
и холодная черная гарь.
* * *
Вовсю курортная страда,
но едешь ты не в Крым —
ты исчезаешь навсегда,
как туч летучий дым.
Кишит людьми большой вокзал,
как рисинками плов…
А я тебе и не сказал
каких-то важных слов.
Теперь меня и не проси,
слова уже не те:
они застряли, как такси,
в вокзальной суете.
И наше время истекло.
Прощается родня,
и ты глядишь через стекло
уже не на меня.
* * *
Желтый бисер фонарей,
в окнах – белый шёлк.
Я прошу тебя: налей
мне на посошок.
На дорожку посидим,
глядя на паркет…
Стану я совсем седым
через десять лет.
Давят сверху этажи.
Вот пора и в путь.
Я прошу тебя: скажи
ну, хоть что-нибудь!
Я шагну сейчас в мороз,
выстудивший двор.
Я бы легче перенёс
этот наш раздор,
если б не глядела вслед,
как глядят друзья,
чтобы всё свести на нет,
что уже нельзя.
* * *
Лупит в стёкла дождь шальной,
пахнет сшибленной сиренью.
Подожди, побудь со мной
ветром, шелестом, цветеньем!
И опять, беспечно юн,
слышит этот старый город,
словно звон гитарных струн,
светлых струй веселый говор.
И пускай все дни дожди,
пусть идут они стеною,
только ты не уходи,
будь со мною,
будь со мною!
Ты до крайности нужна.
Я того не принимаю,
чтобы робкая весна
вдруг заканчивалась в мае.
* * *
Ах вы, девочки дискотечные,
импозантные, бессердечные,
где же эта – несовременная?
Опустела моя Вселенная.
Как снежинка, порхнув, истаяла,
даже карточки не оставила —
только дни, что до боли дороги.
Только шелесты. Только шорохи.
Цветом вишенным сыплет с дерева…
Что же, милая,
ты наделала?
* * *
Прохожу на исходе зимы,
весь в снегу, словно в краске маляр,
и опять отбиваюсь от тьмы,
обступающей плотно меня.
Только нет у меня ни угла —
как всегда, основательно влип.
Только холод ночной. Только мгла.
Только ветра простуженный всхлип.
Совладать нужно с новой бедой,
но уже поубавилось сил.
Отзовись! Ну, хотя бы звездой,
хоть бы промельком этим косым!
* * *
Дальнейший наш путь неведом,
анализ всего потерян.
И совы – ночные ведьмы —
бесшумно летят, как тени.
Они не выносят света,
они собрались на саммит.
Они на нас смотрят с веток
опаловыми глазами.
И я, как сова-неясыть,
скольжу над листвою лета.
Но мне до сих пор неясно,
кто напророчил это.
Я жизнь свою проваландал,
но я не скулю, не ною,
поскольку запах лаванды
теперь навсегда со мною.
И нет ничего дороже
реки, что свернулась шалью,
чем лунная та дорожка,
ведущая в Зазеркалье.
Но ночи светлеет колер,
очнулись от спячки птицы,
и страшно от горькой боли,
что это не повторится.
…где эта девочка с русой косою?..
* * *
– Ты вернулся?
– Я лишь на три дня.
Я – туда, где дальних гор гряда…
Только ты не дождалась меня,
да и не дождёшься никогда.
Был я словно ветром унесён
за границы призрачных держав.
Извини, что это был лишь сон,
извини, я слова не сдержал.
Я по льду скользил – он, как фарфор,
Он глазурью абрис твой облил.
Принимал он много разных форм,
но остался призраком любви.
И сегодня вновь в прожилках лёд
и такой же кучерявый дым,
и январь вновь делает облёт
по владеньям голубым своим.
Я плохой, наверное, рыбак:
невод пуст, печален мой удел,
и так долго стынут на губах
те слова, что я сказать хотел.
* * *
Нет, позабыть я уже не способен
этот июль, хоть авральная гонка.
Где эта девочка с русой косою?
Как отыскать в стоге сена иголку?
Как мне вернуть это лунное лето,
где уже места для нас не осталось?
Где эта девочка в женщине этой
В чёрном реглане, скрывающем старость?
Где ты? Ведь ты мне попортила крови,
кроме притворства не вижу я цели.
Где притаилась ты в строгой матроне,
чтобы меня удержать на прицеле?
Где ты? Ответь, прояви ко мне милость…
Но уплывает виденье, как жерех,
как отраженье чего не случилось,
в этом пустом тонкостенном фужере.
* * *
Я всё как должное приму:
тебе – цветы, репейник – мне.
Мне будет легче одному,
с бедой своей наедине.
Я буду жить, себя гнобя,
всему на свете поперёк.
Мне будет легче без тебя —
ведь ты не выскажешь упрёк.
Я не нарушу твой покой,
я не желаю вовсе зла,
ведь помню я тебя такой,
какой ты сроду не была.
* * *
Там, где кафе за продрогшим бульваром,
ветер встречает реликтовым сором.
Всё относительно. Я забываю
наши с тобою случайные ссоры.
Наши обиды, что чёрною тенью
пересекают ленивое лето.
Я забываю твоё раздраженье,
я не хочу даже думать про это.
Память свою расщеплю, как лучину:
счастье оставлю, сожгу только горе.
Надо ли помнить, что нас разлучило,
если гораздо важнее другое?
Если, прости, представляется чётко
мне постоянно, не с бухты-барахты,
девушка в джинсах, с короткою чёлкой,
где ты, в каких параллельных мирах ты?
Где ты? Откликнись! Мигни мне зарницей,
дальней кометой и вспышкой сверхновой.
Не довелось нам с тобою проститься —
это ль не повод, чтоб встретиться снова?!
* * *
Я ехал с пересадкой, и случай был такой:
соседка по вагону, согнутая клюкой,
мне говорила: «Знаешь, навряд ли есть шкала
определять красавиц – я первою была.
Страдали ухажёры – такая канитель.
Гармошки вызывали друг дружку на дуэль.
А я всё выбирала: тот хил, тот ростом мал…
И самый раскудрявый меня поцеловал…»
А я сидел, не верил. Я думал: это – бред.
Чего ни сочиняют теперь, на склоне лет!
Морщинистые щёки и складки возле рта…
С годами исчезает былая красота.
Я был тогда наивен, упрямее осла,
и вот я сам старею, весна моя прошла,
а с ней – две трети жизни, одна осталась треть.
Нет ничего печальней, чем в зеркало смотреть.
Как в сказке, не умоешь лицо живой водой.
Одна теперь отрада – попутчик молодой.
И пусть в купе вечернем пойму я по глазам,
что мне он не поверит, да я не верю сам.
* * *
Нет, не истратил я свой пыл.
Пусть много суеты,
тебя я видел средь толпы,
но исчезала ты.
И в этом городе большом,
что был душе не мил,
к тебе я приближался, шёл,
увы, не находил.
Пойми, мне только двадцать лет,
и твёрд я, как наждак.
Цеплялся каждый турникет
в метро за мой пиджак.
Но я не думал в эти дни,
свой продолжая путь,
что я цепляюсь, как они,
за то, что не вернуть.
* * *
Не найти твоих следов —
хоть справляйся в МУРе.
Нрав у октября суров —
небо брови хмурит.
И, как эпилог всему,
свистопляска буден —
это тризна по тому,
что уже не будет.
В лужу тень от фонаря
плюхнулась, косая.
В огород соседский я
камешки бросаю;
Роты ясеней и лип
приспустили флаги;
как горчичник, лист прилип
на спину дворняге…
Не уеду ни в Москву,
ни в какие Сочи!
Пусть, как жухлую листву,
дождь меня намочит.
Пусть пройдут и день, и сто,
в том себя утешь ты,
что проклюнется росток
зёрнышка надежды.
* * *
Не гляди в дверной проём, за которым,
задевая крыльями потолок,
проносится огненным метеором
рядом с лампочкой мотылёк.
Знаешь, милая, я ведь тоже,
как и он, счёт теряя годам и дням,
ничего как следует не итожа,
всё кружу по селам и городам.
Знаешь, во мне это неистребимо:
не выношу ни заборов, ни стен.
Оттого и теряю друзей и любимых,
не получив ничего взамен.
Ты уж прости, если чем-то обидел —
так много было ненужных дел,
за то, что главного не увидел —
наверное, не туда глядел.
За то, что прошу у тебя прощения,
за то, что верю в тебя пока…
Кружусь – бесконечно мое кружение,
кружение мотылька.
* * *
На откосе сладко пахла мята…
Разве мы с тобою виноваты,
если всё на свете голубое,
если вышло всё само собою?
Это было утром в воскресенье.
Мир охвачен странным был весельем,
до краев медовым полон летом.
Что полнее может быть, чем это?
Вот и вечер… А тебе всё мало —
бабочек в окошко зазывала,
и они шуршали, словно пламя,
вздрагивая тёплыми крылами.
Помнишь? Время с глаз снимает шоры.
Но опять я слышу этот шорох,
только знаю, что уже не в силе
эхо слов, что мы произносили.
* * *
Лес, как старик, костляв и лыс,
ни мух, ни комаров.
Ещё дрожит последний лист,
как гость иных миров.
Трубит зима в хрустальный рог,
холодный воздух сыр…
Он так промок и так продрог,
что больше нету сил.
И нет надежды никакой
на лучшее уже.
В сырой земле – сплошной покой
страдальческой душе.
А здесь – и ветер, и пурга,
и в бодрости нужда.
Зачем, кому и на фига
такая жизнь нужна?
Но я, как этот лист, терпя
земную боль и дрожь,
одно лишь знаю: от тебя
меня не оторвёшь.
* * *
Ветер уснул в рыхлой листве,
лес удивлённо-тих:
необъяснимый струится свет
из глаз твоих колдовских.
Милая, руки твои легки,
робки, как листопад.
Звёзды, как белые мотыльки,
над головой летят.
Тонет луны голубой овал
В копнах сухих омел,
чтоб многоустый ночной хорал
песню любви нам пел.
* * *
Я жил предчувствием разлук,
всё знал я наперёд.
Прощальный в небе сделав круг,
растаял самолёт.
А я стоял, а я смотрел,
лёд каблуком дробя,
и зашагал, как на расстрел,
туда, где нет тебя,
где больше мне покоя нет
в объятьях тишины,
где только память, только след,
лишь боль моей вины.
** *
Давно ль одуванчики пухом сорили?
Теперь же всё серо. Дождь форточку лижет.
Твой город, продутый ветрами сырыми,
всё ближе и ближе,
всё ближе и ближе.
Вокзал, дебаркадер, сараи, бараки…
Листва прилипает – не надо и клея,
но вспыхнет багрянцем осиновый факел —
и станет светлее,
и станет светлее.
Как долго я ждал и судьбе не перечил,
и гильдия бед меня, вроде, не ищет.
Я думал о том, как в преддверии встречи
мне сделаться чище,
мне сделаться чище.
Ты выйдешь из дома. Не всё голубое,
но верю: не смоет нас в море приливом,
и только с тобою, и только с тобою
я буду счастливым,
я буду счастливым.
* * *
Опять сплошняком туман и дожди,
срывается снег с высот,
приметам всем назло, вопреки,
и нету ещё весны.
И снова неясно, что впереди,
жизни опять несёт,
как будто по руслу горной реки —
швыряя на валуны.
Но слишком опасен ила кисель,
порогов ещё не счесть.
И пусть неприятностям нет конца,
сомнение верх берёт,
но есть ещё, кажется, в жизни цель
и силы как будто есть,
и надо вытереть кровь с лица
и к берегу чалить плот.
Ты выйдешь на берег. Ты будешь ждать,
не зная совсем о том,
что, словно радист, услышавший SOS,
бросает сразу дела,
ты мне помогла, если падал – встать,
и плыть, если плот – вверх дном,
и если плутал или шёл вразнос,
Полярной звездой была.
…подожди! Я крикну: «Стой!»…
* * *
Что я в жизни потерял,
отчего так ноет рана?
Знаешь, я ведь без тебя,
как верблюд без каравана.
Снится сон: я не с тобой
и бреду по белой стыли,
мне изъела сердце боль,
как сухой песок пустыни.
Я молю – такая блажь,
но другого мне не надо, —
чтоб явился хоть мираж,
что я пью твою прохладу.
* * *
Вновь прочерчивает воду
ломкий солнечный зигзаг.
Воздух так насыщен йодом,
что в глазах стоит слеза.
Но любовь прошла, как лето,
что готово в осень впасть,
не купить уже билета
на её вторую часть.
Прежней ты уже будешь,
ты – остывшая звезда,
и с тобой я потому лишь,
что на поезд опоздал.
Вот стою, стою с вещами,
и так муторно в душе
от ненужного прощанья
с тем, что кончено уже.
* * *
Знаю, что ты не спишь,
хоть никаких угроз.
Ночь – летучая мышь —
мне радирует: SOS!
Сердцем я не ослеп,
только не виден нам
узкий, как волчий след,
горя глубокий шрам,
пепел сгоревших трав,
в дымном тумане падь,
и этот жаркий страх,
что надо жить опять.
* * *
Будильник, как раньше будит,
но сделать смогу не много:
уже ничего не будет —
ни доброго и ни плохого.
И скроются с серой далью
ничтожные мои шансы,
и скажут мне «до свиданья»,
а надо бы попрощаться.
Да, час расставанью пробил,
хотя он совсем не нужен.
Теперь мы с тобой, как дроби,
неправильные к тому же.
И логика тут не катит,
она избегает женщин:
уже я не знаменатель,
числителя стал я меньше.
И жить, по последним данным,
не сладко на этом свете,
и в мире том чемоданном
лишь тамбурный горький ветер.
И вихри беды большие
закружат меня, как птицу,
пушинкой в бездонной шири,
где не за что зацепиться.
* * *
Всё смешалось,
всё давно смешалось,
всё я в кучу общую свалил —
даже эту мелочную жалость
по словам несказанным своим.
Поменяю шило я на мыло,
будет жизнь —
один сплошной вокзал.
Отчего, когда ты говорила,
я тебе ни слова не сказал?
Может, всё б
не кончилось разладом?
А теперь —
ты, в общем-то, права —
ничего жалеть уже не надо,
только эти хмурые слова.
* * *
Встану и непременно скажу,
что я тоже с трамвая схожу.
Нет, с ума я ещё не схожу,
нам, наверно, давно по пути,
не спешите так просто уйти.
Постарайтесь хоть что-то понять.
Посидим. Ещё, кажется, пять.
Помолчим. А над городом – дым.
Я, как он. Я таким же седым
растворюсь в частоколе оград.
Что-то спросите.
«Да, – невпопад
я отвечу. – О чём это вы?
В этом мире так много травы.
И любви. Поглядите, она
даже в воздухе растворена.
Дайте руку, уйдём поскорей
от домов, от машин, от людей,
и в лесов голубой окоём
грусть свою навсегда окунём,
всё забудем…»
Но лязгнет вагон,
сойдёте, лишь ветер вдогон.
Только дым. И несусь я опять
одинокие ночи считать.
В эту комнату с пылью в углу,
в эту сизую плотную мглу,
где броском в амбразуру окна
вдруг влетает гранатой луна.
* * *
Ветер с моря вновь идёт на нас стеной.
Глянешь – всюду гор коричневых кайма.
Чайки с криками несутся над волной,
с шумом в воду зарывается корма.
Мы устали быть счастливыми уже.
Я к тебе сейчас в последний раз прильну…
Солнце в моря опускается фужер —
алым камешком рубина в глубину.
Сколько дней без отпусков я оттрубил
с той поры, но до сих пор сверкает мне
это солнце, как пылающий рубин,
даже в мутной, потемневшей глубине.
* * *
Уходить пора пришла —
времени до боли мало…
Рукава намок обшлаг
от летящего тумана.
Он втекает в узкий створ
дворика, где тает лето,
но ведём мы разговор
абсолютно не про это.
Словно дым, он невесом,
в синих тлеющий просторах,
ни о том и ни о сём —
как невнятный липы шорох.
Скрип ступеней – нервный скрип
(и кого там только носит?).
Тишина. И чей-то крик,
доносящийся из ночи.
Ты в тени исчезнешь той,
что угаснет в час восхода.
Подожди!
Я крикну: «Стой!», —
с опозданием в три года.
* * *
Никогда я не был ещё таким,
но теперь я, кажется, загнан в угол,
если все размолвки – не пустяки,
если мы не в силах простить друг друга.
Впрочем, правит тут лишь один закон —
быстрых расставаний и поздней грусти.
Значит, не грозит нам теперь заход
в эту речку времени с новым руслом.
Значит, в ней никак мне не утонуть,
значит, в ней – теперь уже точно знаю —
только лишь бессонница, только муть,
только лишь безглазица – тьма ночная.
* * *
Февральский день… Как холодно вокруг!
Не отогреть губами зябких рук,
и падают, произнесём едва,
холодными ледышками слова.
Тот зимний день… Ещё далёк апрель.
И женщина не сможет стать добрей.
Ей надоели тысячи забот.
Она сегодня встанет и уйдёт.
Уйдёт совсем. Ей надо жить в тепле.
И не оставит адрес на столе.
Она уедет подышать весной.
Ей будет легче – без меня, одной.
А я останусь. В мартовских снегах,
с улыбкою, замёрзшей на губах,
в квартире, где глядит в окно луна
её глазами. Так же холодна.
* * *
«Ну, скажи хоть слово!»
Ты в ответ, сердясь:
«Коль оборван провод,
пропадает связь».
Виноват, впустили
дни, что так черны.
Как мишени в тире,
мы обречены.
Дулом тёмных улиц
смотрит смертный час.
Кто же эти пули
посылает в нас?
Мы ли? Наши клоны?
Впрочем, цель ясна:
не беречь патроны
для другого сна.
* * *
Может, хватит? Довольно!
Я ветер послал за тобою —
он покажет дорогу.
Ты вовсе ему не чужая.
Вспомни душный июль.
Вспомни частые всхлипы прибоя —
это море, похоже,
предчувствует: я уезжаю.
Может, это приснилось?
Уж очень давно это было.
Сколько лет унеслось,
как беспутная шумная стая?
И ты всё позабыла?
Неужто и вправду забыла?
Неужели, как призрак,
другою, бесплотною стала?
Нет, я в это не верю.
Я право имею на жалость.
Перелётные птицы —
и те свои помнят становья.
Как же быть с этим морем,
которое в память вплескалось,
и с деревьев зелёной,
почти неприступной стеною?
Ночи тёплые тени
нас шорохом лунным касались,
этот шорох скользил в тёмных скалах,
в гранитном расколе.
И мы разве прощались?
Нам это лишь только казалось.
Мы совсем не прощались —
придумаешь тоже такое.
Сколько лет промелькнуло…
И снова тот галечный берег.
Мускулистые волны
его торпедируют мощно…
Ты прости, что я верил.
Прости, до последнего верил.
Ты прости, что в тебя
и сейчас ещё верить мне можно.
* * *
Знаю я: всему виной —
никакого нету слада —
молодильное вино
абрикосового сада.
И тумана вязкий клей
обволакивает поле,
и бокал апреля всклень
ожиданьем счастья полон.
Как посол иных держав
среди шумного вокзала,
я его не удержал,
потому что ускользало.
Ты ещё со мной стоишь,
но дождём твой профиль вымыт,
и в руках держу я лишь,
что уже неуловимо.
Что слоится, как туман,
и по-прежнему ненастьит, —
этот мир, где лишь зима,
мир, захлопнутый для счастья.
* * *
Подумать я тогда не мог,
что это – карантин,
что я смертельно одинок,
хотя и не один.
Но я тогда не пожалел,
когда, уже в конце,
твоя улыбка, как желе,
застыла на лице.
Когда холодные, как ночь,
слова я слышу те,
что неожиданны, как нож
убийцы в темноте.
* * *
Панорама дальняя,
лодка в мелкой старице…
Время увядания,
время нам состариться.
Желтизной всё залито…
Может, двинем полем мы?
Накопилось за лето
то, что мы не поняли.
Были ямы, рытвины…
Как у жизни выпытать,
что же у корыта нам
ожидать разбитого?
Не понять, наверное,
то, что не положено,
что твоё неверие
на моё помножено…
…но для чего эта память? На что мне?
* * *
Запах духов, острый запах укропа,
белый шиповник в саду придорожном,
где чернобылом заросшие тропы…
Как бы забыть, да забыть невозможно.
Снова мне снится жасминовый ветер —
счастья пролётного бдительный сторож.
Как этот мир непонятен и светел!
Как он прекрасен, хмельной от простора!
В ставни закрытые веткою стукнет,
вновь уводя в бурелом чернобыла…
Только лишь юности это доступно.
Но для чего это всё-таки было?
Но для чего эта память? На что мне
эта тревога и боль до предела?
Словно у старой заброшенной штольни
с часу на час ожидаю расстрела.
* * *
От бега коленные ноют суставы,
ботинки мои увязают в снегу,
а я всё бегу и бегу за составом,
а я всё проститься с тобой не могу.
Ты – там, за окошком, в тепле и покое,
куда не доносятся скрежет и шум,
а я… Я не знаю, что это такое,
зачем я бегу и рукою машу.
Каким запрещается это законом
с собой меня взять, как какую-то кладь?
И я всё бегу, всё бегу за вагоном,
боясь, обретая, тебя потерять.
И нет уже сил, и стесняет дыханье,
и поезд скрывается в сером снегу.
Но как мне поверить, что это – прощанье,
когда я расстаться с тобой не могу?!
* * *
Убогий дом, фасад его обшарпан,
но он надёжно от других скрывал
и приглушал, как будто тёплым шарфом,
слова любви – счастливые слова.
Они звучали в лестничном пролёте
мелодией единственною той,
какую слышат в неземном полёте
над временем, пространством и мечтой.
Но время шло, как будто счётчик щёлкал,
я бег его челночный не унял.
Снесли, наверно, старую «хрущёвку»:
ничто не вечно, даже и Луна.
Она, увы, ни в чём не виновата.
Она томится с нами без суда.
Настанет день: от жёсткого захвата
она освободится навсегда…
Но ты Луну тогда опередила.
Слова любви – пустой, наверно, звук.
Ты скрылась, как вечернее светило,
среди нависших облаков разлук.
Ну что ж, прощай. Всё обошлось без крови.
Хвала тебе. Мирская исполать,
и всё понятно, всё понятно, кроме
того, что мне вовеки не понять.
* * *
Распалась наша уния —
как рыба, был я снул,
но жалко эту юную,
безумную весну.
Когда леса и пажити
окрасил хлорофилл,
когда тебя без памяти

