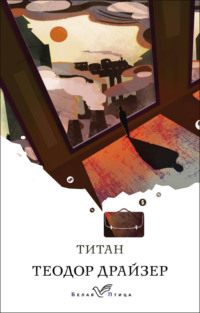
Титан
– Мистер Каупервуд, – произнес он, стараясь найти подходящие слова. – Не стоит и говорить, как я рад вашему искреннему признанию. Я рад, что вы решили обратиться ко мне. Вам больше не нужно упоминать об этом. В тот день, когда вы вошли сюда, вы показались мне незаурядным человеком; теперь я уверен в этом. Нет нужды извиняться передо мной. Я не прожил бы в этом мире больше пятидесяти лет, если бы не приходилось пускать в ход клыки. Пока это будет вас устраивать, вы будете желанным клиентом моего банка и желанным гостем в моем доме. Мы будем обсуждать планы в зависимости от обстоятельств. Мне бы хотелось, чтобы вы приехали в Чикаго исключительно потому, что вы мне нравитесь. Уверен, что, если вы решите поселиться здесь, мы будем полезны друг другу. Забудьте об этом разговоре; я никому не расскажу о нем. Вам предстоит вести свою битву, и я желаю вам удачи. Можете рассчитывать на любую поддержку с моей стороны, а когда вы разберетесь со своими семейными делами, приезжайте и познакомьте нас с вашей женой.
Покончив с делами, Каупервуд сел в поезд на Филадельфию.
– Эйлин, – сказал он, когда они встретились на перроне, куда она пришла встретить его, – думаю, что Запад – это лучший выход для нас. Я доехал до Фарго, но не думаю, что нужно уезжать так далеко. Там нет ничего, кроме индейцев и дикой прерии. Тебе понравилось бы жить в ветхой хижине, Эйлин? – шутливо спросил он. – Ты стала бы завтракать жареными гремучими змеями и луговыми собачками? Как думаешь, тебе бы это понравилось?
– Да, – радостно ответила она и взяла его под руку, когда они сели в закрытый экипаж. – Я смогла бы это выдержать, если ты можешь. Я готова отправиться с тобой куда угодно, Фрэнк. Там я заказала бы себе красивое индейское платье, расшитое кожей и бусами, и шапку из перьев, какие они носят, и еще…
– Вот оно что! Ну конечно! В хижине рудокопа нужна красивая одежда.
– Ты бы не стал долго любить меня, если бы я прежде всего не носила красивую одежду, – с жаром возразила она. – Ох, как же я рада, что ты вернулся!
– Трудность в том, что эти края не такие многообещающие, как Чикаго, – продолжал он. – Думаю, нам все-таки следует жить в Чикаго. Я вложил часть капитала в Фарго, и мы будем иногда ездить туда, но поселимся в Чикаго. Я больше не хочу отправляться туда один; это невозможно, – он сжал ее руку. – Если мы не сможем быстро пожениться, я все же буду представлять тебя как мою жену.
– Ты не получал новых известий от мистера Стэджера? – спросила Эйлин. Она вспомнила о попытках Стэджера получить разрешение на развод у миссис Каупервуд.
– Ни слова.
– Очень жаль, – вздохнула она.
– Не грусти. Дела могли обернуться еще хуже.
Было бы пустой тратой времени представить даже кратко последующие годы, в течение которых произошли перемены, включая окончательный отъезд Каупервуда из Филадельфии в Чикаго. В первое время это были поездки сначала в Чикаго, а потом и в Фарго, где его секретарь Уолтер Уэлпли по доверенности управлял строительством делового квартала, короткой линией конного трамвая и ярмарочной площади. «Строительно-транспортная компания Фарго» – так называлась фирма, основанная президентом Фрэнком А. Каупервудом. Заключение контрактов контролировал Харпер Стэджер, его бывший адвокат и юрист из Филадельфии.
Какое-то время Каупервуд жил в чикагском отеле «Тремонт», до поры, ввиду присутствия Эйлин, избегая частых деловых встреч с влиятельными людьми, с которыми познакомился в свое первое посещение города. Тем временем он постепенно разбирался в делах биржевых контор Чикаго с целью заключить партнерское соглашение с каким-нибудь опытным, но не слишком честолюбивым брокером, который сможет познакомить его с особенностями, персонажами и коммерческими предприятиями Чикагской фондовой биржи. Однажды он взял Эйлин с собой в Фарго, где она с высокомерным и скучающе-безразличным видом обозревала растущий город.
– Фрэнк! – воскликнула она, когда увидела деревянную четырехэтажную гостиницу и длинную неказистую улицу в деловом квартале с беспорядочными рядами кирпичных и деревянных складов, зияющими пустотами между домами на обочине грунтовых дорог. Эйлин, в модном дорожном костюме, с ее самоуверенностью, тщеславием и склонностью к преувеличению, являла собой странный контраст со сдержанными манерами, неброской одеждой и безразличием к собственной внешности, отличавшей большинство мужчин и женщин этого молодого города. – Ты же не мог всерьез думать, что мы будем жить здесь, правда?
Эйлин гадала, когда же ей представится возможность завести светские знакомства и заблистать в полную силу. Предположим, ее Фрэнк станет очень богатым и заработает много денег, гораздо больше, чем в прошлом, какую пользу это принесет ей здесь? До его банкротства в Филадельфии, до того, как ее заподозрили в тайной связи с ним, он наконец-то стал жить на широкую ногу и начал устраивать блестящие приемы. Если бы она тогда была его женой, то без труда вписалась бы в высшие круги филадельфийского общества. Но здесь… Боже милосердный! Она с отвращением вздернула носик:
– Что за жуткое место!
Таково было ее единственное мнение о самом энергичном и быстро растущем городе на северо-западе США.
Но когда речь шла о Чикаго с его кипучей и бьющей через край жизнью, Эйлин совершенно преображалась. Помимо решения множества финансовых проблем, Каупервуд следил за тем, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Он рассказывал ей о местных магазинах и предложил делать покупки в них, чем она с энтузиазмом и занималась, разъезжая в открытой коляске в сногсшибательных нарядах, в большой коричневой шляпе, так шедшей к ее смуглому лицу с румянцем и рыжевато-золотистым волосам. Когда Эйлин впервые довелось увидеть исполненные красоты Прери-авеню, Норт-Шор-драйв, Мичиган-авеню и новые особняки на Эшленд-бульвар, окруженные зелеными лужайками, надежды, устремления и привкус будущего Чикаго взыграли в ее крови точно так же, как раньше у Каупервуда. Все эти богатые дома были новыми, а знатные люди Чикаго лишь недавно стали богачами, как и они сами. Она забыла, что до сих пор еще не была женой Каупервуда, однако чувствовала себя его настоящей супругой. Улицы, большей частью с тротуарами из розоватого плитняка, окаймленные молодыми, недавно высаженными деревьями, лужайки с подстриженной зеленой травой, окна домов с яркими маркизами и кружевными занавесками, колыхавшимися от июньского ветерка, мостовые с серым скрипучим щебеночным покрытием, – все это будоражило ее воображение. Прогуливаясь, они обогнули озеро по Норт-Шор-драйв, и Эйлин, созерцавшая голубовато-зеленые воды, далекие паруса, парящих чаек и новые яркие дома, прониклась уверенностью, что однажды она будет хозяйкой одного из этих великолепных особняков. Как надменно она будет держаться, как красиво она будет одеваться! У них будет роскошный дом – без сомнения, гораздо лучше, чем старый дом Фрэнка в Филадельфии, – с огромным бальным залом и просторной столовой, где она будет устраивать танцы и давать званые ужины и где их с Фрэнком будут принимать как равных.
– Как ты думаешь, Фрэнк, у нас будет такой же замечательный дом, как эти? – с деланой тоской в голосе спросила она.
– Я расскажу тебе, в чем состоит мой план, – сказал он. – Если тебе нравится эта часть Мичиган-авеню, мы купим здесь земельный участок и придержим его. Как только я обзаведусь необходимыми связями и крепко стану на ноги, мы построим по-настоящему красивый дом. Не беспокойся, мне нужно только уладить вопрос с разводом, а потом мы приступим. А пока лучше жить, не привлекая особого внимания.
Дело было около шести вечера, но летний день все еще был прекрасен. Дневной зной шел на убыль, тень от домов на западе падала на мостовую, и плотный воздух пьянил, как вино. Насколько мог видеть глаз, вокруг были конные экипажи, единственное достойное развлечение для высшего света в Чикаго, где до сих пор было еще мало возможностей иным способом продемонстрировать свое богатство. Сюда торопились домой из офисов и фабрик искатели почестей и богатства, ибо это было единственное место показать себя, Аппиева дорога чикагского Саутсайда. Общественные слои еще не выстроились в четком порядке. Звонкая упряжь из стали, украшенная серебром или накладным золотом, была видимым признаком успеха или надежды на успех. Состоятельные мужчины, шапочно знакомые по бизнесу и торговле, с важным видом кивали друг другу. Нарядные дочери, благовоспитанные сыновья и очаровательные жены приезжали в центр города на рессорных двуколках, в фаэтонах, каретах и новомодных экипажах, чтобы отвезти домой усталых после работы родственников или друзей. Воздух трепетал от невысказанных обещаний, молодых надежд и безмятежной радости, которая порождается безбедной жизнью. Статные, грациозные и хорошо откормленные лошади в одиночку и парами шагали друг за другом вдоль газонов по длинной широкой улице, кичащейся особняками с богатым декором.
– О! – воскликнула Эйлин, увидев уверенных в себе, хорошо одетых мужчин, разодетых дам, юных девушек и подростков, церемонно раскланивавшихся друг с другом. Это романтическое зрелище восхитило ее. – Как мне нравится жить в Чикаго! Думаю, здесь гораздо приятнее, чем в Филадельфии.
Каупервуд, который испытал крах в родном городе, несмотря на свои выдающиеся способности, стиснул зубы. Его усы в этот момент как-то по-особенному топорщились. Пара гнедых, которой он правил, была великолепна: сухощавые и нервные лошади с холеными мордами. Он, как истинный знаток, сидел с прямой спиной; своей энергией и темпераментом подгонял животных. Эйлин горделиво восседала рядом с ним.
– Разве она не красавица? – заметила одна из женщин, проезжавших навстречу.
«Что за потрясающая девица!» – думали или говорили вслух многие мужчины.
– Ты ее видела? – громко спросил младший брат у своей сестры.
– Не обращай внимания, Эйлин, – произнес Каупервуд с твердой решимостью, не признающей поражения. – Скоро мы будем частью этого общества. Не волнуйся. Ты получишь в Чикаго все, что захочешь, и даже больше.
Лошади через поводья почувствовали его возбуждение и пританцовывали, как жеребята, они тихонько ржали и мотали головами. Эйлин распирало от надежд, тщеславия и желаний. О, каково быть миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд здесь, в Чикаго, иметь великолепный особняк, рассылать любезные приглашения, которые нельзя оставлять без внимания!
«О боже! – Она мысленно вздохнула. – Поскорее бы все сбылось!»
Так жизнь даже в пору наивысшего расцвета все равно соблазняет и терзает бесконечными, порой недостижимыми мечтаниями.
О юность, надежды и дерзания!
О, страх, летящий на крылах мечтаний!
Глава 4
«Питер Лафлин и К°»
Партнерские отношения, которые в конце концов сложились у Каупервуда с маклером товарной биржи Питером Лафлином, совершенно удовлетворяли его. Лафлин, высокий, костлявый, провел большую часть жизни в Чикаго, приехав туда подростком из западного Миссури. Он представлял собой обычного старомодного маклера с лицом Эндрю Джексона[2] и телосложением Генри Клея, Дэви Крокета или «Длинного Джона» Уэнтворта[3].
Каупервуда с ранней юности интересовали колоритные персонажи, да и они испытывали интерес к нему. Если немного потрудиться, он мог подстроить свое восприятие мира под психологию практически любого человека. Во времена первых блужданий по Ласаль-стрит[4] он наводил справки об успешных биржевых торговцах и давал советчикам небольшие комиссионные за посредничество. Так однажды утром он познакомился с Питером Лафлином, который торговал пшеницей и кукурузой на товарной бирже, имел офис на Ласаль-стрит рядом с Мэддисон-авеню и вел скромную биржевую игру акциями зерновых и восточных железнодорожных компаний по поручению клиентов и не забывая себя. Лафлин был проницательным и осторожным американцем, вероятно шотландского происхождения, обладал типичными американскими недостатками: был неряшлив, имел привычку жевать табак, сквернословил. Судя по его виду, Каупервуд почти не сомневался, что у него есть досье на каждого из более или менее известных уроженцев Чикаго, и это само по себе представляло большую ценность. Кроме того, старик был откровенный, прямодушный, непритязательный и совершенно не амбициозный, то есть обладал качествами, поистине бесценными для Каупервуда.
Один или два раза за последние три года Лафлин крупно погорел на частных «корнерах»[5], и ходили слухи, что теперь он стал чересчур осторожным. Однажды Каупервуд пришел к нему с намерением открыть небольшой брокерский счет в его конторе.
– Генри, – услышал он голос старика, обращавшийся к молодому, не по годам серьезному клерку, когда вошел в просторный, но довольно пыльный офис Лафлина, – раздобудь мне бумаг «Питтсбурга и озера Эри». – Увидев ожидавшего в прихожей Каупервуда, маклер произнес: – Чем могу быть полезен?
Каупервуд улыбнулся.
«Значит, он называет акции бумагами, – подумал он. – Хорошо! Думаю, мы с ним столкуемся».
Он представился бизнесменом из Филадельфии и поделился своим интересом к разным чикагским предприятиям, намерением инвестировать в любые перспективные акции, а также желанием вложиться в какие-либо общественные корпоративные бумаги, которые будут повышаться в цене по мере расширения и развития города.
– Ну что же, если бы вы появились здесь лет десять – пятнадцать назад, то нашли бы в земле много полезных вещей, – заметил Лафлин. – Тут были газовые компании, пока Отуэй и Апперсон не прибрали их к рукам, а потом все эти конные трамваи. Я был тем, кто втолковал Эдди Паркинсону, как будет здорово, если он организует линию Норт-Стейт-стрит. Он пообещал мне кучу бумаг своей компании, если дело выгорит, но так и не сдержал обещание. Впрочем, я и не ожидал этого, – благоразумно заметил он, и глаза его блеснули. – Я слишком давно работаю на бирже. Так или иначе он больше не при делах. Михоэлс и Кеннели ободрали его как липку. Да, если бы вы были здесь десять – пятнадцать лет назад, то могли бы войти в долю. Впрочем, теперь и думать об этом нечего. Их бумаги торгуются почти по сто шестьдесят за штуку.
Каупервуд улыбнулся.
– Хорошо, мистер Лафлин, – сказал он. – Насколько я понял, вы уже давно ведете дела на бирже и много знаете о том, что здесь происходило в прошлом.
– Да, с тысяча восемьсот пятьдесят второго года, – ответил старик. Густая поросль его неухоженных волос напоминала петушиный гребень, выступающий подбородок наводил на мысли о Панче и Джуди, а слегка крючковатый нос и высокие скулы контрастировали со впалыми смуглыми щеками. Его глаза были ясными и пронзительными, как у рыси.
– По правде говоря, мистер Лафлин, я приехал в Чикаго, чтобы найти человека, который мог бы стать моим партнером, – продолжил Каупервуд. – Я сам занимаюсь банковским и брокерским делом в Восточных штатах. У меня есть фирма в Филадельфии и оплаченные места на Нью-Йоркской и Филадельфийской биржах. Я также веду некоторые дела в Фарго. Вы можете найти сведения обо мне в любом торговом агентстве. У вас есть место на Чикагской товарной бирже, и, без сомнения, вы проводите некоторые сделки на биржах в Нью-Йорке и Филадельфии. Если вы пожелаете присоединиться ко мне, то новая фирма сможет непосредственно заниматься всеми делами. Сам я могу оказывать эффективную помощь. Я подумываю постоянно обосноваться в Чикаго. Как вам нравится мое предложение?
Когда Каупервуд хотел кому-то понравиться, у него была привычка складывать ладони и постукивать поочередно кончиками пальцев. При этом он ослепительно улыбался, его глаза излучали теплый, почти гипнотический свет.
В данный момент жизни старый Питер Лафлин хотел получить нечто подобное. Он был одиноким человеком, который не смог вверить свой изменчивый темперамент в руки какой бы то ни было женщины. По сути, он вообще никогда не понимал женщин, и его отношения с ними ограничивались кратковременными предосудительными связями, которые неохотно поддерживались некоторой суммой. Он жил на Вест-Харрисон-стрит возле театра «Троуп» в трех небольших комнатах, где иногда сам готовил себе еду. Его единственным спутником был маленький спаниель, добродушная и ласковая сучка по кличке Дженни, которая спала в его постели. Дженни была послушной и любящей подругой, терпеливо ожидавшей в его кабинете, когда его не было по вечерам. Он разговаривал с собакой, как с человеком, наверное, даже более откровенно, и принимал в ответ ее взгляды и виляние хвостом. Просыпаясь поутру обычно около пяти – стариковский сон короток, – он первым делом натягивал штаны, так как гигиена не была его привычкой, иногда делал визит к парикмахеру в центре города и обращался к Дженни.
– Пора вставать, Дженни, – говорил он. – Сейчас мы заварим кофе и приготовим какой-никакой завтрак. Я же вижу, что ты не спишь.
Дженни любовно наблюдала за ним краешком глаза, ее хвост постукивал по кровати, ухо приподнималось.
Лафлин споласкивал лицо и руки, повязывал старый галстук-ленточку простым узлом и зачесывал волосы назад. Дженни вставала и принималась оживленно скакать, словно говоря: «Видишь, какая я молодец?»
– То-то и оно, – приговаривал Лафлин. – Ты всегда опаздываешь. Не хочешь вставать первой, да, Дженни? Хочешь, чтобы твой старик сначала это сделал, верно?
В морозные дни, когда колеса экипажей скрипели по снегу, а уши и пальцы сильно мерзли, старый Лафлин, облаченный в поношенное тяжелое пальто и шапку с ушками, доставлял Дженни в свою контору в потемневшей сумке вместе с ценными «бумагами», о которых он размышлял в данный момент. Только в особенно холодные морозные дни с Дженни ездили в вагоне конки. В другие же дни они прогуливались, потому что Лафлину нравилось ходить пешком. Он приходил в свою контору в половине восьмого или в восемь утра, хотя дела обычно начинались после девяти, и обычно оставался там до половины пятого или до пяти вечера, читая газеты или занимаясь расчетами, пока не было клиентов. Потом он выгуливал Дженни или наносил визит кому-либо из коллег. Дом, биржевой зал, контора, соседние улицы – только это было его средой обитания. Он был безразличен ко всему, включая театр, музыку, книги, живопись, и даже женщины интересовали его односторонне. Его ограниченность бросалась в глаза, так что для любителей всего необычного вроде Каупервуда он был настоящей находкой. Но и Каупервуд лишь пользовался такими чудаками, они не играли постоянной роли в его художественных замыслах.
Как и предполагал Каупервуд, старому Лафлину были неведомы сведения о чикагских финансовых аферах, сделках, возможностях и личностях. Будучи по натуре лишь биржевым маклером, а не управленцем или организатором, он не умел извлекать пользу из своих немалых познаний. Он с равной невозмутимостью воспринимал свои потери и прибыли. Когда он терял деньги, то восклицал: «Чушь! Этого не должно было случиться!» – и щелкал пальцами. Когда он много зарабатывал или проводил выгодную операцию, то с блаженной улыбкой жевал табак и порой восклицал: «Присоединяйтесь, ребята, скоро прольется дождик!» Его нелегко было вовлечь в мелкую игру, он терял или выигрывал только в открытой рыночной борьбе либо затевая свои мелкие хитроумные делишки.
Вопрос о партнерстве решился не сразу, но и без волокиты. Старый Питер Лафлин захотел подумать, хотя Каупервуд сразу ему понравился. Они встречались несколько дней подряд, обсуждая мельчайшие обстоятельства, и наконец, верный своей интуиции, Питер потребовал для себя равную долю в партнерстве.
– Полно вам, Лафлин, это слишком много, – невозмутимо произнес Каупервуд. Они сидели в кабинете Лафлина, была половина пятого, маклер жевал табак в предвкушении чего-то многообещающего. – У меня есть брокерское место на Нью-йоркской фондовой бирже, которое стоит сорок тысяч долларов, – продолжал Каупервуд. – Даже мое брокерское место на Филадельфийской бирже стоит дороже вашего. И то и другое наш основной актив. Фирма будет носить ваше имя. Как бы то ни было, я готов быть щедр с вами. Вместо трети, что было бы справедливо, я отдам вам сорок девять процентов, и мы назовем фирму «Питер Лафлин и К°». Вы мне нравитесь, и думаю, вы сможете принести немалую пользу. Я знаю, что с моей помощью вы заработаете гораздо больше, чем в одиночку. Конечно, я мог бы обратиться к любому из этих парней в шелковых носках, но мне как-то не хочется. Решайтесь же, и мы начнем.
Старый Лафлин был безмерно рад, что Каупервуд выразил желание сотрудничать с ним. В последнее время до него стало доходить, что молодые лощеные новички на бирже считают его дряхлым чудаком. А теперь смелый, напористый бизнесмен из Восточных штатов, на двадцать лет моложе его и такой же хитроумный, как он, – даже более, опасался Лафлин, – с ходу предложил ему деловое партнерство. Кроме того, Каупервуд с его современным, энергичным и здравомыслящим подходом был подобен дуновению весеннего ветра.
– Меня не особенно волнует имя, – ответил Лафлин. – Можете оформить, как вам угодно; пятьдесят один процент все равно дает вам контроль над фирмой. Ну ладно, не буду спорить. Надо думать, я своего не упущу.
– Значит, договорились, – сказал Каупервуд. – Вам не кажется, Лафлин, что нам понадобится новый офис? Здесь как-то темновато.
– Поступайте, как хотите, мистер Каупервуд. Мне все равно, но буду рад посмотреть, что у вас получится.
Все технические детали были улажены за неделю, а через две недели вывеска «Питер Лафлин и К°, хлеботорговая и комиссионная компания» появилась над дверью просторных, со вкусом обставленных апартаментов на первом этаже дома на углу Ласаль-стрит и Мэддисон-авеню, в самом центре финансового квартала Чикаго.
– Ты не в курсе, что произошло со старым Лафлином? – обратился один брокер к другому, когда они проходили мимо новой шикарной комиссионной конторы с зеркальными окнами и рассмотрели бронзовую табличку с богатым декором на двери. – Что ему взбрело в голову? Я думал, он почти уже отошел от дел. Что за фирма?
– Не знаю. Думаю, какой-нибудь богач с Востока взял его в партнеры.
– Тогда его дела определенно пошли в гору. Только посмотри на эти зеркальные окна!
Так началась финансовая карьера Фрэнка Алджернона Каупервуда в Чикаго.
Глава 5
О семейных делах
Если кто-то воображает, что этот коммерческий ход со стороны Каупервуда был поспешным или непродуманным, он имеет слабое представление о трезвом и расчетливом уме этого человека. Его представления о жизни и власти, о которых он размышлял тринадцать месяцев в тюрьме Восточного округа, определили его жесткую стратегию: он может, должен и будет властвовать единолично. Ни один человек больше никогда не посмеет ничего потребовать от него, разве что явиться в роли просителя. Теперь он ни за что не решится на опасные махинации вроде той, что провернул со Стинером, человеком, который стал причиной многих потерь в Филадельфии. Своим финансовым гением, мужеством и смелостью он заслуживает лидерства, и он докажет это. Люди будут вращаться вокруг него, как планеты вокруг солнца.
С тех пор как Каупервуду было отказано быть принятым в Филадельфии, он пришел к выводу, что больше не будет рассчитывать на теплый прием в так называемых высших кругах города. Размышляя об этом, он пришел к выводу, что его будущие сторонники будут принадлежать не к числу богатых и влиятельных людей, он будет искать их среди молодых одаренных коммерсантов, которые поднялись с самого дна и не имели надежды проникнуть в светское общество. Таких людей было много. Если благодаря удаче и собственным усилиям он станет достаточно могущественным финансистом, он сможет диктовать свои условия. Индивидуалист, не желающий подчиняться никому и ничему, он не имел ни малейшего представления о подлинной демократии, тем не менее сочувственно относился к людям из низов, хотя и сам не принадлежал к простонародью, и неплохо понимал их нужды и чаяния. Возможно, это отчасти объясняло его желание связаться с таким простодушным и неординарным человеком, как Питер Лафлин. Он выбрал его, как хирург выбирает особый скальпель для операции. Несмотря на свой жизненный опыт, старый Лафлин был обречен стать орудием в сильных руках Каупервуда, энергичным и пронырливым гонцом, готовым принимать указания от более мощного и расчетливого ума. Пока что Каупервуд довольствовался проведением сделок через фирму под названием «Питер Лафлин и К°». В сущности, такой вариант был весьма удачным, поскольку так он мог действовать, не привлекая нежелательного внимания, и разработать операции, которые, он надеялся, прочно укрепят его финансовое положение в Чикаго.
Поскольку важнейшим предварительным условием социального и материального обустройства Каупервуда и Эйлин в Чикаго был его развод с женой, его юрист Харпер Стэджер прилагал все силы, чтобы завоевать расположение миссис Каупервуд, которая доверяла адвокатам не больше, чем своему неверному мужу. Теперь это была сухая, неприветливая и довольно некрасивая женщина, хотя и сохранившая следы былого очарования, некогда привлекшего Каупервуда. Вокруг ее глаз, носа и губ залегли глубокие морщинки. Она выглядела отстраненной, подавленной, ушедшей в себя, обиженной.

