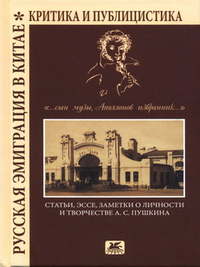
«…сын Музы, Аполлонов избранник…». Статьи, эссе, заметки о личности и творчестве А. С. Пушкина
«На пространстве тысячи верст, среди ледяного безмолвия сибирской пустыни разыгрывались трагедии, которых человеческое воображение не могло и представить. Матери теряли своих детей, на глазах жен расстреливали их мужей, родные и близкие расставались на полчаса, чтобы больше уже никогда не встретиться. И чем дальше уходили мы на восток, тем безнадежней рвались нити, связывающие нас с Россией»[11].
Гражданская война выбросила А. П. Вележева за родные пределы, и в 1922 г. он оказался на харбинской чужбине. Здесь он давал частные уроки, занимался коммерческой деятельностью, частной юридической практикой и, конечно, как это обычно бывало, издательской и редакторской работой. Харбинский период жизни А. П. Вележева закончился в 1946 г. С приходом советских войск в Маньчжурию начался очередной поворот в его жизни – он был арестован и депортирован с сыном и женой в СССР, где содержался в лагере. Как сложилась дальнейшая судьба этого талантливого представителя умственной России? Не трудно представить…
В Харбине А. П. Вележеву в какой-то мере повезло, в чем ему помогли прирожденный литературный талант и журналистский опыт. В разное время он был редактором газет «Русский голос», «Русское слово», «Гуан-Бао», «Голос эмигрантов», «Заря», журнала «Луч Азии». Он прекрасно знал литературу, разбирался в живописи, владел английским и французским языками. Известны его довольно объемные статьи «Невысказавшийся гений» (о Лермонтове), «Трагедия одиночества. 55 лет со дня смерти Тургенева», «А. В. Кольцов»[12].
Статья о Лермонтове написана Вележевым в традиционном для русской философской критики русле – на ней отпечаток размышлений В. Соловьева, особенно Д. Мережковского, назвавшего Лермонтова «ночным светилом» русской поэзии. Одновременно статья полемична, намечает новую для того времени концепцию личности и творений поэта.
Исходной точкой интуитивно-интеллектуальных построений А. П. Вележева является мысль о том, что «в области художественного творчества, и в литературе в частности, существуют две стихии, противостоящие и даже враждебные одна другой: аполлоническая и дионисийская». Если царство Аполлона принадлежит Пушкину, то Лермонтов продолжатель дионисийского начала. От них, от Пушкина и Лермонтова, «раздвоенным потоком, не сливаясь и не расходясь, течет мощная река русской литературы».
Возведение поэзии Пушкина к аполлоническому, а Лермонтова – к дионисийскому началу было распространено в культурной мысли «серебряного века»[13]. А. П. Вележев мог знать работы космиста Н. А. Сетницкого «О конечном идеале» (1932), «Заметки об искусстве» (1933), которые были изданы в Харбине.
О чем же размышлял космист Н. А. Сетницкий в своих книгах? Сфера искусства обладает системностью, в ней неминуемо возводится иерархия отношений с наличием центра, говоря иначе, – духовного ядра, «центрообраза». Вот это ядро, с одной стороны, формируется в рамках искусства, создается средствами самого искусства, следовательно, конгениально искусству. С другой – центрообраз выходит за «пределы искусства», вследствие чего художественный образ приобщается к чему-то иному, первостепенно важному. Но история европейской культуры показывает, что искусство в разные эпохи апеллировало не к одному, а к двум центрообразам. Поэтому художник затрудняется ответить, кто же есть центрообраз его творчества – Аполлон или Дионис?
Так сложилось, что Аполлону, «светопадателю и светоносцу», пришлось поделиться властью с Дионисом. Благодаря компромиссу, дионисийский «стихийный энтузиазм» начали рассматривать, наряду с «гармоническим вдохновением», на уровне идеала, символа красоты. Но дионисийское начало прямо ведет к трагическому искусству, где герой – это носитель воодушевленного автономного я. Объективно мы имеем дело не с соперничеством Аполлона и Диониса в сфере искусства, а Аполлона и Диониса с Христом, с еще не окончательно проявленным выбором между трагедией и литургией. По мнению космиста, русский роман пребывает в некоторой оппозиции к форме того романа, к которому привык читатель. «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Мертвые души», «Война и мир», «Соборяне», «Братья Карамазовы» (список можно продолжить), – романы и как бы вовсе не романы. В классическом романе сохраняется нечто, что не вмещается в общепринятую формулу романа. Объективно русский роман следовало бы назвать «литургической эпопеей»[14].
В понимании А. П. Вележева, лермонтовский путь – это путь от Диониса к Аполлону и далее – к Христу. О том, что Лермонтов постепенно шел к литургическому пониманию искусства, «свидетельствует его неутоленная тяга к Богу. Это самый христианский из всех наших поэтов, несмотря на весь свой кажущийся демонизм».
В 1934 г. в газете «Заря» вышла статья А. В. Амфитеатрова «Кольцов и Есенин»[15]. Она не осталась одинокой – буквально в следующем выпуске той же газеты был напечатан лирический рассказ-воспоминание «Кольцов, Митроша и я»[16] Г. Г. Сатовско-Ржевского, известного в харбинских русскоязычных кругах журналиста. Обе публикации соотносились со 125-летием со дня рождения народного поэта. Нечто подобное повторилось в 1942 году – на сей раз в Харбине были напечатаны две статьи, посвященные 100-летию со дня смерти поэта: Н. Резниковой «Алексей Васильевич Кольцов»[17] и А. П. Вележева «А. В. Кольцов»[18].
Статья А. В. Амфитеатрова в каком-то смысле была провокационной, полемически заостряла вопрос о народности двух русских поэтов. Написанная в жанре биографического очерка, она одновременно была наделена аналитической частью, в которой красной нитью проходила мысль о несопоставимости поэзии Кольцова – «поэта оригинального и гениального и единственного русского поэта»; и Есенина, в каждом стихотворении которого сквозит «смертельная обреченность». Кольцов, по мнению Амфитеатрова, принес «из глубины воронежских лесов и донских степей в дар интеллигенции свежий народный дух и певучее народное слово». Ну а что Есенин? – «Этот, Есенин, наоборот, пришел из рязанской деревни неучем по образованию, пролетарием по проповеди, но уже готовым интеллигентом по духу». «Ряженье Есенину, бурному и искреннему, опостылело, и, – предсмертно, – из мнимо крестьянского поэта откровенно выглянул разочарованный, с душою вдребезги разбитою, поэт-интеллигент».
А. В. Амфитеатров считает несправедливым и то, что в Кольцове ищут Есенину «предка», тогда как предки поэта начала ХХ века – романтики пушкинской эпохи – например, А. И. Полежаев, «несчастнейший из русских лириков», расплатившийся солдатчиной и преждевременной смертью «за дикую жизнь, дикий характер и безудержный алкоголизм». Если бы не разница поэтических форм и языка, то «Полежаева, погибшего почти сто лет назад, и Есенина» легко было бы «по тону и мотивам привести в совершеннейшую почти слитность».
Статья А. П. Вележева о Кольцове типологически близка биографическому очерку А. В. Амфитеатрова, она совпадает с ней даже в главной идее, хотя в ней имя Есенина не упоминается. На вопрос: «В чем же отличие Кольцова от других поэтов, в чем его самобытность?» Вележев дает такой ответ: «Если не считать Лермонтова, Кольцов самый религиозный русский поэт. Религиозность его детски чистая («Спаситель, Спаситель, чиста моя вера…»), первобытная, своими корнями уходящая в глубочайшие народные пласты». Этим и определяется, на взгляд публициста, истинная народность поэзии А. В. Кольцова.
* * *Познакомившись с биографической справкой в заключительной части сборника, можно убедиться, что почти у всех эмигрантов схожая судьба. В эмиграции по сути ничего не изменилось – их общей заботой оставалась Россия, ее культурное и литературное наследие, тот маленький «русский мир», в котором они жили, действовали и, живя в котором, все-таки мечтали о возвращении на родные просторы. Поэтому собирание литературно-критической и публицистической мысли «русского Китая» имеет символический смысл, не сводимый только к тому, чтобы способствовать формированию единой, целостной картины художественно-эстетической картины истории русской литературы. Суть этого единства определяется исканием и обнаружением фактов и даже следов «русской мысли», которая (в силу исторических обстоятельств) до настоящего времени остается рассеянной. Целостную концепцию литературы нельзя рассматривать в том смысле, что в ней все статично, прозрачно и окончательно предрешено. Смысл любой национальной культуры явен, общезначим. Одновременно, говоря словами С. Аверинцева, смысл этот «загадочен», поскольку «задан» нашему сознанию источниками и инстанциями, может быть, нам еще неизвестными и от нас не зависимыми.
Оказавшиеся в изгнании русские интеллигенты быстро прониклись идеей мессианства, полагая, что традиции национальной культуры могут существовать и вне Отечества и что именно они, эмигранты, призваны к продолжению и углублению этой традиции. Жизнь в изгнании понималась ими как готовность на любые испытания и подвиги во имя сохранения национальных духовных ценностей.
* * *А. С. Пушкин – главная фигура русской литературы и русской национально-культурной идеи. Он занимает исключительное место в духовной биографии русского изгнания – не только западной эмиграции первой волны, но и тех, кто оказался на территории Китая, в таких городах, как Шанхай и, главным образом, Харбин. Выражение «духовная биография» должно пониматься здесь расширительно. Оно включало, с одной стороны, аспекты личностного нравственного самоопределения большой части русских эмигрантов, с другой же – аспекты, связанные с их политическими, общефилософскими воззрениями. Следовательно, сам А. С. Пушкин ассоциировался у них не только с символом одухотворенной свободной поэзии и прозы, с символом национального и общенародного поэта; одновременно А. С. Пушкин воспринимался в контексте исторической судьбы России; политического выбора самих эмигрантов. Словом, все начинания, замыслы, проекты эмигрантов аргументировались авторитетом Пушкина и им оправдывались. Ибо Пушкин, по их общему признанию, «наше всё», единственный критерий, единственный символ и сакральная ценность, освящающий своим именем идеалы эмигрантов.
Отсюда многогранность и в то же время некоторая «законченность», «закругленность» представлений о нашем классике. Пушкин, по мнению большинства представителей русской эмиграции, и единственный истинный поэт, и прозаик, и основатель русского национального языка, и создатель русской национальной литературы. Он же сторонник самодержавия, абсолютной монархии, государственник, преданный государю и готовый на любые жертвы ради него; верующий человек, преданный догматам православной церкви; категорический противник каких-либо социальных взрывов, более чем критически воспринявший трагедию декабристов. Говоря иными словами, Пушкин воплотил идеальную во всех проявлениях форму национального космоса. Таким образом, в публицистике эмигрантов появлялся не реальный, исторически конкретный, а во многом мифологизированный образ русского поэта. Установка на мифологизацию личности и творчества Пушкина – это то, что роднит публицистику восточной ветви русской эмиграции с пушкинианой «русского Запада».
Кульминацией мифологизации образа поэта стала повсеместно (на Западе и на Востоке) отмечаемая 100-летняя годовщина со дня его гибели. Не было ни одного газетного и журнального издания, где не встречались бы публикации о Пушкине. Они касались самых разных сторон его биографии и творчества: любовные похождения, отношение к друзьям, поездка в Оренбургскую губернию в поисках материала для «Капитанской дочки», обстоятельства дуэли и смерти; размышления, порой прямолинейные, об отдельных произведениях. Имена авторов не ограничиваются теми, кто непосредственно был связан с литературной, критической или журналистской деятельностью. Здесь поражает пестрота профессиональных занятий и интересов авторов. Поэтому многие статьи носили познавательный, просветительский характер, представляли перевод на язык обыденного понимания многих известных фактов и сведений. Но этот перевод осуществлялся с установкой на особый стиль, на особую манеру изложения мыслей и фактов. Склонность эмигрантов к мифологизации не ограничивалась одним только Пушкиным. Мифологизированной становилась вся русская литература XIX века, а за нею – и русская культура, и русская история. В этом заключается свое обаяние – тексты эмигрантов, большей частью романтизированные, «одухотворенные», читаются как поэтический миф. Эти тексты интересны и востребованы в том числе с точки зрения культурной и духовной биографии самих эмигрантов, попавших в жернова истории и трагически переживавших свой разрыв с Родиной.
* * *Материал, к которому обращались составители настоящей книги, предсказуемо оказался объемным, разноплановым, что кардинально изменило стратегию введения в научный оборот критико-публицистического наследия русской эмиграции в Китае. Первую часть книги составили статьи, посвященные А. С. Пушкину. При благоприятных обстоятельствах планируется подготовить и издать сборники публикаций о поэтах и писателях XVIII в. и, большей частью – XIX в. (Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Тютчев, Достоевский, Чехов и многие другие).
В. Мехтиев
А. Амфитеатров
Пушкин в жизни Гоголя
Недавно в Париже, в издании YMCA-ПРЕСС, вышла в свет интересная книга К. Мочульского «Духовный мир Гоголя»{1}, – небольшая, всего 145 страниц, но густо насыщенная хорошо продуманными мыслями, часто оригинальная и смело идущая вразрез с установившимися «вековыми» традициями, которых и вокруг биографии, и вокруг творчества Гоголя накопилось слишком много.
К. Мочульский пересмотрел житейские и литературные отношения Гоголя с некоторыми лицами, связанными с ним взаимовлиянием, и многие и многие озарились, в пересмотре исследователя, новым светом. Не все пересмотры удачны, но интересны, безусловно, все. Как блестящий пример укажу на опыт реабилитации г. Мочульским пресловутого Ржевского священника-аскета, отца Матвея Константиновского{2}, который слишком 80 лет слыл злым гением Гоголя, губителем его литературного таланта, виновником сожжения второго тома «Мертвых душ» и чуть ли не самой смерти писателя от аскетического «запощеванства».
Пересматривает г. Мочульский и отношения между Гоголем и Пушкиным. Поводом к тому послужило некоторое разногласие о них в автобиографических показаниях Гоголя. «В Авторской Исповеди» Гоголь утверждает, что он обязан Пушкину: 1) сюжетами двух главных своих произведений – «Ревизора» и «Мертвых душ»; 2) изменением направления всего своего творчества (из праздного зубоскальства оно становится служением человечеству); 3) самым фактом своего писательства (без Пушкина «оно, может быть, исчезнуло бы»){3}.
«А в письме к Жуковскому (29 декабря 1847 года), изображая тот же перелом и переписывая дословно целые фрагменты из «Исповеди», Гоголь о Пушкине не упоминает вовсе. Там он, казалось, был обязан ему всем, здесь – ничем»{4}.
Разницу эту г. Мочульский объясняет догадкою, что письмо Жуковскому есть позднейший вариант «Исповеди». Оно, ведь, написано в пору самого высокого религиозного подъема Гоголя – накануне его паломничества в Святую Землю. «Авторскую Исповедь» Гоголь писал в мае 1847 года как свою апологию в ответ на враждебный прием, встреченный «Выбранными местами из переписки с друзьями». Писал наскоро, горячо, искренно.
Но, – рассуждает г. Мочульский, – «поразмыслив на досуге над «Авторской Исповедью», Гоголь остался ею неудовлетворенным и решил не печатать: он выставлял себя в этом сочинении в неблагоприятном свете. Выходило, что в течение первого периода своей литературной деятельности он был легкомысленным балагуром, писавшим «глупости»; что не будь Пушкина, он бы так и не догадался – о своем великом призвании, и даже перестал бы писать. А, следовательно – писательский путь его не ограничен, не начертан свыше, а вполне случаен. Отправляясь ко гробу Господню просить благословления на великий труд, возложенный на него Богом, Гоголь должен был пожертвовать своей зависимостью от Пушкина»{5}.
Столь решительное перерождение характера апологии в промежутке всего полугода, если принять его факт, давало бы странное и не очень-то лестное понятие о Гоголе.
Если так, то не только возникает, но и весьма обостряется вопрос: какую же роль играл Пушкин в истории творчества Гоголя?
Исследователь отвечает:
«Что он дал ему сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ» – подтверждается рядом свидетельство. Но малоправдоподобно, чтобы автор «Поэта и черни» внушил Гоголю моральное направление творчества и совсем невероятно, что без вмешательства Пушкина Гоголь бросил бы писать. К самому факту близкой дружбы Гоголя с Пушкиным последние биографы его (В. Каллаш, Б. Лукьяновский, А. Долинин и В. Гиппиус){6} относятся недоверчиво. Связь между писателями, по-видимому, была самая внешняя: за шесть лет знакомства Пушкин написал Гоголю три незначительные записки; после лета в Царском, когда, по словам Гоголя, он «почти каждый вечер» проводил с Пушкиным, Гоголь путает имя жены поэта (в письме к Пушкину он называет Наталью Николаевну Надеждой Николаевной); перед отъездом Гоголя за границу у него, по-видимому, вышла размолвка с Пушкиным, и он уехал, даже не попрощавшись с ним. По словам Нащокина, Гоголь никогда не был близким человеком Пушкину. Но Пушкин радостно и приветливо встречавший всякое молодое дарование, принимал к себе Гоголя, оказывая ему «покровительство»{7}.
П.В. Нащокин был ближайшим другом Пушкина и хорошо знал его житейские отношения. Поэтому его показание мы должны принять с доверием. Дружбы житейской между Пушкиным и Гоголем не было. Да откуда бы ей было взяться?
В 1831 году Пушкин – уже зрелый мужчина, перешагнувший за тридцать лет, писатель в зените славы, глава литературной школы; по общественному положению, он барин-аристократ, вхожий ко двору, принадлежит к самому большому петербургскому свету, женат на красавице из красавиц, остепенившийся семьянин. Гоголь – 25-летний начинающий мальчик-провинциал, очень бедный искатель столичной карьеры и фортуны, с незадачливой кандидатурой в чиновники или педагоги, разночинец, богема. Тут все в контрасте: люди разных поколений, положений, характеров и настроений. Весьма вероятно, что «бывая у Пушкиных», юный Гоголь представлял собою довольно плачевную фигуру, совсем не в лад с салоном изящнейшей Натальи Николаевны, и «Пушкины» не стремились включать его в круг семейных друзей дома.
Но одно дело «Пушкины», другое «Пушкин». Одно дело дружба житейская, другое – литературная. А, собственно говоря, только последняя и важна, когда речь идет о таких громадах, как Пушкин и Гоголь.
Литературная дружба и устанавливается, и определяется, и поддерживается вовсе не тем, что писатели часто ходят друг к другу в гости, часто обмениваются письмами и записками, имеют общих знакомых и т. п. Литературная дружба есть плод духовного взаимопонимания и взаимоуважения двух талантов, сознание обоими, что они – одного поля ягоды и оба, хотя каждый самостоятельно и независимо, делают одно и то же общее идейное дело, направленное к общей культурной цели.
Подобные литературные дружбы, – к слову сказать, гораздо прочнее и надежнее житейских, – могут существовать не только без личной близости друзей, но даже вовсе без взаимного общения в частном быту, семейных отношениях, внелитературных делах и связях. Больше того: можно привести примеры долгих и прочных литературных дружб, в которых стороны вовсе никогда не знавали одна другой лично. И именно в настоящее время, в Зарубежье, разбросавшем русские литературные силы «дале друг от друга», на расстояния и в условия, неодолимо препятствующие личному общению, случаи заочных дружб особенно часты и выразительны.
Литературная дружба есть чувство «своего», симпатия к «своему», флюидная тяга к «своему». И в этом смысле взрослый Пушкин и юный Гоголь были объединены, несомненно, близкою дружбою. И тому нисколько не противоречат обмолвки-описки вроде Гоголевой о жене Пушкина (Надежда Николаевна вместо Наталья Николаевна) или Пушкинской об Иване Тимофеевиче вместо Ивана Никифоровича в рассказе Гоголя. Литературная дружба не мелочна.
Когда дружат два писателя разных поколений, то естественно, что дружба их выражается в признании старшим младшего себе равным и, если младший в том нуждается, в поддержке его своим авторитетом к росту и укреплению в известности. Именно такова и была дружба Пушкина к Гоголю.
В 1831 году двадцатидвухлетний, напечатавший всего еще одну книжку, Гоголь уже хвалится матери: «Проводим вечера вместе – Пушкин, Жуковский и я»{8}. Теперь это мальчишеское самохвальство смешит, напоминая нам: «Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я» – Ивана Александровича Хлестакова. Но «вист» Гоголя, хотя хлестаковский по тону, не был фантастическим. «Корифеи» действительно допустили юношу к постоянному интимному обращению с ними. А раз оно так, ясно, что в этом «подающем надежды» и «много обещающем» они (и, в особенности Пушкин) провидели силу, им равную, и, по великодушию истинно талантливых людей, спешили явить и укрепить дружбу покровительством.
Началом своей славы Гоголь был обязан Пушкину, и маловероятно, чтобы Гоголь мог вытеснить Пушкина из своей благодарной памяти, – «пожертвовать Пушкиным», как выражается г. Мочульский, – ради каких бы то ни было себялюбивых и душеспасительных соображений.
Правда, ни в религии, ни в политике, они не сходились до единомыслия. Пушкин, в годы их знакомства, хотя уже не брал «уроков чистого афеизма» у заезжих англичан, а жил укрощенным и безопасным львом на двойных цепях – семейных и придворных, но, как воспитанник вольтерианцев, и лишь случайно не декабрист, конечно, не годился в образцы ни православного рвения, ни политической благонадежности и верноподданнических чувств. Впоследствии, в «Переписке с друзьями» Гоголь употребил много усилий, чтобы снять с Пушкина репутацию вольнодумца, но не успел в этом. Пушкин решительно не укладывался ни в его царизм, ни в его церковное православие. Так что Гоголь, скрепя сердце, должен был принять его, каков есть, потому, что Пушкиным пожертвовать он не в состоянии был ни царю, ни Церкви.
Ибо Пушкин был едва ли не единственным в мире человеком, которого Гоголь любил действительно – страстно, благоговейно, как любят живое божество. В их тесной духовной связи (именно не «внешней», а внутренней, глубоко внутренней) авторитетная роль старшего товарища, наставника, развивателя принадлежала всецело Пушкину. Он дал Гоголю сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ», он настоял, чтобы Гоголь печатал «Нос», он не дал Гоголю пожертвовать цензуре сценою порки поручика Пирогова в «Невском Проспекте», он оценил художественное значение «Коляски» (не понятой Белинским), под его авторитетной защитой благополучно выдержали буйную критическую компанию «Вечера на хуторе» и «Миргород», он старался ввести Гоголя в журнализм и критико-публицистическое обозревательство.
Влияние Пушкина на Гоголя было огромно, – гораздо значительнее, чем можно судить по их необширной и скупой переписке. Очевидно, эти люди умели понимать и ценить друг друга, не нуждаясь в многословных излияниях. Можно предполагать с вероятностью, что, если бы Пушкина не уложила так рано в гроб пуля француза Дантеса, то жизнь и литературная деятельность Гоголя сложилась бы более нормально и его гений, идя естественными путями возрастного и культурного развития, не сгорел бы так преждевременно и дико.
Но, – пишет в «Знакомстве с Гоголем» С. Т. Аксаков, – «в 1837 году погиб Пушкин. Из писем самого Гоголя известно, каким громовым ударом была для него эта потеря. Гоголь сделался болен и духом и телом. Я (С. Т. Аксаков) прибавлю, что, по моему мнению, он уже никогда не выздоравливал совершенно, и что смерть Пушкина была единственной причиной всех болезненных явлений его духа, вследствие которых он задавал себе неразрешимые вопросы, на которые великий талант его, изнеможенный борьбою с направлением отшельника, не мог дать сколько-нибудь удовлетворительных ответов»{9}.
Таким образом, выходит, что проклятый пистолет Дантеса лишил Россию, в один выстрел, обоих основоположников ее литературы: одного истребил в теле, а другого – в 28 лет от рождения – тяжко искалечил в духе, болезненно состарил и на много-много лет сократил его жизнь.
Имев другом и вдохновителем высшее земное существо, каким представлялся Гоголю Пушкин, – после утраты его, – в ком осиротевший писатель мог искать нового друга, от кого ждать новых вдохновений? Когда мы изучаем письма Гоголя, то сразу видим, что в отношении едва ли не ко всем своим корреспондентам, не зависимо от их возраста и житейского или литературного авторитета, он всегда старший и власть имеющий. Не исключая даже таких своих друзей-патриархов, как В. А. Жуковский, П. А. Плетнев, С. Т. Аксаков. Склоняет голову он только перед иерархами, «старцами», отцом Матвеем Константиновским. И то не всегда.
Собственно говоря, по смерти Пушкина, Гоголь уже не предпринимал никаких литературных начинаний, а если и начинал что новое, то быстро терпел неудачу и бросал, не продолжая, например, «Запорожскую трагедию», которую он в Риме читал Панову; как «Рим»; как, пожалуй, можно причислить и второй том «Мертвых Душ», судя по отрывкам, далеко и невыгодно отступивший от пушкинского плана, хотя Гоголю и мечталось, будто теперь-то он его и осуществляет. Внешне он был прав, потому что литературная жизнь Гоголя 40-х годов, – и впрямь, – серьезно и даже суеверно свелась к одной задаче: исполнить священный завет Пушкина – написать «Мертвые Души».