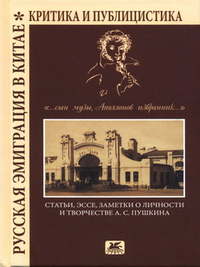
«…сын Музы, Аполлонов избранник…». Статьи, эссе, заметки о личности и творчестве А. С. Пушкина
Принимая завет Пушкина, Гоголь не знал того, что дает обещание, которое он силен выполнить только при том условии, если живой дух Пушкина будет непосредственно веять над ним. Он рассказал нам, как возникли и определились в характере письма «Мертвые Души», – как Пушкин ими спас нам Гоголя.
«Может быть, с летами и с потребностью развлекать себя, веселость моя исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и, наконец, один раз, после того, как я прочел ему одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое однако ж поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это просто грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который, хоть и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но если бы не принялся за «Дон Кихота», никогда не занял бы того места, которое занимает теперь между писателями, и, в заключение всего, отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых Душ». (Мысль «Ревизора» принадлежала также ему). На этот раз я задумался серьезно…»
«После «Ревизора» я почувствовал, более, нежели когда-либо прежде, потребность сочинения полного, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Пушкин находил, что сюжет «Мертвых Душ» хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров…»{10}
В другом месте Гоголь свидетельствует, что без влияния Пушкина он рисковал бы обратить «Мертвые Души» в галерею злобных карикатур. «Если бы кто видел те чудовища», которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать только то, что когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых Душ» в том виде, как были они прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотником до смеха), начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, и, наконец, сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие света. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести «Мертвые души». Я увидел, что многие из гадостей не стоят злобы; лучше показать всю ничтожность их, которая должна быть навеки их уделом. Притом мне хотелось попробовать, что скажет вообще русский человек, если его попотчуешь его же собственной пошлостью»{11}.
Таким образом, выходит, что Пушкин был как бы – в некотором роде – тайным другом-редактором Гоголевых начинаний, и его доброжелательному редакторству мы обязаны литературным воспитанием молодого Гоголя и лучшим, полным свежей силы, сочной красочности, художественного чувства меры, периодом Гоголева творчества.
После таких определенных и так подробно мотивированных признаний заподозренное г. Мочульским отречение Гоголя от Пушкина чрез умолчание о нем представляется нам невозможным.
Письмо к Жуковскому писалось в условиях почти священнодействия. В противоречивом существе Гоголя жило много странностей и темнот, но духовным плутом и лицемером он никогда не был, хотя, после «Переписки», злые языки и предлагали переименовать его из Николая в Тартюфа Васильевича. Не будучи Тартюфом, не способен был он и на недостойную, да к тому же и неумную, попытку – благочестивым отказом от грешника Пушкина обмануть зачем-то и Жуковского и общество, и себя самого, и чуть ли даже не Господа Бога.
Ларчик мнимого противоречия между двумя документами, думается мне, просто открывается.
«Авторская Исповедь» – апология, предназначенная для большой публики, а потому снабженная широкою осведомительною мотивировкою, с ссылками на факты и влияния, будущим читателям неизвестные. Им сообщить о Пушкине было необходимо. Письмо к Жуковскому, хотя Гоголь и думал, может быть, напечатать его во втором издании «Переписки» все-таки есть только частное письмо.
К кому? К общему их с Пушкиным ближайшему другу. Осведомлять Жуковского о благодетельном для творчества Гоголя значении Пушкина не было никакой надобности: разумелось само собою. Что же было Гоголю, так сказать, ломиться в открытые ворота, изъясняя чувства, и без того Жуковскому отлично известные?
Со смертью Пушкина, авторитетной, благожелательной редакции не стало. Гоголь остался один, предоставленный самому себе. Ему 28 лет, литературного «стажа» за ним всего 7 лет. Однако, силою ума и таланта, он, вопреки возрасту и короткости опыта, чувствует себя и старше, и авторитетнее даже славнейших своих товарищей по литературе. Заместителя «редактору» Пушкину в современности нет. Гоголь двумя-тремя головами выше всех – и одинок. Был крик, будто Гоголя «захвалили приятели». Грубая ошибка: нельзя «захвалить» человека, вооруженного столь мнительной потребностью деятельной критики, которой он постоянно искал и просил, но редко находил. Добивался советов, – хотя бы и для того, чтобы их отвергать, потому что обыкновенно они оказывались плохи.
Литературное одиночество пугало Гоголя. Он чуял, что, идя без проводника по неведомой горной тропе, находится в опасности сбиться с прямого пушкинского пути. И вот, в страхе от утраты друга-вдохновителя и советчика земного, обращается он мало-помалу все искательнее и внимательнее к друзьям-вдохновителям и советчикам небесным: к Богу в представительстве Церкви. И, по страстности своей, быстро доходит в религиозном пафосе до самоубийственного аскетизма.
А. И. Несмелов
Пушкин и Россия. К столетию со дня смерти
Сто лет назад, 29 января 1837 года, в 2 часа 45 мин. дня, от раны, полученной на поединке с Жоржем Дантесом, скончался Александр Сергеевич Пушкин. Смерть эта произвела ошеломляющее впечатление на современников. И не только тем, что мыслящая Россия того времени отлично понимала, кого она теряет в лице трагически погибшего поэта, – нет, многие знали еще и то, что Пушкин стал жертвой недостойной, сложной интриги, и это увеличивало горечь утраты. Что верно из того, что говорилось в то время и что писалось на протяжении ста лет после смерти Пушкина о событиях его жизни, непосредственно предшествовавших роковому выстрелу, и что из всего выдумано, – наукой о Пушкине до сих пор не решено и едва ли когда-нибудь будет решено окончательно.
С полной достоверностью известно лишь, что последней каплей, переполнившей чашу сил и терпения Пушкина, каплей, приведшей к роковому концу, – явилось в жизни поэта оскорбленное чувство мужа. Но, кроме этого, годы, предшествовавшие поединку, были полны для Пушкина тягчайшими огорчениями и неприятностями. Особенно мучили его – материальная необеспеченность, бедность, враждебное отношение критики, спешившей развенчать «потерявшего талант» поэта, недоверчивое отношение правительственной верхушки и связанное с ним ироническое отношение петербургского «света», издевавшегося над камер-юнкерством Пушкина, придворным званием молодых людей.
Росли долги, – говорит один из биографов Пушкина, – вся семья Гончаровых перешла на содержание поэта{12}. Сестра Пушкина{13} и особенно ее муж, Павлищев{14}, под предлогом общего неразделенного имения, грубо требовали несообразных сумм. За брата, Льва{15}, то и дело приходилось платить долги, которые тот беспечно делал в надежде на своего знаменитого брата. Наконец, и отец поэта оказался разоренным и тоже перешел на иждивение к сыну. На все это, – при огромных расходах, которых требовала светская жизнь, потребная Наталии Николаевне Гончаровой, как воздух, балы в Аничковом дворце{16}, катания, гуляния и т. п., – никаких доходов, ни от разоренных имений, ни от литературных работ, недоставало. С отчаянием в душе, Пушкину несколько раз приходилось обращаться к правительству с просьбами о ссудах, но это было уже крайность. Раньше того Пушкин бросался ко всем своим состоятельным знакомым, прося денег в долг, везде встречая отказы, и обращался к профессиональным ростовщикам, выдавая вексель за векселем под самые тяжелые проценты; мало того: Пушкины закладывали домашние вещи, – серебро, дорогие шали и т. п., должали в мелочную лавочку, извозчику, швейцару. После смерти Пушкина во всем доме нашлось только тридцать рублей. Среди особенно настойчивых кредиторов был книжный магазин Белизара{17}, потому что, при всех стесненных обстоятельствах, Пушкин не в силах был отказать себе в удовольствии приобретать все заинтересовавшие его книги.
И последние слова Пушкина были обращены к книгам:
– Прощайте, друзья!{18}
Пушкина не стало. Солнце русской поэзии закатилось! – вырвалось из груди современника, потрясенного потерей{19}. Прогремели на всю Россию и до сих пор еще гремят в каждом русском сердце – великолепный стихи Лермонтова на смерть великого собрата{20}. Неужели, – кончено, конец? Год, два, десять, двадцать лет, – и потускнеет золотой венок поэта? Ведь булгарины всевозможнейших родов и рангов уже при жизни его кричали о конченности, о том, что Пушкин не смог осуществить того, к чему был призван, – не создал великих творений{21}.
Годы шли, но слава Пушкина не меркла; наоборот, она росла, ширилась, ее лучи начинали пронизывать и озарять всю русскую жизнь, И вот на место булгариных «правых», уже сошедших в могилы, появились булгарины левые, Писарев{22} и вся клика нигилистских критиков. И снова мы наблюдаем попытки дотянуться до чела небожителя, чтобы сорвать с него и растоптать лавровый венец. Но и этих людей постигает неудача. Слава Пушкина становится незакатной, превращается в синоним, в символ национального гения! В чем же величие Пушкина? На это может быть несколько ответов, в зависимости от того, откуда мы будем смотреть на Пушкина, влияние его на какую область русской духовной культуры мы будем рассматривать.
В области чистого художества он, говоря словами Гончарова, отец-родоначальник русского искусства: в Пушкине кроются все семена и зачатки, из которых развились потом все роды и виды искусства во всех наших художниках. «От Пушкина и Гоголя в русской литературе теперь еще пока никуда не уйдешь, – говорит Гончаров. – Но сам Гоголь объективностью своих образов, конечно, обязан Пушкину же. Без этого образца и предтечи Гоголь не был бы тем Гоголем, каким он есть»{23}.
То, что было верным в то время, когда Гончаров писал эти строки, остается верным и теперь: пушкинская традиция столь же ощутима и в наше время, как пятьдесят лет тому назад. Все лучшее в русской поэзии и теперь органически вырастает из Пушкина. Время бессильно над совершенством, над гением.
Но Пушкин не только гениальный поэт, сын Музы, Аполлонов избранник. Он не только песнопевец, гениальный художник, – он еще и пророк, раскрывший тайну русской национальной души. «Он, – говорит Достоевский, – отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, – человека беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы ее не верующего, Россию и себя самого, в конце концов, отрицающего».
Но Пушкин не только вскрыл перед нами нашу болезнь, «он же первый дал и утешение… великую надежду, что болезнь эта не смертельная, и что русское общество может быть излечено, может вновь обновиться и воскреснуть, если присоединится к правде народной»{24}, т. е. вернется к верности русской национальной душе.
Исчерпывается ли этим значение Пушкина для России. Нет, этого еще мало. Не глазами ли Пушкина глядим мы до сих пор на многое из нашего национального прошлого? Разве, например, образ Петра Великого, какой имеется в каждой русской душе, – не создание гения Пушкина? Да, это так! Каждый из нас представляет себе Петра именно таким, каким он показан, дан нам поэтом в «Арапе Петра Великого», в «Полтаве», в «Медном Всаднике». Но почему же зрение Пушкина сливается с нашим зрением, овладело им и царит столетие? Только и именно потому, что глаза великого нашего поэта слились с глазами национального гения, с очами Нации.
Да Петр ли только! А Пугачев, а Пимен, Самозванец, Борис Годунов? Наше представление о них – представление Пушкина, представление самой Нации. Непомерно велика над нами власть Пушкина!
Перейдем к образам меньшего исторического, но огромного историко-культурного значения. Современникам Пушкина казалось, что они встречают на улицах Евгения Онегина, которого никогда, однако, реально не существовало. Пушкин обнаружил черты Онегина в каждой русской душе; и разве не гуляет Онегин и сейчас среди русских, разве не обнаруживаем и мы признаков его присутствия в своей душе и в душах нас окружающих? Сто лет назад русская интеллигенция впервые узнала себя в образе Онегина и до сих пор она узнает себя в нем.
А Татьяна, а Ольга! Ведь эти женские образы не умерли до сих пор, и даже через столетие ощущается их притягательность, и, как еще Гончаровым замечено, – в каждом женском персонаже, создаваемом последующими поколениями русских писателей, мы всегда отыщем черты Татьяны или Ольги{25}.
В чем же значение Пушкина для России? Теперь ясно: гений Пушкина явился, по силе своей, единственным в русской истории фактором, столь стройно и полно организующим национальное сознание. Столетие прошло со дня смерти Пушкина, и какое еще столетие, с громами чрезвычайных потрясений национальных. Нет династии, возглавлявшей страну, само имя Россия вычеркнуто из имен держав, русская жизнь окровавлена, загажена, втиснута в тюремный коридор. Но солнце русской поэзии, незакатный гений Пушкина сияет немеркнущим светом, и не знак ли это того, не доказательство ли неопровержимое, что русская национальная душа жива, что еще здорова сердцевина ее, что корни ее, скрытые в великом, тысячелетнем прошлом, – не загнили, целы. Не будь этого – не вынести бы нашим глазам ослепительного сияния родного гения.
Любопытно отметить следующее…
Всегда, когда антинациональные силы поднимали, или пытались поднимать голову, в надежде вредить России, они первые свои удары направляли против Пушкина. Вспомним, как древние римляне поступали с осажденным вражеским городом, – сначала они пытались вызвать из-за стен города богов, его покровителей, – обезбожить город. Приступ, осада начинались после соответствующих магических манипуляций…
Так вот, враги России всегда начинали свои приступы с попыток бороться с Пушкиным. Вспомним Писарева – нигилистическую эпоху, вспомним предреволюционных Бурлюков{26} и Крученых{27}, начертавших на своих тряпках-знаменах курьезный лозунг:
– Долой Пушкина с парохода современности!
Но солнце гения сожгло их, как и самый их пароходик. Пришла советчина и тоже атаковала Пушкина. Он головою был выдан на расправу Крупской: пусть погибает и вымирает неподходящее. Но и Крупской с наркомпросом{28} Пушкин оказался не по зубам. У страны обессиленной, обворованной, залитой кровью и нечистотами, осталось одно солнце – Пушкин. И страна Пушкина не отдала. Страна сберегла Пушкина, его томики дореволюционных изданий, как гугеноты, сжигаемые на кострах инквизиции за хранение Библии, берегли эту книгу.
И советчина спасовала: там, за рубежом, судя по газетам, тоже собираются отмечать великую дату, и готовятся к этому. Но не насмешкой ли будут «Пушкинские торжества», торжества в честь русского национального гения в стране, где власть топчет все национальное и издевается над ним. Бессмертная душа Пушкина будет не «там», а с нами, хранителями той России, которой он отдал свой гений.
А. П. Цзян
Пушкин в женских образах и музыке
Этот интересный, хорошо разработанный и подготовленный доклад А. П. Цзян сделала на последней открытой «Среде» Женского клуба при Коммерческом собрании{29}, посвященной Пушкину, в связи со столетием со дня смерти поэта. Обширный доклад оставил у многочисленной аудитории незабываемое впечатление. Приводим его содержание в главнейших выдержках (прим. редактора).
– Чуткая муза Пушкина многогранно осветила женскую душу. «Во всяком чувстве Пушкина есть всегда благоуханное и грациозное»{30} – сказал Белинский, и это яснее всего ощущается в отношении поэта к своим героиням. Нет возможности останавливаться перед каждым портретом в галерее женских образов Пушкина, поэтому пойдем по ней быстро, вскользь полюбовавшись особенно дорогими и близкими нам силуэтами.
Вот – портрет «русской женщины во весь рост», это – любимая героиня Пушкина, «Татьяна милая моя»[19]. Перед нами образ замечательной чистоты и благородства. Предоставленная самой себе, «она по-русски плохо знала, журналов наших не читала, и выражалася с трудом на языке своем родном»[20]. Тем не менее, сама того не подозревая, Татьяна выросла настоящей русской. Она любила русскую природу, русскую зиму, русский быт, усвоив даже народные суеверия. Так как Татьяна жила в деревне, на самом черноземе народной жизни, в постоянном патриархальном общении с народом, среди быта, свято соблюдающего русские традиции, наносное французское влияние нейтрализовалось, заглушаемое живым общением с русской стихией. Татьяна подлинно русская женщина и по духу: идущая и не успокаивающаяся. Она замкнута, но внутри бурлит «тоска и роптание души». Еще девочкой она всегда была печальна, молчалива, задумчива и в ее детской головке рождались и теснились вопросы, на которые окружающая среда не могла дать ответа.
– «Я здесь одна, никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает и молча гибнуть я должна»[21].
Воплотив свой идеал в первом, не похожем на уездных соседей, молодом человеке, она скоро увидела мечту свою разбитой. Однако, крушение это не привело ее к пошлости или к безразличию, а, напротив, дало толчок к пробуждению живой мысли. Читая книги Онегина с его отметками, Татьяна победила свои сентиментальные фантазии, и в ее голове зашевелились настоящие критические мысли. Пробуждение под влиянием онегинских книг дает нам возможность понять ту Татьяну, с которой мы вновь встречаемся уже в петербургском «свете», где недавняя скромная деревенская девушка установила свой тон, тот тон аристократизма в лучшем смысле, который Пушкин определяет французским выражением «дю комиль фо» и который в природном виде встречается только у гармонических натур. Татьяна – первый в нашей литературе художественный портрет русской женщины, настоящей героини, геройство которой лишено всякой аффектации, настоящее русское геройство, в основе коего лежит суровый долг, требующий отказа от личного счастья и исполняющийся без фраз и жестикуляции.
Конечно, как человек живой и жизненный, Пушкин знал и изображал в своих творениях не только идеальных женщин, в его галерее мы найдем и обыкновенных женщин и девушек, со всеми присущими роду человеческому достоинствами и недостатками.
Вот образ Ольги Лариной, которая «всегда скромна, всегда послушна, всегда, как утро, весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви полна»[22].
А вот пламенно-любящая черкешенка. Дитя природы, она вся во власти своего чувства, но, зная, что русский пленник любит другую женщину, оставшуюся там, далеко, она дает ему свободу, а сама бросается в волны реки, унесшей его на родину{31}.
Вольная дочь степей Земфира{32} не может, да и не хочет, обуздать своих чувств и желаний: ее сердце любит шутя, ее сердце просит воли, и она покорно идет на зов сердца и… гибнет.
Гибель ждет и красавицу-грузинку Зарему{33}, забывшую родину и веру ради утех любви, потеря которых привела ее к мукам ревности и к убийству соперницы, вызвавшему жестокое наказание.
Вот чистая дева Изабелла, которая остается недоступной для побежденного ее небесной красотой Анжело{34}, смеявшегося доселе над влюбленностью. Он домогается любви Изабеллы, ставя исполнение своих желаний ценой помилования осужденного брата красавицы, но она остается непреклонной, ибо стыд для нее ужаснее смерти.
Талант Пушкина, постигший таинство «русского духа и мира», развернулся во всей своей силе, когда он, соединив фантастическое с реальным, общечеловеческое с народным, оставаясь верным народному колориту, показал в неоконченном произведении «Русалка» глубоко драматическое похождение дочери мельника, брошенной любимым человеком потому, что «князья не вольны, как девицы, не по сердцу они берут жену себе…»[23].
Немало интересных женских типов нашел Пушкин и в прошлом России. Трогательна Ксения Годунова, «в невестах уж печальная вдовица», безутешно оплакивающая своего умершего жениха. И навсегда запомнится рядом со смиренной горюющей русской царевной величественный образ надменной польки Марины, ищущей в браке не любви и тихого счастья, а высокого положения супруги русского Царя:
– Не юноше кипящему, безумно плененному моей красотой, знай, отдаю торжественно я руку наследнику московского престола, царевичу, спасенному судьбой…[24]
Интерес Пушкина к петровской эпохе вызвал к жизни прекрасную поэму «Полтава», посвященную Марии Николаевне Волконской{35}, утаенной любви Пушкина, который видел ее в последний раз, когда она остановилась в Москве на своем пути в Сибирь за мужем-декабристом. Чем можно объяснить это посвящение? Нужно думать, что общим моментом, роднящим героиню поэмы с героиней жизни, является трагедия женщины.
Княгине Волконской, прежде чем последовать за мужем в Сибирь, пришлось решить пред не пускавшим ее отцом тот же вопрос, который в своей поэме ставит Марии Мазепа:
– Скажи, отец или супруг тебе дороже?[25]
И обе одинаково решили его в пользу супруга. Мария, услышав признание своего избранника, радуется его могуществу:
– О, милый мой, ты будешь Царь земли родной! Твоим сединам как пристанет корона царская! О, знаю я: трон ждет тебя![26]
Но это не радость честолюбия. Это – радость верной супруги, которая, в случае неудачи пойдет с супругом на плаху.
Останавливаясь перед портретами пушкинских героинь, конечно, нельзя пройти мимо той, к которой поэт всегда обращался с трогательной нежностью, воспоминания Пушкина о которой проникнуты сыновней любовью. Няня Арина Родионовна – первая наставница его в родном языке, близкий друг и утешительница в тяжкие минуты изгнания и одиночества. Как много говорит сердцам нашим этот образ милой верной няни, сколько сожалений вызывает мысль о том, что у наших детей не будет теплых воспоминаний, связанных с ныне ушедшим типом старой русской няни.
На вопрос, что видел, вернее, что хотел видеть, за что любил женщину Пушкин, и с каким чувством к ней приближался, мы находим ответ в любовной лирике. Наиболее ярко это отношение выражено в прелестном стихотворении «Буря»:
– Прекрасно море в бурной мгле, и небо в блесках без лазури; но верь мне; дева на скале прекрасней волн, небес и бури.[27]
Его влечение к женщине чисто и прекрасно, и он погружается в мечтанье, «когда нечаянно пройдет передо мной младое, чистое, небесное создание», и хочется ему, любуясь девой, «благословлять ее на радость и на счастье и сердцем ей желать все блага жизни сей».[28]
Пушкин, любивший всегда и любивший пылко, постоянно ассоциирует любовь с представлением «возвышенная, чистая, небесная», и не может не взирать на красоту без умиления, без робкой нежности и тайного волнения, внушаемых ему всегда женской любовью. Любовь для поэта – такая же высшая сила, как и природа; появление и исчезновение ее совершается вне всяких усилий человеческой воли и чуждо логической закономерности. Таким мгновенно вспыхнувшим чувством, охватившим все существо Пушкина, была любовь его к А. П. Керн, явившейся перед ним, «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты».[29] Столь же горячо и глубоко чувство любви Пушкина выливается в стихотворениях, посвященных Амалии Ризнич, которую он любил «пламенной душой, с таким тяжелым напряжением, с такою нежною томительной тоской, с таким безумством и мучением».[30]
Но годы унесли «голос нежный и милые черты» Керн, также внезапно исчезла страсть к Ризнич, и поэт сам поражен, что услышав весть о смерти любимой женщины, он «равнодушно ей внимал».
К концу своей краткой жизни поэт нашел, наконец, как ему казалось, в своей жене воплощение своего высшего женского идеала, и, в порыве благодарности Богу за свое счастье, восклицал в обращении к Н. Н. Гончаровой:
– Творец тебя мне ниспослал, моя Мадонна, чистейшей прелести чистейший образец…[31]
Вот, в главных чертах, женщина и отношение к ней пушкинской музы, той музы, которую Белинский определил словами:
– Муза Пушкина это – девушка-аристократка, в которой обольстительная красота и грациозность непосредственности сочетались с изяществом тона и благородной простотой, и в которой прекрасные внутренние качества развиты и еще более возвышены виртуозностью формы, до того усвоенной ею, что эта форма сделалась ее природой{36}.