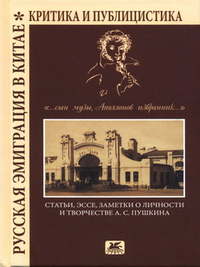
«…сын Музы, Аполлонов избранник…». Статьи, эссе, заметки о личности и творчестве А. С. Пушкина
Пушкин – сверхчеловек
Пушкин. Пушкин!Какой дивный сон видал я в своей жизни!..{147}Н. В. ГогольТакое восклицание вырвалось из-под пера Гоголя при известии о смерти Пушкина, и, – странное дело! – автор «Мертвых душ» не одинок в своем впечатлении от встречи с родоначальником истинно русской поэзии, как от видения иного, нездешнего мира.
Уж на что прозаическим человеком был современник и близкий приятель Пушкина Павел Воинович Нащокин{148}, страстный игрок, гурман, грубоватый «дамский угодник», – «прожигатель жизни», одним словом.
Но вот, в деловом письме к Пушкину, отдавая отчет в выполненном денежном поручении своего корреспондента и отклоняя его извинения в причиненном беспокойстве, этот самый Нащокин, соривший деньгами и всегда в них нуждавшийся, роняет такую фразу: «Мало ли что было трудно, так ведь и дружба с Пушкиным – «не безделица»!{149}
Как видите, и это человек, – совершенно не владевший, к слову сказать, русской орфографией и едва ли способный ценить по достоинству поэзию своего друга – выделял Пушкина из необъятного сонма своих клубных и светских друзей.
«Дружба с Пушкиным – не безделица!»
Если бы такие слова мы услышали из уст князя Вяземского{150}, или Жуковского{151}, – это было бы понятно. Но… Павел Воинович! Такая оценка своего друга объясняется, уж конечно, не личными качествами Нащокина, а присущим Пушкину свойством вызывать в своих близких «интуицию» своей исключительности, которой поддавалась даже такая суровая и богатая натура, как император Николая Павлович{152}, а также генерал Милорадович{153}, или Бенкендорф{154}.
«Флюиды гения» – это еще неразгаданная человеком тайна.
Вспомним Пушкина в кишиневской и одесской ссылке. По возрасту он был почти мальчиком. У правительства – в немилости. По образу жизни – самый ветреный «повеса».
Однако старый боевой генерал Инзов{155} питал к нему чисто отеческие чувства и, сажая его под домашний арест за «шалости», заслуживавшие гораздо более суровой кары, присылал ему французские журналы своих дочерей.
А одесский граф Воронцов{156} боролся с ним, как с ровней, и… щадил его сколько был в силах, пока не взмолился, наконец, перед Петербургом об освобождении его от такого «чиновника».
Император Александр Павлович{157} – имевший достаточно оснований не жаловать Пушкина за его более чем колкие, эпиграммы, – и здесь не обрушил на него своего карающего меча: из Одессы Пушкина перевели на житье в псковское имение матери, Михайловское, где он и создал лучшие свои вещи.
В эту новую свою «ссылку» поэт явится под тяжестью обвинения, между прочим, и в том, что он «афей»{158}, т. е. атеист, почему и был вверен надзору игумена близлежащего Святогорского монастыря{159}.
Чем же мог Пушкин «очаровать» этого сурового монаха-простеца?
Об «атеизме» Пушкина, – обвинение в коем основано на нескольких строках его же письма, – говорить не будем, но нельзя же не заметить, что молодые годы его были периодом особенно усердного проявления во внерелигиозных настроениях.
И тем не менее этот иеромонах, который выполнял свои наблюдательные функции с крайней деликатностью, не надоедал поэту своими посещениями, слал о нем самые лестные отзывы своему духовному начальству{160}.
По словам очевидцев, он высоко ценил поэтические дарования Пушкина и дорожил беседами с ним, отнюдь не выступая в учительной роли.
Обратили ли вы внимание, что все близкие друзья поэта, – разумеется, кроме его лицейских товарищей, – были значительно старше его по возрасту?
Жуковский, Плетнев{161}, Крылов{162}, даже князь Вяземский, как и многие другие, – все были уже взрослыми людьми, когда Пушкин еще «в садах лицея безмятежно расцветал».[63]
А как ценили они его дружбу, его общество, его мнения, его приговоры не только по литературным, но и по общественным, и по политическим вопросам!
Конечно, Пушкин был одарен огромным умом, который бросается в глаза даже людям, отделенным от него целым столетием времени.
Недаром же после первого свидания с поэтом император Николай заявил, что «сегодня ему удалось говорить с умнейшим в России человеком».
Но мало ли умных людей проходят в жизни совершенно незамеченными?
А все знавшие поэта даже по мимолетным встречам отзывались о нем, как об исключительно Божьем избраннике, как о человеке какого-то «высшего посвящения», как о «дважды рожденном», – по терминологии мистиков западной традиции.
Как к существу «высшего порядка» относились к Пушкину и женщины, – и не только молодые, которых он заражал своей страстностью, – но и почтенного возраста, как, например, Загряжская{163}, Карамзина{164}, Элиза Хитрово{165}.
И не чувствует ли каждый из нас, лишь коснется речь Пушкина, что в нем мы имеем не только величайшего национального поэта, – поэтов, и немалых, на Руси изрядное множество! – но и некую духовную величину особого, «сверхчеловеческого» порядка, имя которой «национальный гений», – единственный и ни с кем несравнимый!
Я был всегда глубоко убежден, что на земле живет два рода людей.
Одни составляют многомиллионный человеческий океан, единицы которого разнствуют друг от друга умственными способностями, даже талантами, но все же являются существами одного и того же порядка, с одинаковыми гносеологическими способностями, воспринимающими мир при посредстве пяти внешних чувств и мыслящими его не иначе, как во времени и трехмерном пространстве.
А в эту общечеловеческую массу вкраплены, как алмазы в толщу каменноугольного пласта, редкие единицы, рожденные, как и первые, от обыкновенных женщин и мужчин, но претерпевшие, в дальнейшем, новое духовное рождение, в виде обретения в себе способностей сверхчувственного восприятия.
Так как эти «дважды рожденные», эти гении, эти воистину «сверхчеловеки»{166} появляются в самой различной общественной среде, то и судьба их в нашем мире бывает весьма различною.
Вероятно, некоторое число их проходят в жизни никем не замеченными; другие рано замыкаются в исключительно созерцательную жизнь, достигая порой «великих вершин святости», предполагающей в людях, в конечном счете, расширенное ведение мира и Бога.
Иногда они получают способность творить то, что мы называем чудесами, – исцелять больных, предвидеть будущее и т. п.
Но бывают и примеры, когда такие «сверхлюди» не порывают с миром ординарных людей, разделяют даже с ними общие интересы, страсти, увлечения и, – о, ужас! – заблуждения, но в то же время неизмеримо глубже нас проникают в сущность бытия и мироздания и обладают способностью посвящать и нас немногими словами в тайны «касания мирам иным»{167}.
Пушкин принадлежал к числу именно таких людей, о чем можно найти множество «документальных» доказательств в его творчестве.
Сам он посвятил нас в тайны своего «второго рождения», – наступившего для него в момент пробуждения поэтического дара, – и внутреннего процесса художественного творчества.
Не буду затруднять длинными цитатами. Напомню лишь начала этих поэтических откровений:
Первое:
В те дни, когда в садах ЛицеяЯ безмятежно расцветал…
Второе:
Пока не требует поэтаК священной жертве Аполлон…[64]
А доказательство истины этих стихов, – вообще изумительно правдивых, – разве не видим мы в факте, что Пушкин времен кишиневских скандалов, да и ссоры с Дантесом – Геккерном{168}, и автор «Пророка» один и тот же человек.
Полно! – действительно ли Пушкин только «человек»?
По плоти, – разумеется, да! Но, – по духу?
Когда Том Мур{169} сжег дневник Байрона{170}, Пушкин выступил в защиту этого вандализма.
«Светской черни мало было видеть Байрона в единоборстве с общественным мнением чуть не всего мира, мало наблюдать его среди пожарищ воскресающей Греции: ей подавай Байрона… на стуле! – писал Пушкин одному из друзей.
Ординарным людям приятно думать, что величайший поэт своего времени и ест, и пьет, и спит также, как они, и, конечно, они с радостью ухватились бы за его дневник.
Так врете же, он и ел, и пил, и спал, да не так, как вы»!{171}[65]
Да, и Пушкин был человеком, и притом, – грешным человеком.
Но в то же время он был и гением, а потому и грешил-то не так, как ординарные люди, и грехов его не надо ни скрывать, ни соблазняться ими.
Во всяком случае, он обладал вполне свойствами, которые древние эллины приписывали своим богам: совершенным чувством меры и вечной юностью, – несмотря на раннюю зрелость.
Со дня его смерти прошло сто лет. Сто лет это три человеческих поколения.
А раскройте книгу его творений, и на вас пахнет свежестью прекрасного раннего утра.
Много ли писателей на Руси, которые не устарели, или не устареют, через сотню лет после кончины?
А вместе с тем, чьи же произведения лучше отражают эпоху своего автора, чем пушкинские?
И как ни подыскивая похвальных эпитетов творчеству этого национального нашего гения, какими восторгами ни отвечай на зов его музы, – все не придумаешь ничего лучше одного надгробия времен итальянского Возрождения:
Танто номини нуль пар элогиум{172}(Такому имени нет равной похвалы!)
Пушкин – наше знамя{173}
Сегодня исполняется сто лет со дня трагической гибели нашего величайшего национального поэта – А. С. Пушкина.
Русские люди, как живущие в СССР, так и «в рассеянии сущие»{174} давно уже готовились отметить эту великую годовщину.
Поэтому сегодня прославление памяти А. С. Пушкина, так чудесно названного Солнцем Русской Культуры{175}, принимает характер грандиозного, воистину всемирного торжества, объединившего всех наших соотечественников.
По беглым подсчетам эмигрантских газет, в Зарубежной Руси образовалось более сотни Пушкинских комитетов, деятельно готовившихся к предстоящим торжествам{176}.
В пышных европейских столицах, в шумных, деловых городах Америки, под жгучим солнцем тропиков и хмурым небом Севера, на Дальнем Востоке и Дальнем Западе, словом везде, где есть хотя бы горсточка русских людей, а где их только нет в наше время, сегодня зазвучат пушкинские стихи и будет прославляться память русского гения.
Так суждено было исполниться вещему предвидению поэта, высказанному им в «Памятнике», к которому воистину «не заросла народная тропа».
Больше того, на долю эмиграции выпала историческая миссия популяризировать творения Пушкина среди чужих народов, привлечь к ним внимание цивилизованного мира и прежде всего Европейского человечества, до сих пор сравнительно мало знакомого с величайшим русским поэтом, являющимся лучшим выразителем нашей национальной души и лучшим истолкователем России.
Большевики, так бесцеремонно присвоившие себе Пушкина, после всех надругательств над ним, над его памятью, тоже отмечают сегодняшний день пышным торжеством и митингом.
Сейчас в СССР в мельчайших деталях восстанавливается петербургская квартира и Михайловский флигель Пушкина, выходит новым изданием Собрание сочинений пушкинских творений, выпускается множество книг по Пушкину и о Пушкине{177}.
Но за всеми этими казенными торжествами – нет того энтузиазма и той любви, которая согревает и одухотворяет скромные «Пушкинские дни» русской эмиграции.
Пушкин, как национальный поэт и русский гений, как великий патриот и певец Великодержавной Императорской России – не только органически чужд, но и просто враждебен – большевизму и как бы ни старались советские «пушкинцианцы» сделать из него революционера{178} – светлый дух Пушкина сейчас не с ними.
Напротив, эмиграция за годы изгнания еще теснее сдружилась с Пушкиным, всегда бывшим для нас не только «первой любовью»[66] но и вечным спутником и учителем.
За годы эмиграции мы научились лучше понимать и еще больше любить Пушкина, суровая школа изгнания обострила наш слух и открыла нам новые потаенные стороны его творчества.
Творения Пушкина превратились для нас в подлинную национальную Библию, которая сопровождает нас с детский лет до могилы.
С нею мы не расстанемся во всех скитаниях нашей эмигрантской жизни, и через нее лежит наш путь на родину.
Пушкин с нами.
Он утешает нас в самые горькие минуты, рассеивает самые черные сомнения и учит с непоколебимой верой в Россию и ее великое провиденциальное назначение.
Пушкин – наше знамя…
Г. К. Гинс
А. С. Пушкин – русская национальная гордость
Речь, произнесенная на акте Юридического факультета 1 марта 1937 года
Юбилей А. С. Пушкина подарил нам немало дней эстетического наслаждения и национальной гордости. Хотелось бы, чтоб юбилейные дни продлились и, по крайней мере, весь 1937 год прошел бы под знаком А. С. Пушкина.
В ряду таких мировых писателей и поэтов, как Гомер, Данте, Шекспир, Гете, – Пушкину места не отведено. Но среди писателей с мировой славой, каковы Байрон, Шиллер, Альфред Мюссе, Мицкевич, В. Гюго, Гейне и др. Пушкину принадлежит не последнее место, он выше многих из них. Неудивительно поэтому, что столетняя годовщина смерти Пушкина всколыхнула весь культурный мир.
Когда оглядываешься на прошлое русской литературы, то появление Пушкина кажется чудесным. Ломоносов, Державин, Жуковский и Пушкин – это этапы безостановочного совершенствования. Но переход от Жуковского к Пушкину кажется скачком, исторической неожиданностью, настолько велико преимущество «ученика» перед «побежденным учителем»{179}, настолько сильно обаяние пушкинского стиха, совершенство и богатство его языка и мастерское умение передать в сжатой форме глубокие мысли и меткие, незабываемые сравнения.
В замечательных технических музеях Мюнхена и Кенсингтона (в Лондоне){180} наглядно представлены все стадии развития всевозможных технических приспособлений, сооружений, инструментов. Первые усовершенствования кажутся слишком медленными, но заметны; когда же достижения слишком значительны, дальнейшие улучшения уже незаметны. Так было после Пушкина. Кажется, как будто от гуслей перешли сразу к роялю, и затем уже стало незаметно, что после него улучшено в качестве стиха и литературного языка.
Но Пушкин велик не только своим мастерством художника, он очень значителен по содержанию своих произведений. Оно необычайно богато, разнообразно и глубоко. Творения Пушкина с юных лет отмечены печатью гения.
I. Жизнерадостность
Первое, чем подкупает Пушкин, это его жизнерадостность, которая, особенно в молодые его годы, била ключом. Сколько ходит разных анекдотов о Пушкине, сколько осталось литературных следов его шалостей, его игры рифмою, которую он назвал однажды «резвою вакханочкой»[67]. Жизнерадостность эта не покидала Пушкина почти до смерти, несмотря на суровые испытания жизни и превратности судьбы. Казалось, после каждого удара к нему вновь возвращались и бодрость, и надежды, после бурь – спокойствие и веселость.
Пушкин – студент, служивший Вакху и Киприде{181}, посвятил «пирующим студентам» следующие строки:
Под стол холодных мудрецов –Мы полем овладеем;Под стол ученых дураков!Без них мы пить умеем.Ужели трезвого найдемЗа скатертью студента?На всякий случай изберемСкорее президента.В награду пьяным – он нальетИ пунш и грог душистый,А вам, спартанцы, поднесетВоды в стакане чистой!
Когда читаешь эти стихи, то ясно представляешь себе Пушкина озорника и повесу, вскакивающего на стол, сочинявшего забавные эпиграммы, остроумного собеседника и гуляку.
В произведениях Пушкина много юмора, вызывающего улыбку, и здоровый, веселый смех.
Поэт описывает Людмилу в садах Черномора, угнетенную похищением и одиночеством, готовую на самоубийство:
В волнах решилась утонуть –Однако в воды не прыгнулаИ дале продолжала путь…Людмила умереть умеет…
Она не хочет поддаться соблазнам, которыми старается поразить и подкупить ее волшебник, однако в зеркальце она собою залюбовалась и от роскошных яств скатерти-самобранки не отошла:
Не стану есть, не буду слушать,Умру среди твоих садов!Подумала – и стала кушать.
В сказке о мертвой царевне Пушкин опять добродушно посмеивается над кокеткой:
И царица хохотать,И плечами пожимать,И подмигивать глазами,И прищелкивать перстами,И вертеться подбочась,Гордо в зеркало глядясь[68].
Склонность к шутке не покидала Пушкина и в зрелые годы. Юношей он сочиняет «Вишню», взрослым и, казалось, усталым, он пишет «Гусара», который не может не развеселить. Ну как не засмеяться, когда завравшийся гусар начинает описывать чудеса:
Плеснул я на пол: что за чудо?Прыгнул ухват, за ним лохань,И оба в печь. Я вижу: худо!Гляжу: под лавкой дремлет кот;И на него я брызнул склянкой –Как фыркнет он! я: брысь!.. И вот –И он туда же за лоханкой.Я ну кропить во все углыС плеча, во что уж ни попало;И все: горшки, скамьи, столы,Марш! марш! все в печку поскакало.Еще веселее диалог на Лысой Горе:Я плюнул и сказать хотел…И вдруг бежит моя Маруся:Домой! кто звал тебя, пострел?Тебя съедят! Но я не струся:Домой? да! черта с два! почемМне знать дорогу! – «Ах, он странный!Вот кочерга, садись верхомИ убирайся окаянный.Но когда перечитываешь «Капитанскую дочку» и проникаешься несравненным благодушным юмором описания крепости и ее обитателей, то обаяние живого ума и здоровой жизнерадостности Пушкина становится непреодолимым. Он покоряет раз навсегда, так же, как покоряли его:
Приговорки, прибаутки,Небылицы старины.Слушать, так душе отрадно.Кто придумал их так ладно?И не пил бы, и не ел,Все бы слушал, да глядел[69]
Жизнерадостность Пушкина – один из секретов его бесспорного владычества над юным и старым, его несравнимого умения покорить раз и навсегда.
Но жизнерадостного Пушкина с ранних лет мучили сомнения и раздумья. Ведь это пятнадцатилетний Пушкин написал в 1814 году романс «Под вечер, осенью ненастной», где изображал несчастную девушку, которая стала матерью, и ищет порога, у которого ей придется оставить навек «плод любви несчастной»:
Дадут покров тебе чужие,И не найдешь семьи роднойИ скажут: «Ты для нас чужой» –Ты спросишь: «Где ж мои родные?»
Пятнадцатилетний Пушкин находит образы и слова протеста против мирского лицемерия:
Закон неправедный ужасныйК страданью осуждает нас[70]
Юноша Пушкин пишет проникнутые не только патриотическим пафосом, но и глубокими мыслями «Вспоминания в Царском Селе», которые он прочел на экзамене, в присутствии Державина и которые заставили говорить о нем всю столицу:
Здесь каждый шаг в душе рождаетВоспоминанья прежних лет.– говорит поэт в этом стихотворении. Мальчиком он жил уже как взрослый. Его воображение уже охватывало национальное прошлое, он задумывался над вопросами большой государственной важности. Веселый озорник был с малых лет серьезным мыслителем, начитанным самой разнообразной литературы и, в частности, ставший поклонником Вольтера{182} («Городок», 1814 г.) легкомысленный семнадцатилетний юноша уже задумывался над бренностью человеческого счастья.
Кто раз любил, то не полюбит вновь;Кто счастье знал, уж не узнает счастья,На краткий миг блаженство нам дано:От юности, от нег и сладострастьяОстанется уныние одно…[71]
II. Культ красоты
Пушкин не мог пройти мимо красоты. Он был поклонником ее во всех видах и проявлениях.
Уже, казалось, пресыщенный любовью и утомленный жизнью, он пишет в 1832 году Надежде Львовне Сологуб{183}:
Нет, полно мне любить; но почему ж поройНе погружуся я в минутное мечтанье,Когда нечаянно пройдет передо мнойМладое, чистое, небесное созданье…[72]
Восхищение перед живою красотой Пушкин передавал с неподражаемой непосредственностью чувства. В частности, его восхищение красотою невесты, потом жены, можно назвать возвышенным: «Творец тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести чистейший образец» («Мадонна»).
Все в ней гармония, все диво,Все выше мира и страстей;…………………………….Куда бы ты ни поспешал,Хоть на любовное свиданье,Какое б в сердце не питалТы сокровенное мечтанье, –Но, встретясь с ней, смущенный, тыВдруг остановишься невольно,Благоговея богомольноПеред святыней красоты.[73]
Только «чистая» красота вызывала у Пушкина длительное, благоговейное чувство, даже когда предмет влечения исчезал, как «мимолетное виденье».
Я помню чудное мгновенье:Передо мной явилась ты,Как мимолетное виденье,Как гений чистой красоты[74].
Но совершенство живой красоты недолговечно. Страсть разрушает ее, смерть уничтожает в корне. Есть другая красота – бессмертная. Это красота природы.
В этой красоте больше духовности, в ней человек осязает то вечное, маленькую частицу чего составляет он сам.
Красоту природы Пушкин воспринимал во всех ее проявлениях, он видел ее и в торжественном рокоте морских волн, и в величественной панораме, открывающейся с заоблачных горных вершин, и в бушующем потоке горной реки, и во всех пейзажах русской природы, особенно же любимой им зимы.
Истинный художник – поэт, кто из красоты смертной умеет создать хотя бы подобие бессмертного, что может пережить создателя. Запечатлев на картине образ красавицы, мы сохраняем его для потомства, и тогда живая, но смертная красота уже не боится всеразрушающего времени. Уловив гармонию звуков, мы передаем ее в музыке, которая сохраняет эти звуки для потомства.
Кто умеет понимать эту победившую время красоту, тот исполняется особого величественного спокойствия. Он смотрит на суетящийся мир, как бы свысока:
…Влиянье красотыТы живо чувствуешь. С восторгом ценишь тыИ блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой.Беспечно окружась Корреджием, Кановой,Ты, не участвуя в волнениях мирских,Порой насмешливо в окно глядишь на нихИ видишь оборот во всех кругообразный.[75]
Окончательно созрев, Пушкин выше всего ценил возможность наслаждаться всеми видами красоты.
По прихоти своей скитаться здесь и там,Дивясь божественной природы красотам,И пред созданьями искусств и вдохновенийБезмолвно утопать в восторгах умиленья.[76]
Созерцание красоты не проходит бесследно. Красота, как и все другие переживания высшего порядка, облагораживает, пробуждает «добрые чувства». «Красота спасет мир»{184} – говорил Достоевский.
Красота, как нежный ангел у Пушкина, пробуждает невольный жар умиленья.
…тебя я виделИ ты недаром мне сиял:Не все я в мире ненавидел,Не все я в мире презирал.[77]
Поэтому Пушкин ценил великодушие и считал недостойным поэта мстительное и злобное чувство или обиду павшего:
И не услышат песнь обидыОт лиры русского певца.[78]
III. Философия истории и государственность
Пушкин был незаурядным мыслителем. Его огромное преимущество перед другими поэтами – насыщенность его поэзии глубокими мыслями.
Мы только что цитировали его послание «Вельможе». Он говорит там о кругообразном обороте истории, об упадке, неизбежно приходящем после расцвета. Описывая блеск и насыщенность культуры конца XIX столетия, он проводит параллель с состоянием великой Римской империи накануне ее упадка:
Так, вихорь дел забыв для муз и неги праздной,В тени порфирных бань и мраморных палат,Вельможи римские встречали свой закат.
В словах и сравнениях этого замечательного произведения целая теория, много раз повторявшаяся разными мыслителями со времен древности, нашедшая себе яркое выражение у Вико{185} и сохраняющая сторонников в наше время.
Не менее значительны по содержанию стихи Пушкина:
Два чувства дивно близки нам –В них обретает сердце пищу –Любовь к родному пепелищу,Любовь к отеческим гробам.[79]
Пушкин хорошо понимал, что значит в общественной жизни традиция. Мертвые, казалось бы, остатки старины, в действительности живут и прочно связывают прошлое, настоящее и будущее. «Каменные страницы истории», как называл Виктор Гюго памятники прошедших времен{186}, заставляют понимать и любить прошлое нации, как старый дедовский дом, и могилы предков заставляют чтить семейные традиции:
На них основано семействоИ ты, к отечеству любовь{187}.
Каждый социолог нашего времени безоговорочно присоединится к этой мысли поэта, правильно понявшего значение традиции для сохранения нации и исторических памятников, как средств связи с прошлым. Эти традиции и памятники объединяют великое множество людей единством настроений и устремлений.
В другой статье (Сборник «Россия и Пушкин. Харбин, 1937) мне приходилось уже отмечать чуткость Пушкина как историка{188}. В отличие от многих профессионалов, он лишен односторонности в подходе к объяснению исторических событий. Он не был, конечно, историком, но в своем художественном воспроизведении исторических событий он отводил должное место не только личности, но и народным движениям, не только экономическим потребностям, но и случаю.
Очень продуманно и цельно сложилось у Пушкина его государственное мировоззрение. Его основная мысль – необходимость сильной власти: «всякое крупное политическое действие – только по почину правительства; оно есть движущее и образующее начало русской истории – великие государи в России были своего рода революционеры…»{189}.