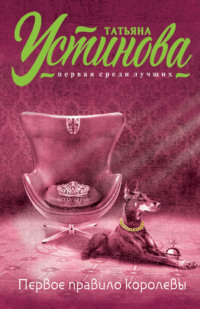
Первое правило королевы
А потом она вышла в крохотную комнатку и оказалась нос к носу с Ястребовым. Больше в комнатке никого не было, даже каменных пиджаков и бетонных галстуков, только веселый голос Юры доносился из-за студийной двери.
Ястребов был мрачен.
Инна улыбнулась ему самой милой из всех своих улыбок.
– Поздравляю вас.
– Спасибо, Александр Петрович.
– В следующий раз я буду готов. Так что берегитесь.
Никакого «следующего раза» не будет. В следующий раз твоим противником будет кандидат в губернаторы, а не я. Сегодня – исключительный случай.
– Александр Петрович, вы все неправильно поняли. Я вовсе не собиралась…
– Собиралась, собиралась.
– Я не хотела, чтобы…
– Хотела, – перебил Ястребов. – Все правильно. Мы теперь в разных командах.
Инна и сама толком не знала, в какой она теперь команде. Якушев сегодня про «команду» не сказал ни слова, все больше про «праздник для народа» и про то, что Инна должна найти на него денег.
– И хотела, и собиралась. Но ты сильно рискуешь. Или думаешь, что из-за того, что ты со мной спишь…
Инна раздула ноздри.
– Я с тобой не сплю.
– Мне показалось?
– Этоты спишь со мной.
Он развеселился:
– А что, есть разница?
– Огромная, – уверила его Инна, – просто колоссальная.
– Никакой, – весело сказал он. – Но ты особенно не увлекайся. Я больше не дам тебе шанса.
– Да мне и не надо никаких шансов.
– Посмотрим.
– Посмотрим, – повторила она. Разыскала свою сумочку, пристроила ее на плечо и посмотрела независимо.
– Я должен подать тебе шубу?
Она посмотрела ему в лицо. Он вдруг подумал, что боится ее до смерти – потому и хорохорится, что боится.
– Вообще говоря, так принято. Но можешь не подавать.
В комнатку ввалился радостный Юра:
– Инна Васильевна, вы сейчас домой?..
Помощник моментально оценил обстановку, даже не столько обстановку, сколько напряженность электрического поля – опять синие искры в очках у Ястребова, и вокруг как будто потрескивает. Юра смолк, приостановился и занял позицию – за правым Инниным плечом.
Ястребов насмешливо посмотрел на них обоих – даже как-то объединил их взглядом.
– Еще раз спасибо и до свидания, Александр Петрович.
– И вам спасибо, Инна Васильевна.
Она повернулась к нему строптивой спиной, позволила Юре подать шубу и вышла в коридор, чуть не стукнув по носу того, кто стоял подле плевательницы.
Да. В эфире все было проще. Возможно, он и плясал под ее дудку, но лишь потому, что у него оказалось меньше опыта и он не сразу сообразил, как именно ему следует держаться. Вне эфира он действовал на нее слишком сильно, чтобы она могла позволить себе задевать или дразнить его.
Осип встретил ее в «холле», как шикарно назывался продуваемый сквозняком вестибюль с затоптанными полами, телевизором, поролоновым диваном и кадкой для фикуса. Фикуса в кадке не было – должно быть, не вынес трудностей телевизионно-сибирской жизни, – из бывшей фикусовой земли густо торчали хвосты «бычков», как будто посадки всходили.
Осип был мрачен. Едва завидев Инну с Юрой, поднялся с пыльного дивана, повернулся спиной и пошел к выходу, ни слова не сказал. Это было на него совсем не похоже. Инна проводила взглядом широкую спину.
– Инна Васильевна, я вам больше не нужен?
– Нет, Юр, спасибо.
– Ваше расписание на завтра.
Инна покосилась на хрусткий листок белой бумаги и перевела взгляд на помощника.
Эдакие нарочито «начальственные» штучки всегда ее раздражали. Она же не премьер-министр Великобритании, зачем ей расписание! Все свои дела она знает сама, кроме того, график ее жизни постоянно меняется – еще ни разу она не дожила день до конца в соответствии с расписанием, составленным Юрой.
Юра, как и Осип, был очень озабочен тем, чтобы ее статус «правильно соблюдался» – а заодно и его! Он – помощник «большого начальника», и он делал все, чтобы быть хорошим помощником.
Инна сложила расписание вчетверо и затолкала в сумочку. Даже из сумочки оно ее раздражало.
– Вы были великолепны, Инна Васильевна. Как всегда.
– Юр, я сто раз говорила, что расписание мне не нужно. Мне нужен только список запланированных встреч, которые нельзя отменить.
– Собственно, это и есть список…
– Собственно, это никакой не список! – Она выхватила расписание и вновь развернула. – Вот это что такое?
– Где, Инна Васильевна?
– Вот здесь. Это что написано?
Юра заглянул и старательно прочитал. С его точки зрения, все было правильно.
– М-м… Здесь написано – обед. Это для секретаря, чтобы вас лишний раз не беспокоили.
– Юра, у нас не бывает никаких обедов, уж вам ли об этом не знать! Почему тогда после обеда вы не написали – сон? Чтобы меня лишний раз не беспокоили?!
Юра пожал широкими плечами под коричневой итальянской дубленкой и улыбнулся доброй улыбкой. Он был франт, игрок, умница, специалист по подковерным делам, и Инне не хотелось с ним ссориться только потому, что Ястребов Александр Петрович сказал ей, что она с ним спит и чтобы в будущем ни на что не надеялась. Самодовольный, наглый мужлан, уверенный, что он сильнее всех на свете!
– Спокойной ночи, Инна Васильевна.
– До завтра, Юра. Не обижайтесь на меня!
Опять добрая улыбка во все «шестьдесят четыре» зуба.
– Что вы!..
Он вдруг поцеловал ей руку, прямо поверх перчатки, и ушел в свою машину.
Осип, перегнувшись, открыл ей дверцу.
Они тронулись со стоянки как раз в ту секунду, когда на обледенелом крылечке показались первые каменные лица и бетонные тела.
Осип надавил на газ и пулей вылетел на тихую улицу, освещенную единственным фонарем, – вот какой понятливый!
– Ты что такой мрачный, Осип Савельич?
– Эфир твой смотрел.
Инна замерла.
– И что? Ты из-за эфира мрачный?
Молчание, сопение, ночная дорога.
– Осип Савельич!
– Чего?..
– Что с тобой? Чем я тебе не угодила?
Молчание, сопение и все такое.
Инна вздохнула. Вот наградил бог водителем! Беда просто. Но приставать не стала. Захочет – расскажет, нет – значит, пусть сам справляется со своими глубокими и трудными чувствами.
– Чего это ты… осторожность совсем потеряла, а?
– Что я потеряла?!
– Он тебе кто? Друг любезный, что ли? Чего ты с ним играешься? Он тебя раздавит, как… – Осип поискал слово, – как бабочку весеннюю!
Инна оценила деликатность – мог бы ведь сказать «муху навозную»!
Осип помолчал и снова начал:
– Ты чего? Воспитывать его решила при всем честном народе? На кой ляд он тебе сдался?! Ну, выставила ты его дураком, ну, все поняли, что он дурак, а дальше-то чего? Он тут губернаторствовать станет, а ты – прости-прощай работа?
Инна неожиданно и очень ясно осознала, что Осип… прав.
Абсолютно. Совершенно. Неоспоримо.
Как еще он может быть прав?..
– Он, конечно, сволочь последняя, чтоб ему двигатель на пустой дороге заклинило! Но ты-то чего? Отомстит он тебе так, что… мама, не горюй! Или ты надеешься, что не он… того?..
– Чего?
– Ну, что не он, а Сергей Ильич в губернаторы выйдет?
Инна промолчала.
Странно, что инстинкт самосохранения не остановил и не вразумил ее.
Вчера ночью – неужели только вчера?! – она сказала Ястребову, что никаких его предложений принять не может, потому что она – игрок другой команды. Вчера она была уверена, что капитан этой самой команды предложит ей место – если не нападающего, то хотя бы защитника. Капитан предложил ей не то чтобы даже скамейку запасных, а барабан и дудку – развлекать игроков до и во время матча.
После матча развлекать их станет кто-то другой.
Инна даже самой себе не могла ответить на вопрос, почему Якушев предложил ей именно это. Боялся? Не доверял? Хотел, чтобы она прошла проверку?
А если она пройдет, ей будет предложено место нападающего? Или все-таки нет?
Сегодняшним эфиром с Ястребовым она как бы отрезала себе путь в другую сторону.
Валентин Григорьевич Хруст, председатель законодательного собрания, не возьмет ее в свой штаб никогда – они слишком сильно, слишком давно и слишком открыто презирали друг друга.
Ястребов вряд ли простит ее. К двум безумным ночам сегодня добавились еще теледебаты, синие искры у него в очках, напряжение электрического поля – еще чуть-чуть, и вышибет пробки!
Все остальные кандидаты и их штабы никуда не годились, и это было всем очевидно. Бывший «известный предприниматель», а нынче специалист по гробам и проводам в «последний путь», хорошо хоть фамилия не Безенчук. Нынешний «известный предприниматель», бывший ученый, постоянно проживающий в Израиле. Бывший заключенный – заключали его три раза, и все по ошибке, разумеется! – нынешний директор маргаринового завода. Шансов ни у одного из них нет никаких, и они прекрасно это понимают. Для них важно ввязаться в драку, чтобы до небес повысить собственный статус – кто был ничем, тот станет кандидатом в губернаторы! – и еще для того, чтобы получить от бизнеса денег побольше, упрятать их подальше и свалить все на те же выборы. Мол, дорогое это дело – в губернаторы прорываться, все ваши денежки мы употребили по назначению, а проверить это все равно никак невозможно!
– Инна Васильевна, ты что молчишь?
Она молчала потому, что Осип был прав, а она даже не подумала об этом, упиваясь своим сладким величием и превосходством! Но признаваться в этом она не хотела.
– Обиделась, что ли, Инна Васильевна?
– Нет, Осип Савельич. Все в порядке.
Осип помолчал немного.
– А вчера, на Ленина когда были, то… чего там случилось-то? Ты ж обещала рассказать.
Инна посмотрела в окно. До «Сосен» было уже рукой подать.
– Нечего рассказывать, Осип Савельич.
– Так ты ее видала, вдову-то? Или нет?
Никогда и ничего не бояться – ей было восемь лет, когда она решила, что станет так жить. Что она никогда и ничего не будет бояться, уедет в Москву и больше не вернется в холодный дом с черным полом и окном, выходящим на засыпанный щепой двор и собачью будку.
– Я ее видала, Осип Савельич.
– Живую?
– Нет.
– Так она вечером уже померла?!
– Да.
– А ты у ней ничего спросить не успела?!
Инстинкт самосохранения наконец-то проснулся, выскочил наперерез и зажал ей рот.
– Не успела.
– Ты ж долго не выходила!
Инна вся подобралась.
– Я долго не могла найти квартиру.
– Ну? А потом чего?
– Что «ну», Осип Савельич! Любовь Ивановна уже умерла, когда я зашла. А потом мы уехали. Так что мы вчера на Ленина не были. Мы вчера по городу катались.
– Это я знаю, – пробормотал Осип. – Только мужики говорят, что ее тоже того… Любовь Ивановну-то.
– Что – того?
– Убили тоже, как и губернатора. И он, мол, не стрелялся, и она, мол, тоже… не сама умерла. Говорят, в крае больших изменений ждут, затем, мол, всю семью и прикончили…
Инна стиснула кулак.
– Каких изменений?
– А шут их знает. Говорят, что этот, которого ты сегодня дураком объявила, все и затеял. Только не сам по себе, конечно, а так они там, наверху, договорились. Чтоб выборов не ждать еще два года, а креслице для него сейчас освободить. Ну, и чтоб гарантия, значит. Так еще бабушка надвое сказала, кого люди тогда бы выбрали – может, Анатолий Васильевич так и остался бы губернаторствовать. Народ-то его любил, свой ведь! А эту нечисть не знает никто – откуда взялась, из каких щелей повыползла?! У них деньжищ, конечно, куры не клюют, только народ надуть все равно нельзя.
– Народ, Осип Савельич, надуть проще простого.
Он посмотрел на нее в зеркало заднего вида.
– Тебе видней, конечно, Инна Васильевна. Только говорят, что Мухин всем мешал, а супруга его догадалась об чем-то. Вот ее следом за ним и отправили. Догонять его, значит.
– Осип Савельич, замолчи.
«Вольво» остановился возле дачного забора. Решетка была до половины завалена снегом, а дальше чернели елки, при свете дня становившиеся голубыми. Инна посмотрела на елку.
Если бы у нее был ребенок, они стали бы ждать Нового года и ездили бы выбирать елку, а потом наряжали бы ее вдвоем и непременно разбили бы шар, а потом стали бы чай пить, чтобы не расстраиваться из-за шара.
Если бы у нее был ребенок, она накупила бы ему подарков в ярких коробках и старательно прятала бы их до самого Нового года, а потом выложила под елку и утром караулила, когда он вскочит в нетерпении и примчится смотреть. Пусть у него будет теплая байковая пижама, волосы в разные стороны, примятые подушкой, и одна щека краснее другой – та, на которой он спал. Он станет открывать подарки, дрожа от нетерпения и счастья, и этого счастья будет так много, что хватит на весь день и еще останется на завтрашний и послезавтрашний, а воспоминаний – на весь год!
Если бы у нее был ребенок, она ни за что не стала бы драть его за розовое беззащитное ухо и тыкать носом в грязный пол в наказание за то, что он плохо его подмел. И орать на него так, что он от страха забивался бы в угол и смотрел оттуда остановившимися перепуганными глазами. И бить тонким и страшным ремнем по неумелым пальцам за тройку в наивной детской тетрадке с наивными детскими уроками.
И еще она купила бы ему собаку. И везде брала бы с собой, чтобы он не мучился от ожидания и неизвестности – придет мама или не придет, и если придет, то в каком настроении, и если в плохом, то как спастись, не попасться на глаза, ничем не прогневать, угодить, подлизаться, и тогда, может, пронесет, может, не будет скандала, а это так страшно – скандал…
Она любила бы его, баловала, дружила с ним, секретничала, валялась на диване с книжкой, играла бы зимой в снежки, а летом возила купаться, и у них была бы собака, елка и все на свете.
Но у нее не было ребенка, а ей так хотелось прожить собственное детство еще раз – наоборот. Не так, как было тогда, а так, как ей отчаянно мечталось, чтобы было.
– Инна Васильевна, ты чего? Я тебя расстроил?
– Нет, все нормально.
– Завтра как обычно?
– Да.
– То есть в девять? Или к девяти уж на работу?
– В девять. Пока, Осип Савельич, спасибо тебе.
– Давай провожу-то!
– Не надо меня провожать, зачем?!
– Ну, смотри.
И не уехал, торчал за забором, пока она поднималась на крыльцо, пока дверь открывала – со второй попытки, – пока зажигала свет в тесном холодном тамбуре и изо всех сил топала ногами, чтобы отряхнуть снег и еще чтобы отделаться от мыслей о ребенке, которого у нее нет и уже, наверное, не будет.
Осип все стоял – вот упрямец!
Инна захлопнула двери, одну за другой, зажгла свет в коридоре и посмотрела на своих котов, которые, жмурясь от внезапного яркого света, сидели в некотором отдалении.
Тоник подумал-подумал и зевнул. Открылись белые острые зубы и черное небо хищного зверя.
Инна стащила ботинки, кинула сумочку и пошла к лестнице. Коты с недоумением переглянулись.
Позвольте, а где же любовь, ласка и общее удовольствие от того, что ты нас видишь? Куда ты пошла, не обратив на нас никакого внимания?! Что может быть важнее, чем мы, соблаговолившие выйти тебе навстречу, променявшие радость свидания с тобой на свои пригретые местечки?!
– Сейчас, – пообещала им Инна. – Все будет. Подождите.
Ей хотелось плакать – из-за собственной недальновидности, из-за Ястребова, из-за зловещей черной тучи, которая наползла на ее жизнь, как пурга, принесенная Енисеем, из-за того, что нет никого, кому нужна была бы елка, и ее заботы, и ее умение готовить, и никому не важно, что она никогда не позволит себе стать такой, как ее мать!..
Зато у нее есть все шансы потерять работу, и тогда она ни за что не сможет доказать бывшему мужу что «ей все равно», и он ужасно ошибся, променяв ее на «новую счастливую семейную жизнь»!
Она влезла в ванну, но сидеть долго себе не разрешила, напялила на голое тело давешние джинсы и свитер – на этот раз свой, а не мужнин, чтобы еще больше не горевать, – и пошла вниз, к своим кошкам, мухинским газетам и тяжелым думам.
На первом этаже было темно, она спускалась по лестнице, как в омут шла, держалась за гладкие перила, чтобы не упасть.
Как это она забыла оставить свет?..
Она была уже почти на последней ступеньке, когда что-то насторожило ее, звук или запах. Там, внизу, было что-то чужое, чего там не должно быть, – она знала это совершенно точно, как кошка Джина, которая видела в темноте.
Она замерла, понимая, что уже поздно, поделать ничего нельзя, у нее за спиной свет со второго этажа, и в этом свете она как на ладони, а внизу лишь озеро глубокой тьмы, и во тьме есть что-то, чего там быть не должно.
До выключателя далеко. Она не достанет и не успеет.
Раньше она никогда не думала, что выстрел в висок – всего лишь маленькая аккуратная дырочка, из которой почти не идет кровь, только синева разливается по изменившемуся мертвому лицу.
Стало холодно в спине и в животе.
Подняться наверх? Позвонить охране?
Она повернулась, но не успела.
Полдня Катя сидела в родительской квартире, не плача и почти не отвечая на вопросы, а потом, словно кто-то гнал ее, сорвала с вешалки шубу и платок и пошла куда-то. Ей смутно помнилось, что кто-то бежал за ней, как будто останавливал или о чем-то просил, но она ничего не слышала и не понимала, и пришла в себя только на какой-то дальней незнакомой улице.
Трамвайные пути, давно брошенные и засыпанные снегом, жались к серым заборам. Покосившаяся остановка с проваленной крышей, впереди, кажется, котлован или какая-то давняя стройка.
Катя понятия не имела, что это за улица, она не помнила никаких таких улиц. Почему-то из детства она помнила только лето – луг с ромашками, а дальше озеро, очень большое. Еще деревню, куда их с братом забирала бабушка. Там была коза, страшная. Велосипед с облезшей краской, но сверкающий спицами на солнце, словно новый; костер, в котором печется картошка, и так ей хочется этой картошки, что ждать уже нет сил, и она все пристает к отцу – может, готова? Отец раскапывает угли, выкатывает палкой одну, огненную, круглую, черную, тыкает прутиком – нет, не готова. Ну сколько еще ждать?! Ну когда?!
Еще лошадь помнила. Отец ездил в дальние колхозы, он тогда был главный агроном края и должен был инспектировать хозяйства, а в Сибири от поля до поля ногами не дойдешь – далеко. «Газик» отец не любил, только если совсем уж в дальнюю даль добирался, а лошадь любил, и Катя любила тоже. Лошадь была огромной – или маленькой Кате казалось, что она огромная? Она была коричневой и желтой, с карими глазами и бархатным носом и трепещущей верхней губой. Она влажно и шумно дышала, когда брала с Катиной ладошки горбушку черного хлеба. Отец подсаживал Катю, а сам шел рядом, и сверху ей было видно его голову и плечи, казавшиеся очень широкими, и висок влажно блестел, потому что лето было очень жарким – Енисей лежал под горой ленивый, сонный, важный, даже шевелиться ему, казалось, лень и гнать на берег прохладный ветер.
В этот висок, который она так ясно видела живым, с каплей жаркого летнего пота, вошла пуля, и он умер.
Зачем? Зачем?!
Катя знала – все можно исправить, пока жив. Все, все! После уже ничего не исправишь. После – только то, что осталось.
Что он наделал?
За церковной оградой хоронили отступников и самоубийц, и Катя помнила, как хоронили Машу Мурзину, которая утопилась в Енисее от «несчастных чувств», как выразился фельдшер Иван Ильич, – как раз за оградой. Странные были похороны, как будто, умерев, Маша сделала что-то неприличное. Женщины качали головами, осуждали, что ли? Мужики помалкивали, а когда гроб опустили и закидали землей, все как один затянули самокрутки – с непроницаемыми, дублеными чалдонскими лицами. И попик отец Василий что-то невнятное сказал – велел всем молиться о грешнице, умолять господа, чтобы простил и пощадил. Как он мог ее пощадить, если она уже все равно умерла?
Отец приехал и сердился на бабушку, что потащила Катю и Митю – детей «ответственного работника»! – на «непонятное мероприятие», а потом, когда проходили мимо отверженной могилки, покосился на нее и весь день был не в духе. Катя помогала ему, подлизывалась, носила в поленницу тяжелые, влажные внутри березовые полешки, а потом спросила, почему он сердитый.
«Малодушие какое! – резко сказал он. – В реку сигать! Молодая, здоровая! Да еще отец Василий ваш… пережиток прошлого! Зачем за оградой-то?!.»
Катя тогда поняла, что сердится отец из-за Маши Мурзиной, потому что та совершила что-то неприличное, а поп при чем – не поняла. И только потом, когда подросла, догадалась.
Странно, но она не помнила многого хорошего и интересного. Мама рассказывала, как платье покупали, как в Москву в первый раз ездили, как в море ее волной опрокинуло, отец кинулся и достал, перепуганную, нахлебавшуюся воды, – ничего не отзывалось, даже тенью не мелькало, а вот Маша, утопившаяся в Енисее, помнилась всегда. Как будто кто-то говорил ей, Кате, – это еще не все, готовься.
Она не готовилась, сердилась на эти воспоминания, забывала, вспоминала опять, а теперь отец застрелился – то есть поступил так же постыдно и неудобно для окружающих, как Маша Мурзина, и мама умерла.
Катя осталась одна.
Митька не в счет.
Митька был «в счет» еще три или четыре года назад, когда была надежда. Теперь не осталось никакой.
Отец тратил на него несметные деньги – его возили по врачам и клиникам, и кидались к специалистам, объявлявшим, что они наконец-то нашли способ, как бороться и победить. Гипноз, кодирование, психоанализ, генный анализ, еще какой-то высокоумный анализ. Потом бабки, заговоры, колдуны, свечки, травки, образа, лягушачья печень, пчелиный воск. Потом опять профессора и новые методики. И все сначала.
Но вот беда – методики годились лишь для тех, кто на самом деле устал от собственного скотства. Но такие и без методик бросали пить, Катя знала. На соседней улице жила семья – родители и двое детей, как и Мухины. Отец пил, конечно. Катя часто у них бывала, потому что дружила с девочкой Люсей, а мальчик все время их задирал, прямо проходу не давал. Возвращалась с работы тетя Шура, злым голосом кричала на мальчика, чтобы не смел, но он и ухом не вел. Попозже, когда темнело, приползал глава семьи, и начинался скандал, занимался как сухой лес от случайной искры, моментально, страшно, неостановимо. Катя быстренько убиралась вон, хотя любопытство, смешанное с ужасом, было очень сильным. Катя боялась чужого отвратительного дядьки и радовалась, что ее отец никогда не приползает домой на четвереньках, не сидит с бессмысленной гримасой и вывалившимся языком, в спущенных штанах, которые он начал снимать, но изнемог на полдороге, не валится спать где попало, не бьет посуду, не ревет диким голосом. Потом что-то случилось, Катя так и не узнала, что именно, только пить тот бросил в один день, как отшибло. Он стал угрюм, молчалив и мрачен, почти не разговаривал, только жадно ел, уходил в другую комнату и там смотрел телевизор – все подряд. «Папка третий месяц не пьет, – шептала Люся. – И не дерется. Злой, а не дерется. Как бы не сглазить, мамка говорит».
Не сглазили – больше он не пил никогда. И даже потом отошел, повеселел малость, а года за два до того, как Катя уехала в Питер, купил «Москвич», повез тетю Шуру «в грибы», и она усаживалась в «Москвич» страшно гордая, помолодевшая, в платочке и резиновых сапогах с кисточками – на зависть всем дворовым теткам.
Митька бросать не желал. Он все твердил, что пьет сколько хочет, чтобы «нервы не закисали», что он – не в пример всем остальным алкоголикам! – в любой момент может остановиться, ему надо только захотеть, а он ничего такого пока не хочет.
Отца в городе боялись, поэтому частенько привозили Митьку по-тихому, без скандалов, но бывало и так, что со скандалами – когда он разбивал ресторанные витрины, дрался, ночевал в отделении. Попались какие-то неподготовленные менты, а документов у него с собой отродясь никаких не было, ну они и дали ему по зубам, и сунули в обезьянник, продержали до утра, а утром уж генерал стал звонить, и ментов этих чуть под суд не отдали. Отец только в последний момент спохватился и простил.
Катя все шла. Поскальзывалась на обледенелых досках, наваленных вдоль серых заборов, бралась рукой за твердые от мороза ветки и опять шла. Куда, зачем?..
Некуда ей идти. Совсем некуда.
Какая ранняя в этом году зима. Или она просто отвыкла в своем Питере?..
К маме ее не пустили. Может, из-за этого ей все казалось, что мать жива и просто не хочет ее видеть.
«Катенька, девочка, нельзя тебе туда, – убеждал ее дядя Сережа, всегдашний папин заместитель, – пока никак нельзя. Подожди пока, девочка».
Чего ей ждать? Катя знала, что больше ей ждать нечего.
И возвращаться тоже некуда. В Питере ее никто не ждал.
Генка все похаживал куда-то, все концерты посещал, выставки, просмотры.
Это знаменитый Горчичкин, ты что, не знаешь?! Деревенщиной была, деревенщиной и осталась, дура непроходимая! Откуда ты такая взялась?! Ты что, не видишь – цвет, настроение, линии, все, все гениально!.. Смотри, смотри, дура!

