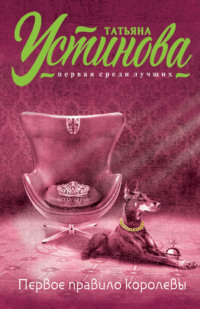
Первое правило королевы
Он показался ей очень… нормальным. Человечным. Простым. Гораздо более простым и человечным, чем ее бывший муж с его склонностью к истерии и вечным неудовольствием, – она все время чувствовала, что не угодила, что он ждет от нее чего-то большего, а она, черт возьми, опять подвела!
Кроме того, ее трудно было поразить… регалиями. Она никогда, ничего и никого не боялась, у нее получалось общаться на равных с вице-премьерами, владельцами нефтяных скважин, домов высокой моды, студентами, хоккеистами, журналистами. Она ничего не делала для этого специально – так само выходило. Потому инстинкт самосохранения и подвел ее, когда она в эфире ловко и изящно расправилась с Ястребовым – его она тоже не боялась нисколько, и ей показалось, что он озадачен этим, заинтригован, изумлен. Привык, наверное, в своих верхах к тому, что все вокруг падают замертво от одной только мысли о том, что Александр Петрович будет недоволен. Может, от изумления, а может, еще от чего-то он непозволительно расслабился, и она решила, что он… нормальный.
Ошиблась. Конечно, ошиблась.
И все же она отдала бы половину своей жизни – знать бы, сколько это! – за то, чтобы он был ни при чем.
А он забрал у нее газеты, на которых мухинские закорючки сплетались в фамилию Селиверстова.
Газеты забрал, но остался листок с фамилиями.
В кабинете у Инны всегда висела картиночка из какого-то журнала, много раз переснятая на ксероксе. На картиночке была цапля, а изо рта у нее свешивалась жаба, которая, находясь, прямо скажем, в сложном положении, тем не менее пыталась цаплю душить. Под картиночкой была надпись: «Never give up!»
«Никогда не сдавайся!» – призывала Инну полупроглоченная цаплей жаба.
– Да я и не собираюсь, – пробормотала Инна, словно оправдываясь перед жабой-оптимисткой.
Листочек так листочек. В конце концов, именно он самое ценное, потому что никакой другой информации, кроме журналистских фамилий, она в этих газетах так и не нашла.
В кабинет идти не хотелось, и она пристроилась на лестнице рядом с Джиной.
«Хоть бы рыбы дала, – с презрением и некоторой печалью сказала ей Джина. – Ну что такое, в самом деле! Приехала, ни слова не сказала, пустила в дом невесть кого! А радость общения с нами? Что тебе важнее, в конце-то концов, – мы или твои глупые дела и твои еще более глупые гости?»
– Ну, конечно, вы, – уверила Инна и погладила Джину по голове. Та увернулась – она терпеть не могла, когда ее трогали просто так, без ее согласия.
Если все дело в фамилиях – а ей ничего не оставалось, как исходить именно из этого, – значит, в них должна быть какая-то система. Что-то, что увидел Мухин и хотел, чтобы увидела она.
Что это может быть за система?
Она долго читала фамилии – на первый взгляд никакой системы не было. Тогда, вспомнив про инициалы, от которых происходило большинство псевдонимов, она решила их выписать, и побежала в кабинет, и долго копалась в ручках и швыряла их, пытаясь отыскать пишущую, нашла и стала торопливо записывать.
Инициалов оказалось много.
Петр Валеев. Юля Фефер. Дуняша Простоквашина. Михаил Пискарев – суть Маша Плещеева. Зинаида Громова. Зейнара Гулина. Захар Горячев.
Пожалуй, больше всего было букв «ЗГ», и Инна даже застонала от досады, когда сообразила, что не записала названия газет, в которых были статьи с этими инициалами. Просмотрев до конца свой листочек в дырках от шариковой ручки, она поняла, что скорее всего эти инициалы встречалисьво всех собранных Мухиным газетах.
И что это значит?
А черт его знает. Это может означать все, что угодно.
К примеру, ничего.
Она отдала бы три четверти своей жизни – тоже неплохо было бы знать, сколько это! – чтобы Ястребов Александр Петрович вообще никогда не появлялся бы на ее горизонте. Чего лучше – печалилась бы о муже, поплакивала потихоньку, устраивала бы свою карьеру, организовывала «праздник для народа»!
Инна задумчиво потерла в пальцах хрусткий листок.
С этим праздником для народа тоже все было зыбко, неопределенно и странно. Зачем Якушев вывел ее из игры? Сначала позвонил и вызвал в Белоярск, а потом спешно организовал ей совершенно дурацкое задание, глупое до невозможности? Да еще как организовал – в девять часов утра, на другой день после похорон Мухина, до отъезда московского начальства, как будто идея праздника не могла подождать денек-другой, пока не улягутся страсти!
Вот вам и Зейнара Гулина!..
Джина на верхней ступеньке повела ушами, дернула хвостом и подтянула лапы.
– Ты что? – рассеянно спросила Инна и оглянулась.
Джина настороженными желтыми глазами смотрела на нее.
– Что?..
Какой-то приглушенный шум потряс и парализовал ее, как прикосновение к виску холодного пистолетного дула, пахнущего смертью и ружейным маслом.
Шумели на крыльце, очень близко.
Ну, вот и все. Пришли ее убивать – как быстро. Она не думала, что так быстро.
Джина потянулась и стала грациозно спускаться по лестнице. Инна проводила глазами изящную спину.
Кошки останутся сиротами. Осип останется сиротой. Свекровь останется сиротой – надо было в последний приезд в Москву оставить ей кошек, как же она не догадалась!..
На крыльце затопали, а потом раздался звонок.
Инна судорожно выдохнула.
Киллер не стал бы звонить. Точно не стал бы. Он не стал бы звонить и шуметь на крыльце.
Или… стал бы?
Снова позвонили, и Джина снизу посмотрела на хозяйку вопросительно – ты что? Не слышишь? К тебе опять гости пожаловали! Не дом, право слово, а проходной двор.
Нет, киллер не стал бы звонить.
Инна скатилась с лестницы, сжимая в кулаке заветный листок, и остановилась в некотором отдалении от дверей.
– Кто там?!
– Инна Васильевна!..
Голос как будто знакомый и в то же время…
– Кто это?!
– Инна Васильевна, это Глеб Звоницкий.
Господи, какой еще Глеб?..
В следующую секунду рассудок вернулся к ней так же внезапно, как и покинул. Она бросилась к дверям и распахнула их одну за другой.
На крыльце топталось много народу, по крайней мере ей так показалось с испугу.
– Глеб?!.
– Я. Вы меня не узнали?..
Конечно, она его узнала. Как она могла его не узнать! Но за спиной у него был еще кто-то.
Огромная тень надвинулась на нее, Глеб посторонился, пропуская кого-то, и в желтом круге фонаря, раскачивающегося на своих цепях, Инна с изумлением и ужасом узнала… губернаторскую дочь.
– Что происходит?
– Инна Васильевна, я вам сейчас все…
Катя вышла из-за спины Глеба и сказала очень вежливо:
– Дело в том, что мне никак нельзя домой. Я попросила Глеба Петровича куда-нибудь меня отвезти, и он привез к вам. Я прошу прощения за беспокойство.
– Ничего-ничего, – пробормотала ошарашенная Инна и спохватилась: – Проходите, пожалуйста!..
Первой зашла Катя и остановилась, с любопытством глядя по сторонам.
– Знаете, у вас совершенно так же, как у нас, – сообщила она и тряхнула непокрытой головой, – только вот тут у нас шкафчик, а там еще одна дверь.
– Да, – согласилась Инна и за Катиной спиной вопросительно кивнула Звоницкому. Тот пожал плечами и скорчил неопределенную гримасу.
Катя нагнулась, расстегнула ботинки и стащила их один за другим.
– У вас так тепло. – Она улыбнулась. – На улице… мороз.
– Да, холодно сегодня.
Инна смотрела на ее ноги. Колготки порвались, и красный наивный большой палец торчал из черного нейлона. Губернаторская дочь ничего не замечала.
Инна пошарила на обувной полке, смутно сожалея, что у нее нет уютных меховых тапочек с собачьими мордами. Кажется, когда-то она о них уже грустила.
– Катя, наденьте. Если у вас замерзли ноги, я могу проводить вас в ванную. Вы погреетесь.
– Не нужно, спасибо, – живо отозвалась Катя. – Я бы чаю выпила.
– Ну конечно. – Инне не нравился ее тон, не нравился ее вид, не нравилось, что она вообще оказалась у нее в доме – это словно еще приближало к ней беду, и без того очень близкую!
Она ушла на кухню, поставила чайник и оглянулась, заслышав шаги.
– Глеб, откуда ты ее взял?
– Я взял ее под своим забором, – он быстро оглянулся и снова посмотрел на Инну. – Она сказала, что ушла из дома и что она не может туда вернуться потому, что ее убьют.
– Что?! – вскрикнула Инна и тоже посмотрела в коридор.
Катя где-то далеко говорила нежно:
– Киска. Хорошая киска. Красивая, умная.
– Инна Васильевна, за ней действительно кто-то шел.
– Кто шел?
– Не знаю. Я видел только, что на улице кто-то стоял, когда я выезжал. Я на всякий пожарный по городу малость покатался, прежде чем сюда приехал.
Лучше бы ты вовсе не приезжал, быстро подумала Инна.
– Она сказала, что Любовь Ивановна вчера ушла, чтобы встретиться с вами, и не вернулась. Вы об этом знаете? Ну, о том, что она хотела с вами увидеться?
О да. Инна об этом прекрасно знала.
Звоницкий беспокойно следил за ней – ему было неловко, что он втягивает Инну в проблемы, и одновременно он испытывал облегчение, потому что теперь не нужно одному отвечать за губернаторскую дочь. Когда-то он усадил ее в обкомовскую «Волгу», захлопнул дверь, налил из термоса горячего чаю и выдал огромный ломоть пирога, который сунула ему с собой Любовь Ивановна, уверенная, что «ребенок с голоду пропадает», – и все ее проблемы решились сами собой. Вернее, он, Глеб, решил их.
Все стало по-другому. Девочка выросла, погрустнела – крепкие красные сибирские щеки превратились во впалые, бледные «петербургскою бледностью». Вместо «конского хвоста» из тяжелых вьющихся волос – колечки до ушей, делавшие ее похожей на француженку, насколько Глеб Звоницкий их себе представлял. Теплый черный свитер с высоким горлом – а шейка тоненькая, с синей жилкой под самой скулой. Жилка бьется часто-часто, как у скворца.
Она показалась на пороге кухни и улыбнулась Инне.
– У вас такие замечательные кошки! Очень ласковые.
– Просто вы им понравились. Они никому не позволяют себя гладить.
– Неужели? – светским тоном вопросила Катя. – Можно я сяду?
– Ну конечно!
Она села и сложила руки на черной юбке – ученица католической школы при монастыре Святой Магдалены.
Инне было очень ее жалко – так жалко, что она строго контролировала себя и каждое свое слово.
– Катя, может, вы поедите?
– Нет-нет, спасибо.
Инна с сомнением посмотрела на Глеба, а он на нее.
Ну да. Разумеется, ее надо накормить, а как же иначе?
Инна достала из холодильника длинный зеленый огурец в целлофановой пленке, привезенный из Москвы, увесистый, солнечный, толстый стручок сладкого перца, пучок унылого укропа – зимний укроп почему-то всегда чрезвычайно уныл – и миску с мясом.
– Глеб, сядь, пожалуйста.
– Инна Васильевна, давайте лучше я вам помогу.
– Ты мне очень поможешь, если сядешь и не будешь мешать.
Он тут же сел, задвинулся спиной в самый угол. Угол был тесный, а Глеб очень большой.
Катя открыла брошенный на столе журнал «Деньги» и стала рассматривать фотографию главного редактора.
Она рассматривала редактора, а Инна – ее.
– Очень симпатичный, – оценила Катя. – И вообще хороший журнал. Знаете, это всегда заметно, когда работают профессионалы. В «Коммерсанте» работают профессионалы.
Инна Селиверстова не ожидала ничего подобного от Кати Мухиной.
Выходит, ошиблась?
Выходит, неправильно оценила губернаторскую дочь?!
Осторожней, пропищал инстинкт самосохранения. Не горячись и перестань убиваться над ней, ты же ничего толком не знаешь!..
Инна шлепнула на раскалившееся сковородочное дно толстый кусок розового мяса – сразу вкусно и остро запахло едой. Катя потянула носом и улыбнулась. Нагнулась и стала гладить Джину, тершуюся о ее ноги. Инна посмотрела на Джину с изумлением – кошка никогда не позволяла себе тереться ни о чьи ноги. Она была слишком независима для этого.
– Катя, когда вы ушли из дому?
Та разогнулась и посмотрела на Инну – почти безмятежно.
Играет? Притворяется? Или в самом деле не в себе?
Инна была уверена, что в отличие от Глеба с его мужскими глазами, которые видят только то, что им показывают, она-то наверняка сумеет распознать игру.
– Я точно не знаю. Давно, наверное.
– Было светло?
Она подумала секунду:
– Д-да.
Джина подумала-подумала, поставила лапы на черную юбку и мягкой неслышной молнией вознеслась к Кате на колени. Катя рассеянно погладила ее по голове.
– Вы… расскажите, что ваша мама хотела увидеться с Инной Васильевной, – подал голос Глеб. – Помните, вы мне говорили?
– Мама зачем-то хотела вас видеть, – послушно повторила Катя, поглаживая Джину. – И вчера тоже. Она меня попросила, чтобы я вам сказала…
– Катя, – перебила ее Инна. Глеб не должен знать о том, что вчера она встречалась с вдовой. – Вы не знаете, зачем я была ей нужна?
– Не знаю, – задумчиво протянула губернаторская дочь. – Кажется, из-за папы. Она все говорила про преступление и наказание. Это роман. Вы читали?
Инна опять посмотрела на Глеба. Преступление и наказание?! Какое еще преступление?..
– Я читала, – продолжала Катя. – Мне не очень понравилось, я вообще не люблю Достоевского. Не понимаю. Он слишком великий.
– Катя, подождите. Что за преступление? Что за наказание?
– Так вкусно пахнет. Я, оказывается, очень хочу есть.
Нет, Инна не могла определить, играет она или нет. Пока не могла.
Глеб все жался в своем углу.
Инна давно его знала – с тех пор как он однажды помог ей проверить искренность и честность намерений одного «большого бизнесмена», пожелавшего профинансировать крупный телевизионный проект. Инна тогда наотрез отказалась подписывать какие бы то ни было соглашения без надлежащей проверки.
«Да пойми ты, – кричал тогдашний телевизионный председатель. – Он ведь не у нас просит. Он нам сам дает! Это такие деньжищи, а мы их упустим! Что ты из мухи делаешь слона?! Это ведь не политика, это примитивная экономика!»
«Милый мой, – нежно и неоскорбительно отвечала Инна председателю. – Экономика – это все, что до миллиона рублей. Все, что после миллиона, – политика. Так что, пока не проверим, денег я у него не возьму».
Проверял благонадежность Глеб Звоницкий, бывший мухинский охранник, и проверил до самого дна. После чего телевизионный председатель на полдня закрылся в кабинете с Инной и результатами проверки и, когда вышел в приемную, был бледен. Приказал секретарше с «большим бизнесменом» не соединять его больше никогда, отправил помощника в МТС за новым мобильным телефоном и домой поехал не на своем «Мерседесе», а на дребезжащей служебной «Волге» – из соображений конспирации. Глеб тогда рекомендовал Инне проверенных ребят «на случай чего» и сам несколько раз сопровождал ее на сложные переговоры с другими «большими бизнесменами».
Он был чуточку в нее влюблен – все окружающие мужчины, независимо от ранга, возраста, семейного и служебного положения, были чуточку в нее влюблены, ровно настолько, насколько требуется, чтобы не потерять интерес к совместной работе.
Джина на коленях у губернаторской дочери щурила глаза, привалившись пушистой щечкой к черному свитеру. Инна посмотрела на нее сердито – ревновала.
– Вы очень вкусно готовите, – сообщила Катя и благонравно пристроила вилку на пустую тарелку, и нож пристроила – он не удержался, поехал и громыхнулся на пол. Глеб рванулся и поднял.
– Сейчас кто-то придет, – сказала Катя. – Мужчина, наверное, раз нож упал.
Один мужчина только что ушел. Вряд ли он вернется, по крайней мере, сегодня.
– Катя, о каком преступлении шла речь?
– Преступлении?
– Вы только что сказали, что ваша мама говорила о преступлении и наказании.
– Это роман Достоевского.
– Я знаю, – мягко объяснила Инна, – ваша мама говорила о романе?
– Нет. – Катя как будто удивилась. – Когда я прилетела на папины похороны, она мне сказала, что не бывает преступлений без наказаний. Она думала, что они уже расплатились, а оказалось, что нет.
– С кем расплатились? – Это Глеб Звоницкий влез. Катя посмотрела на него и пожала плечами.
– Но речь шла о деньгах? – насторожившись, как рысь на охоте, спросила Инна.
– По-моему, нет, – подумав немного, ответила Катя. – Знаете, в том смысле, что расплата за грехи.
– А что это за… грехи?
– У них нет никаких грехов! – вдруг резко заявила губернаторская дочь и выпрямилась. Джина у нее на коленях вздрогнула и подняла голову. – Какие у них грехи! Они даже умерли… почти в один день!
Они не умерли, подумала Инна. Их убили.
– Господи, сейчас все начнут искать эти грехи и мусолить нашу жизнь! – Катя раздула ноздри. Глеб Звоницкий смотрел на нее с изумлением. До этой секунды она была «бедной овечкой», он не подозревал о том, что у нее могут быть какие-то сильные эмоции. – Конечно, папа всю жизнь занимал большие должности, таким краем руководил, а потом застрелился! Сейчас все скажут, что он взятки брал миллионные или конкурентов убивал! Или что мама его убила, как жена того генерала… господи, как же его фамилия!.. Я ничего этого не хочу слушать. Вы поняли?! Не хочу!
– Кать, – тихо произнесла Инна. Ей было очень жалко ее, почти до слез, и она знала, что ничем не сможет ей помочь – никто не сможет. – Кать, вам придется… это как-то принять, не знаю. Конечно, сейчас будет много грязи, и ваши родители…
– Мои родители были самыми лучшими на свете, – отчеканила Катя. – Вам ясно?
Джина спрыгнула с ее колен, отошла и оглянулась с неудовольствием.
– Ваш отец оставил мне бумаги, – сказала Инна ровным голосом. – Я их не получила. Мне обязательно нужно выяснить, что это за бумаги и почему он оставил их именно мне. Вы должны помочь мне, Катя.
– Бумаги, – пробормотала губернаторская дочь, – ну да, бумаги. Мама говорила про бумаги. Мама вчера хотела их вам отдать. Помните, на… поминках, когда я к вам подошла?
Инне было уже все равно, слышит Глеб или нет. Она никогда ничего не боялась и сейчас не станет бояться.
– Они были у вас на даче?
– Не знаю.
– Любовь Ивановна на встречу со мной поехала прямо с дачи?
– Нет. Мы вернулись в город. Там остались убираться, а мы вернулись на городскую квартиру. Мы Митьку хотели дождаться, а потом поняли, что не дождемся.
– Он был… сильно пьян?
Катя скривилась:
– Как обычно. И мама не поехала. Пешком пошла. Водитель куда-то подевался, сразу после кладбища. Мама сказала, что так теперь будет всегда, потому что никому мы не нужны.
Это точно, подумала Инна. Никому вы теперь не нужны.
– А бумаг этих я не видела.
– Инна Васильевна, – осторожно спросил Глеб Звоницкий, – о чем вы говорите? Какие бумаги?
– Я сама не знаю, – призналась Инна. – И больше ваша мама точно не говорила ни про преступление, ни про наказание, да?
Катя покачала головой и с досадой заправила за ухо выбившуюся прядь.
– Она сказала, что мы и так достаточно наказаны. Я думаю, это она про Митьку. И еще спросила, помню ли я Машу Мурзину. Я сказала, что помню.
– Кто такая Маша Мурзина?
– Она утопилась, – объяснила Катя. – Давно, лет двадцать назад. Папа сердился, что отец Василий велел ее за оградой похоронить, знаете, как самоубийц хоронят.
У Инны что-то похолодело в голове, под самыми волосами.
Господи, какие странные, немыслимые петли. Двадцать лет назад Мухин сердился, что самоубийцу Машу похоронили за оградой. Вчера похоронили его самого – в ограде, все как полагается и даже «с почестями», – но тоже «как самоубийцу».
Инна налила в чайник воды из канистры. Это была особая вода, Осип ездил за ней далеко. Из Енисея вырезали кусок, белый ледяной кубик, заворачивали в брезент и привозили в город. Инне казалось, что это самая лучшая вода на свете, куда там «Эвиану» с «Виттелем»!
– Катя, а почему Любовь Ивановна вспомнила про… Машу? Вы не знаете?
Катя покачала головой – нет, не знает.
– Ну, хоть о чем вы говорили в тот момент?
Катя еще немного подумала.
– О том, что бог троицу любит, и о том, что наказаны все трое. А вот теперь и отец.
– Кто – трое? Какие трое?
Катя покачала головой.
– А от меня муж ушел, – сказала она внезапно. – Давно, еще летом. Мама меня утешала, говорила, что он побегает и вернется. Но он не вернется, я знаю. У него теперь Илона, художница. Ей надо рисовать, а Генке нужна моя квартира. Для Илоны.
Инна всегда соображала очень быстро.
– Квартира принадлежит вашему отцу?
– Ну, конечно. А теперь мне.
– Вам, – повторила Инна.
Пришел Тоник, сел рядом с Джиной и зевнул во всю пасть. Глеб Звоницкий посмотрел на Инну.
– А это мальчик или девочка? – спросила Катя про Тоника.
– Это он. Тоник.
– А куда вы деваете котят?
– У них не бывает котят. Мне пришлось сделать им операции. – Инна словно оправдывалась. – Я везде вожу их с собой, с котятами я бы не справилась.
– Жаль, – сказала Катя. – Я бы взяла котенка.
– Ваш муж был на похоронах?
– Нет, он только сегодня прилетел. Наверное, узнал, что мама умерла.
Инна достала с полки три кружки – из одной недавно пил Ястребов Александр Петрович – и поставила на стол. Потом подумала и переставила: ту, из которой он пил, взяла себе.
– Во сколько московский рейс прибывает? – спросила она у Глеба.
– Московский – вечером. А… ваш муж разве из Москвы летел?
– Не-ет, – удивилась Катя, – из Питера.
– Питерский прилетает часов в одиннадцать с копейками. Сообщили о смерти часа в три дня. Он не мог знать, что… умерла ваша мама. Он в это время летел, – сказал Глеб.
Катя пожала плечами:
– Может быть, и не знал.
– Значит, на похороны отца он не прилетел, а на следующий день прилетел, – подытожила Инна. – И он хочет получить вашу квартиру. А как его зовут?
– Генка.
– А фамилия?
– Зосимов. Я тоже Зосимова, а не Мухина.
Она помешала ложкой чай, подула на него и сказала решительно:
– Я домой все равно не пойду. Мне бы только с Митькой повидаться, а потом я уеду. Может, и его уговорю. Или… нет?
– Что?
– Уехать. Нашли бы ему в Питере работу. Мама все мечтала.
Инна очень Кате сочувствовала, и это сочувствие размягчало, разъедало ее решимость. Приходилось снова восстанавливать ее, вылепливать, как из мягкого пластилина, а это неправильно, ибо решимость должна быть твердой, железной, непреклонной, чтобы на нее можно было опираться, ею размахивать, как боевой секирой, чтобы только воздух посвистывал вокруг.
– Ах нет! – вдруг сказала Катя тоном что-то внезапно вспомнившего человека. – Я никак не могу уехать. И Митя не может уехать. Нам нужно маму похоронить. Мама умерла.
Лицо у нее вдруг стало сосредоточенным, даже ожесточенным, а потом набухло, как грозовая туча. Губы повело в сторону, и в глазах отразилась вся тоска, которая только есть на свете.
Катя взяла себя за щеки, наклонилась вперед и отчаянно зарыдала как-то очень по-детски. В детстве кажется, что слезы – это некий волшебный эликсир, вот поплачешь, и все пройдет, просто так пройдет, от слез.
Глеб Звоницкий сердито посмотрел на Инну. Ему жаль было Катю и очень хотелось ей помочь, и его сердило, что помочь ей он ничем не может.
Инна покачала головой.
Никто не может помочь.
Катя долго рыдала, а потом начала всхлипывать и подвывать, судорожно и коротко дыша.
Инна вылила в стаканчик полпузырька валокордина, почти силой заставила ее выпить и отвела на диван в кабинет.
Больше она ничего не могла сделать для губернаторской дочери – только уложить, накрыть, устроить, погасить свет.
Пришла Джина, села в дверях.
– Вот такие дела, – негромко сказала ей Инна. – Какие-то ужасные дела.
Джина согласилась. Дела и с ее точки зрения были ужасны. Весь вечер в доме чужие люди, никакого покоя, уединения и неторопливого общения. Кроме того, Джина не любила сильных эмоций, потому что, подобно рыцарю Джедаю, чувствовала колебание «великой силы». Эмоции должны быть в равновесии, или они выйдут из-под контроля, и «великая сила» захлестнет того, кто вызвал ее колебание. Странно, что люди этого не чувствуют.
Джина осторожно и грациозно забралась на диван, где мертвым сном спала под двумя одеялами измученная губернаторская дочь, осмотрелась, где бы лечь, и устроилась у нее в ногах.
Инна вышла и тихонько прикрыла за собой дверь.
Глеб Звоницкий на кухне пил кофе. Коричневая и золотистая банка стояла перед ним на столе, а из банки торчала большая ложка, как в казарме.
– Что-то ничего не понял я, – мрачно сказал он, едва Инна вошла. – Или она не в себе? Умом тронулась?
– У нее беда. Я бы тоже от такой беды тронулась.
Глеб посмотрел на нее с сомнением, словно не верил, что Инна может «тронуться».
– Инна Васильевна, вы простите меня, что я ее к вам… Некуда больше было. Ну, не повезу же я ее к… Марату или Коляну! Ну, и она про вас сказала сразу, что мать, мол, хотела вас видеть.

