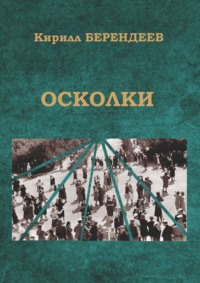
Осколки
Надо вернуться к винтовке – первое, что приходит в голову. Надо пережать рану, вторая мысль. Кровь все течет, руки слабеют, морозом сковало пальцы, я не могу согнуть их, чтобы добраться до кармана с аптечкой. Там должен быть жгут и бинты. Я шарю, но никак не могу нащупать.
А снаружи меня ждет человек, жаждущий отмстить за гибель товарищей. Время прошло, он уже отошел от первого шока и теперь, возможно, подбирается к сараю, не спеша, осторожно, не высовываясь под выстрел, подбирается, обходя меня с тылу. На нем кровь его друга, без всяких аллегорий, и эта кровь взывает к нему.
И отвечая ей, он медленно обползает мое укрытие.
Жгут вываливается, я неловко хватаю его и старательно поднимаю ногу. В глазах вновь чернота, на какое-то мгновение – или несколько минут, я теряю нить времени, – провал, а затем в сарае снова включается солнце, тускло освещая чердак. Я с удивлением гляжу на ногу – жгут на месте, осталось только затянуть его.
И чья-то рука медленно поднимаясь к бедру, собирается затягивать. Я вздрагиваю, поднимая глаза.
– Жив, курилка, – хриплый голос капитана невозможно спутать ни с каким другим. Значит, услышали, значит, пришли на помощь. Я пытаюсь говорить, ком в горле мешает моим словам.
– Там один… внизу, обходит.
– Только один? Значит, трое. Все, Борис, возвращайся, больше никого, – капитан, не поднимая головы, и не повышая голоса, обращается вниз в чердачный люк. А затем, размеренными движениями, затягивает жгут, а, когда я снова прихожу в себя, меня уже вытаскивают по лестнице с чердака: двое, тот самый Борис Иваньков и сам капитан.
– Идти можешь? Обопрись, – это уже Борис.
– Винтовка?
– У тебя на плече…. Кость не задета. Повезло тебе, парень. Ну что же, как говорят у нас, с потерей пацифистской девственности.
Никто не смеется капитанской шутке. Он и сам произносит ее со странным привкусом горечи на губах. И добавляет:
– Теперь ты один из нас. – И что-то про кровь, я не разбираю слов, снова погружаясь в туман.
Опираясь на плечи Бориса и Артема, своих боевых товарищей, я медленно ковыляю по заветной тропке прочь от сарая. Спереди маячит спина капитана, наискось ее пересекает старый карабин с двумя зарубками. Я не хочу спрашивать, сколько стоит одна зарубка – десять человек или больше. И кого именно имеют зарубки в виду, таких, как я или таких, как тот лейтенант.
Капитан посматривает на часы. До конца действия нашего «окна» на рубеже остается немного времени – солнце уже заходит. А еще идти и идти. Капитану не хочется меня торопить, но он вынужден сделать это. Маленький отряд растянулся в пути, позади нас, поминутно обертываясь, идет младший лейтенант Берзин. Оглянувшись на Берзина, я снова смотрю вперед. На одном из крутых виражей – уже подле разлившейся реки – лишний раз убеждаюсь в том, что мы возвращаемся в полном составе. Почему-то это меня волнует сейчас больше всего.
Глава седьмая
Пауза затянулась. Я никак не мог подобрать нужных слов, такое со мной случалось, конечно, но крайне редко, это был один из таких случаев. Смотрел на своего собеседника, ожидая продолжения. Через какое-то время, показавшееся мне вечностью, молодой человек объяснился.
– Ну, это не Великая отечественная. Локальный конфликт из-за межевого камня. В истории этого мира не первый случай, когда обе стороны выясняют отношения, что-то вроде спорных Эльзаса и Лотарингии. Да и мой герой получил повестку не на сам фронт, а на прохождение курса молодого бойца в прифронтовой зоне, на несколько месяцев, там он получит аттестацию, звание сержанта. У него нет работы, наверное поэтому пригласили подучиться военному ремеслу. Такое практикуется. У нас профессиональная армия, – с чуть заметной гордецой произнес он, даже не заметив, к кому относилось это его «у нас».
– Тем не менее, фронт будет с вами рядом, по всей видимости, вы его если не увидите, так услышите. Как далеко он от Свияты в настоящий момент?
– Мы глубокий тыл, – снова это «мы». Да и я хорош, тоже начал идентифицировать Павла с его героем. Надо внимательнее. – Километров триста только до сборного пункта. Шесть часов езды поездом. Обещают литерный.
– Это понятно, война все же. Давно она началась.
– Да, – без колебания произнес молодой человек. – Уже как год по местному времени. Видите ли, Алексей Никитич, скорость течения времени в моем мире, – он уже окончательно перестал говорить слово «сон», – и в нашем сильно разнятся, я даже не знаю, насколько. Раза в два, как самая малость. А может, это зависит от моего пребывания, чем оно дольше, тем больше проходит компенсированного времени между снами….
– Любопытная у вас теория.
– Но я же должен чем-то объяснить такое расхождение. За время моего пребывания….
– Знаете, Павел, давайте уговоримся называть все же этот мир сном, – спешно произнес я. Он кивнул.
– Пускай, суть дела не меняет, – о, как он ошибается! Если бы только знал. – Пока я видел во сне город, там прошло более двух лет. Пока я нахожусь в теле этого парня, там прошло больше года, полгода мы встречаемся с девушкой, и почти год длится эта неприметная война. А за время, пока длится война, у нас, в нашем мире закончилась осень, и наступил Новый год. Я урывками вижусь с девушкой, но отношения продвигаются очень неспешно. У них все неспешно. Даже военные действия. Сама война, в ней принимают участие только приграничные части, мотострелковые, ВДВ, и так далее, то есть, профессионалы, о мобилизации речи не идет. Пока их только усиленно готовят, на волне ура-патриотизма, охватившего страну, но я не думаю…. Не могу ручаться, но прежние конфликты так и решались – на границе. Правда, один раз мы чуть не взяли столицу, в прошлой войне.
– Хорошо, тогда вкратце расскажите о противоборствующей державе.
– Да, конечно. Это страна, меньше нашей по размерам раза в три-четыре, расположена на восточной окраине их континента. Язык и культура, видимо, произошли от одного корня, так что я хоть и с трудом, но понимаю разговор красно-белых…
– Кого?
– Так у нас называют соседей. По цвету флага. Да, язык, пожалуй, тоже напоминает польский. Хотя использует кириллицу. Имена… пожалуй тоже из тех мест. Вот например…
Он мог бы говорить долго, но, послушав еще четверть часа историю взаимоотношений его призрачной державы с красно-белыми, я решил, что на сегодня хватит. Одним визитом мы не ограничимся, так что порассказать времени у Павла будет. А я захвачу диктофон.
– А ваш герой – он как относится к войне?
– Примерно, так же как и я: не пацифист, но считает, что это никому не нужная бойня. Впрочем, он мало интересуется политикой, сами понимаете, какие у него интересы.
– Понимаю, – против воли я улыбнулся. – Какая тут война.
– Да, – серьезно ответил Павел. – Я с ним совершенно согласен. Он не хочет расставаться с девушкой. И я тоже не имею желания терять ее. Пускай на эти месяцы, которые для меня – скорее всего, недели две.
– Однако, он не отказался от призыва. Не мог или не захотел?
– Понимаете…. – Павел задумчиво поднял взгляд. – Это покажется нам странным, но у них свое представление о военной службе. Она почетна, престижна… не то, что у нас. Если тебя приглашают, а именно так записано в формуляре, приглашают на сборы, это твой внутренний долг. Ему не откажешь. Даже из-за девушки. Наверное, из-за нее тоже. Ведь это повышает уровень. Прошедший курсы, это не просто штатский. Ну вы помните, как у нас было прежде, при Союзе.
Невольно я нахмурился. Павел взглянул на меня и замолчал.
– Вам она тоже нравится. Знаете, друг мой, я не могу назвать это очень хорошим выбором.
– Знаете, доктор, – в тон ответил Павел, – я тоже не могу. Но выбор-то у меня очень невелик.
– Вы сейчас о герое или о себе?
– Мне тоже нравится эта девушка, она отвечает мне взаимностью, тому мне, который замещает мое убожество в снах. Здесь, сами понимаете, свою половину едва ли найти.
– Как сказать.
– Так и скажите, доктор. Я уже обжигался не раз, знаю. Все мои друзья только в виде списка адресной книги электронной почты. Да, по окончании школы, обо мне никто не вспомнил, – ни те, кто списывал у меня на протяжении одиннадцати лет, ни те, кто изволил приглашать меня в гости, до кучи, что называется.
– Вы слишком сгущаете краски, Павел.
– Я рисую! Просто рисую вам свой портрет. Сестра, наверно, уже успела познакомить вас с ним, но я дополню, – он сделал паузу, ожидая возражения, но я молчал. Молодой человек продолжил:
– Наверно, познакомила. Я не против, пускай. Тем более, мой рассказ не будет сильно отличаться. Моя болезнь, – он ткнул плохо сгибающимися пальцами в почти недвижную правую ногу, – родом из матери. Она алкоголичка. Мы с Леной так и произошли – по пьяной лавочке. Откуда я знаю, кто был моим отцом, мало ли кто мог быть! Приятели приятелей, случайные люди, забредшие на огонек, да оставшиеся на ночь. Приглашения не требовалось, требовалась бутылка и закусон – все! Лена лучше меня знает, что за пьянки устраивались в дни оны, пока мать не хватил первый удар. Она стала потише, но от любви к мужикам ее избавила только могила. В мои десять лет она, наконец, отбросила коньки. Лена, по понятным причинам, не могла закончить ничего, кроме школы – надо было не только меня кормить. Мать не работала, кажется, подворовывала на рынках и от Лены только требовала. Так что в жизни сестре пришлось здорово потолкаться локтями, чтобы чего-то добиться. – Он замолчал, переводя дух.
– А что же врачи? – спросил я.
– Врачи деньги стоят, – Павел немного успокоился. – И чем дальше, тем больше. Денег у нас никогда не было, только последнее время появились, как Лена оказалась на этой работе. И то, ей приходится много тратить на шмотки. Она работает в одной дизайнерской конторе, комфорт и стиль ваших квартир и офисных помещений, – вспомнил он слоган, отскочивший как от зубов. – И каждый день, это обязанность согласно контракту, надо менять фасон одежды. Иначе – вычет. Но даже этих денег хватит на нас двоих и на квартплату останется, вот только…. Поймите и меня правильно. Лена заботится обо мне, как может, но я…. Я не могу висеть на шее у сестры. Стараюсь заработать что-то самостоятельно. Все, что на мне – я заработал сам, принципиально.
Я кивнул.
– Охотно понимаю, сам был такой, – вот только, как я понимаю, дело не столько в сестринской заботе, сколько, в настойчивости предложения с ее стороны. А заработать Павел может не ахти сколько, это понятно. – И чем вы занимаетесь?
– Финансы, – он усмехнулся, – по мне видны. Пенсия по инвалидности полторы тысячи. На работу не берут, потому как потом нельзя уволить. В вуз я не поступил, мне это тяжело. Особенно сейчас… мне до всего добираться тяжело. Вроде и посыпают чем, а потом, когда шлепнешься, непременно что-то треснет. Заживает тяжело, – иммунодефицит, зараза. Тоже от матушки, – последнее слово он произнес как ругательство. – Я работаю дома. Пишу рефераты, дипломы, набиваю сочинения разных графоманов с листа или кассеты, по пятнадцать рублей за страницу, это считается дешево. Сейчас, когда сессия ушла, каникулы начались, – затишье, а так выходило тысячи три – четыре на круг. Ну да графоманы в нашей стране не переводятся.
– А сестра? Я хотел спросить, она вам девушку не подбирала? Ведь в вашем возрасте без первой любви…
– Я понимаю, аномалия. Ну, да она же не сводня. Рада бы, но… – он резко замолчал. Значит, речь шла об обратном.
– А среди ваших друзей по переписке, девушки есть?
– Вроде да… – он заколебался, прежде чем ответить.
– То есть?
– Алексей Никитич, вы ни разу не общались в форуме с человеком под псевдонимом «Саншайн» или «Дарксайд», «Лицо с обложки» или просто «Вот-вот»? Как вы думаете, какого они пола?
– А разве это не обговаривается?
– Если человек не хочет, то нет.
– Подождите, Павел, но как с ним беседы вести. Ведь род надо знать.
– Можно обращаться на «вы» в настоящем времени. «Вы, Дарксайд писали, что я предлагаю невозможное»… кстати, Дарксайд это я, – неожиданно добавил он. – Для тех, кто со мной говорит в форуме, этого достаточно. Если кто-то хочет узнать меня получше, напишет письмо.
– И часто такое случается? – Он вздохнул. – Значит, именно поэтому вы ищете не здесь, а там.
– Я пробовал. Честное слово, я пробовал! Прежде чем понял, что…
И снова тишина.
– Это не выход, – твердо сказал я.
– Просто у вас нет Интернета. Нет знакомых, с которыми можно общаться, не прибегая к понятиям пола и возраста. И нет таких снов. Интересно, – произнес он уже для себя, – я стал видеть странные сны после того, как вышел в Сеть. Может быть, это как-то связано между собой.
– Скорее всего, связано. Это на вас так новый мир подействовал. Открытая дверь, в которую можно войти, за которой можно найти практически все, что угодно,… а можно и закрыть за собой.
Он молчал. Гнойник, прежде тщательно оберегаемый им от чужих глаз, наконец, прорвался. И теперь насущной необходимостью стало лечение открывшейся раны. Главное, чтобы Павел сам поспособствовал ему. Пускай он будет приходить хотя бы пару недель, тогда, вместе, мы найдем ответы на все вопросы, и сумеем, выйти и в наш мир, от которого моего собеседника ныне отгораживает невидное глазу искусственное образование, являющее себя лишь по ночам.
Отказываться от соблазнов этих двух миров вдвойне тяжело. Но надо, необходимо пробовать.
Наверное, именно с этого я и начал свой путь – в это кресло, человека, не на словах, не из учебников и пособий знающего, что такое мир одиночества. Я тоже начинал романтиком, видящим голубые города, и верящим только в них и только им. И мне так же тяжело было отринуть их прочь, расстаться навеки. Ведь я отбрасывал часть себя.
Но только ту часть, что разросшись без всякой меры, стала раковой опухолью моей души. И со временем, постепенно, голубые города исчезли, я освободился от назойливого их присутствия. Мне кажется, не будь их, едва ли я когда-нибудь оказался на этом кресле. Я был бы кем-то другим, занимался бы чем-то для себя важным, но того искреннего желания, помочь освободиться от раковой опухоли кому-то еще, попросту не было бы.
– Закрыть за собой… – медленно произнес он. – Да, это просто.
Молодой человек снова замолчал, оглядывая комнату. Стеллажи с книгами, герань и фикусы на окнах, пустой журнальный столик, выцветший бурый ковер с рисунком олимпийского мишки.
– Но я хочу другого. Понимаете, Алексей Никитич, мне не хочется терять эти сны. Этот мир. Мне хочется обрести и здесь, и там покой. Хочется, чтобы герой мой мог бы снова вернуться к девушке. Хочется прикоснуться к их счастью – раз своего не получается. Хочется просто смотреть за жизнью, которая нравится мне, пускай в качестве безмолвного, беспомощного наблюдателя – мне этого хватает.
– Вы неправы, Павел, – спокойно ответствовал я. – Послушайте меня. Беспомощным наблюдателем в своих снах быть невозможно. Ведь, что бы ни говорили вы, как ни выгораживали своего героя, по сути, он лишь ваша проекция на мир, созданный, да умело, безусловно, впечатляюще, но вашим же воображением, – Павел хотел что-то сказать, но я поднял руку. – Не перебивайте, прошу вас. Вы создали мир, мы все создаем миры, во сне или наяву. Но только одни миры не требуют границ, для других насущно необходимой является преграда для всей прочей вселенной. Ваш сон – именно того порядка. В несходстве с явью его великая сила и великая же слабость. Скажите, только откровенно, что вы будете делать, если сон этот уйдет от вас. Просто прекратится, не сегодня и не завтра, когда еще его можно потерять, не сильно опечалившись, но в тот момент, когда главный герой обвенчается с девушкой, отпразднует свое счастье и останется с ней наедине. И вот тогда, в эту минуту, кончится сон, и более не вернется. Что тогда делать вам, оставленному на пороге?
Павел, нахмурившись, слушал меня, даже не пытаясь прервать. Когда он ответил, мне показалось, его слова были заготовленными ранее. Вероятно, для самого же себя.
– Счастье это лишь миг, Алексей Никитич. Я счастлив несоизмеримо дольше. Разве не грешно всякий раз желать большего, уже имея синицу в руках, – и замолчал, ожидая ответа. Уголки губ тронула улыбка уверенного в своих словах человека.
– Вы желаете, – немедленно ответствовал я. – Иначе вам не снились бы этот город и этот человек. Вы ведь просите меня помочь ему. Но я прежде спрашиваю себя, кто тот герой, кому вы жаждете оказать услугу.
– Научив меня помощи ему, вы поможете и мне.
– Я хочу помочь вам, именно вам, цельному человеку, а не его частям. Поймите, вы не столь пассивны в своих снах, как кажется, да это и невозможно. Человек переносит в сон все, что сопровождает его в яви, всю жизнь свою. Порой так, что невозможно понять, где заканчивается тревога за будущее и воспоминания о счастливом прошлом. Поэтому я говорю: вы и есть полновластный хозяин этого сна, вы со всеми своими надеждами и тревогами. Вне вас нет ни Свияты, ни других государств, все то, что происходит в этом городе, с людьми, столь уже хорошо знакомыми вам или пока еще плохо, все это – вы сами. Вы зрите собственную вселенную – и не верите явленной вам картине. Редко кто видит один и тот же сон столь часто, в таких подробностях, редко кто столь настойчиво возвращается к нему. Но всякий человек, уверяю вас, не аморфный зритель сновидений, он способен вмешиваться в их ход, предотвращать или создавать, отличное от заранее заготовленного видения. Вы подсознательно вторгаетесь в мир Свияты, тем бестелесным и безмолвным духом, коим были и раньше, но теперь, обладая выбранным вами по нужным лекалам героем, не замечаете этого, – и не давая ему ответить, продолжил: – Скажите, Павел, вам снятся кошмары?
Он посмотрел на меня несколько недоуменно. Затем кивнул.
– И какие же?
– В основном, бытового характера. Я выхожу и падаю на внезапно ставшей скользкой улице, а знакомые не обращают на меня внимания, я выхожу из дому без брюк, в одних трусах или вообще…. Я не могу напечатать лист, потому как перестаю разбирать почерк. Я… да много чего.
– И вы боретесь с ними?
– Как? Я просыпаюсь, а потом засыпаю снова.
– Нет. Я имею в виду, вы убеждаете себя, что виденное всего лишь сон, что абсурдно бояться того, чего быть не может?
– Но это же очевидно.
– В таком случае вам остается сделать второй шаг. Убедить себя в этом непосредственно во сне.
– Я… а это возможно?
– Это легко.
Некоторое время он молчал. Мои слова: прежние и нынешние, я видел, – сильно взволновали его. Он хотел ответить, – и не мог возразить. Не мог подобрать нужных аргументов, потому как внезапно ощутил их отсутствие, сильных, весомых аргументов, на которые прежде столь легко опирался, с которым приходилось считаться и самому и окружающим. Мир рассыпался на осколки, потерял материальность.
Наконец, он произнес:
– Признаться, мне трудно в это поверить.
– И тем не менее. Вы же поверили в ваш сонный мир, настолько, что сочли его равным….
– Это не одно и тоже, – всколыхнулся Павел.
– Да, нет, сейчас разговор пойдет именно об этом. Ведь вы постоянно, я вижу это, соотносите один мир с другим. И далеко не в пользу окружающего ныне. Вы делаете соответствующие выводы и глубже погружаетесь в сон. У снов, при всем моем к ним уважении, а признаться, я занимаюсь ими последние пятнадцать лет, нет того запаса прочности, что имеется у реальности. Ведь никогда не можешь быть уверен, даже будучи опытным сновидцем, что, он не подведет тебя, – я помолчал и добавил. – Вы создатель, и то сомневаетесь в своей силе. – Павел хмыкнул, слово резануло его слух. – Но сомневаетесь сознанием. Подсознание ваше, благополучно отправившее героя на фронт, прекрасно осведомлено обо всех ваших возможностях.
– Вы хотите сказать… – он не закончил, не посмел. Я вздохнул с некоторым облегчением. Кажется, сотрудничество найдено.
– Да. Именно. Вам предстоит ответить на брошенный вызов. И вовсе отказаться от этого сна, с чистой совестью предавшись созерцанию иных миров и картин….
Павел неопределенно пожал плечами. Это было странно для него. Впрочем, это было вообще странно. Сражаться с самим собой.
– Это еще не болезнь. Это лишь невроз. И то, что я предлагаю вам, будет лишь обузданием вашего недуга. Но тут я могу помочь лишь советами, ничем более. Коррекцией огня, говоря военным термином. Ваши сознательные фантазии вышли из-под контроля, попытавшись подчинить вас себе, навязать вам себя. А вы пока не заметили этого.
Павел кашлянул нервно, но ничего не ответил.
– Между тем, та часть вас, что осталась независимой противницей фантазий, гнушается их, более того, пытается разрушить их. Благостную иллюзию блаженства она меняет на тревожное ожидание. С той легкостью, с какой мальчишка меняет картонки диапозитивов в проекторе. Было так, стало эдак – и сразу на всю комнату.
Пауза. Павел смотрел на свои руки. Минуту или больше. И только затем задал вопрос:
– Тогда зачем мне идти против себя?
– Не против себя, но согласно с собой. Лучше контролировать себя, но не подсознательно, но на уровне рефлексов и интуиций, а путем познания причин, их пристального изучения. Я представляю, куда вас занесло и почему не вы, а именно ваше подсознание пытается освободиться от сладостного сна, добавляя ложку дегтя в дорогие сердцу виды. Оно переносит, в качестве компенсации за робкое ваше счастье, те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной жизни. Оно не хочет оставлять вас в покое. Оно привыкло к вашему повседневному неудовольствию и жаждет равновесия – и во сне и наяву.
– И потому вы предложили мне бороться?
– С собой. Странно, да? – он кивнул послушно. – Не совсем так. С тем собой, кого вы пытаетесь отринуть. Кого вы презираете в душе. Кто вам обуза, – он поежился. – С вами в том виде, что вы есть.
– А разве я… Алексей Никитич, но разве я не даю такого шанса, неважно, каким краем сознания…
– Вы отдаляетесь от себя. А вам нужен целиком и полностью вы, не человек другого мира и не проблемы другого мира, скопированные с ваших проблем. А это значит, что ошибки, комплексы и страхи надо решать здесь, а не ждать их появления там.
– И что же вы предлагаете?
Он согласился. Я мельком взглянул на время – почти два часа минуло с начала нашего разговора.
– Первое: сопротивление. Я говорил о контроле над снами, подождите, – я поднялся, подошел к шкафу. – У меня должна была быть одна книжица, которую я писал пару лет назад. Как раз о сновидчестве.
– Простите, о чем?
– Вы читали Лавкрафта? – вопросом на вопрос поинтересовался я. Сестра обмолвилась о любви Павла к произведениям мистическим. Но в ответ он лишь головой покачал. – Ладно, обойдемся другим примером. «Алисой в стране чудес» или в Зазеркалье…. Да, вот она. Не Алиса, моя книга.
Я вынул книжицу в мягкой обложке, с яркой, несколько крикливой надписью, «О сновидении и сновидцах» и совсем незаметной фамилией автора в самом низу. Протянул Павлу.
– Если хотите, могу с дарственной, – улыбаясь, я смотрел, как молодой человек изучает внушительную библиографию книги. Она занимала четыре страницы. – А если серьезно, постарайтесь представлять себя на месте Алисы. Вспомните, она, особенно во второй книге, свободно управляла своими видениями, избегая ненужных конфликтов и неприятностей и перемещаясь постепенно именно туда, куда ей так надо было с самого начала: на восьмой ряд шахматного поля. Она стала королевой, она всегда добивалась своего.
Некоторое время, пока молодой человек был занят изучением полученной в дар книги, я продолжал рассматривать соответствия меж его снами и сказкой Кэрролла. Пару раз я пошутил, он посмеялся моим шуткам, как мне показалось, в охотку. И не обратил внимания на одну простую деталь, выскочившую из нашей беседы – речь шла все-таки о литературном произведении.
Затем я заговорил о лимите времени и предстоящей встрече; на лице Павла отобразилось некоторое недоумение.
– А вы не пропишете мне… чего-нибудь? – спросил, немного смущенно, молодой человек.
– Лучше не злоупотреблять химией. Прогулка за час-два перед сном, никакого кофе или черного чая, сон в одно и тоже время, утренняя гимнастика, легкий завтрак, сытный, но нетяжелый ужин за три часа до сна это сейчас важнее. А раз речь зашла о таблетках: купите глицин, в любой аптеке без рецепта, и принимайте по три раза в день рассасывая по таблетке перед едой. Он стоит от силы двадцать рублей.
– Необременительно, – согласился Павел.
– В пачке пятьдесят таблеток, как раз курс. Это не снотворное, не успокоительное. Это то, чего не хватает вашему серому веществу. Одна из двадцати «волшебных» аминокислот, из которых создан человек. Эта отвечает за работу мозга.
– Значит, без волшебства не обошлось, – пошутил в ответ и он, и мне было приятно слышать его шутку. Мы договорились о следующей встрече, сегодня была среда, завтра-послезавтра у меня консультации в здании напротив, из-за этого понедельник оказывался забит под завязку, так что я записал его на три во вторник. Павла это вполне устроило: «Утром я работаю с графоманскими текстами, а после обеда прихожу в себя после них», – заметил он. Мы попрощались. Павел, выходя, едва не наткнулся на поднявшуюся с кресла сестру.