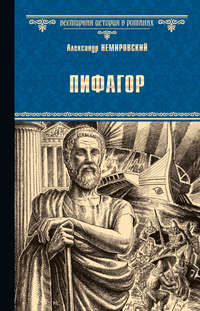
Пифагор
– В день моего возвращения на Самос спускали корабль с египетской надписью на носу, – заметил Пифагор.
– Так я отблагодарил Амасиса, отпустившего ту, что сделала нас друзьями.
– Ты имеешь в виду Родопею?
– Да, ее, новую Елену Прекрасную. Ведь она родилась на Самосе и была в девичестве рабыней Иадмона.
– Господина Эзопа?! – удивился Пифагор.
– Да, его. Иадмон отправил Родопею в Навкратис на обучение к местным гетерам. Амасис же взял ее во дворец, сделал своей наложницей и, будучи уверен, что она, им осчастливленная, пожелает кончить дни в Египте, соорудил для нее небольшую пирамиду. Но Родопею потянуло на Самос. Хочешь с ней познакомиться?
– Есть ли человек, который от этого откажется?
– Тогда посети нас завтра после полудня.
НедовольствоПифагор петлял по темным улицам, стараясь подавить гложущее чувство неудовлетворенности. Все, что он говорил о себе Поликрату, было ложью или, точнее, попыткой скрыть правду. В страхе перед нею он покинул родительский дом и отправился на чужбину, чтобы стать там человеком без рода и без имени. Открывшиеся ему уже в юности видения подчас мешали понять, кто он на самом деле – Эвфорб, Пирр или даже сын Гермеса Эталид. О первой своей жизни он даже в находивших на него припадках откровенности долгое время не мог рассказать никому, ибо что бы могли подумать, узнав, что к нему, Пифагору, среди бела дня явился Гермес и предложил на выбор любой дар, кроме бессмертия. Не мог он никому поведать о своем странном страхе перед буквами. Когда он пытался занести их на папирус, они двоились, поворачивались друг к другу так, что их можно было читать и справа налево, и слева направо, как делают финикийцы и иудеи. И странным образом из этого бреда выросла уверенность в парности как всеобщем законе бытия. Бред стал источником его знаний о космосе. Конечно, Пифагор понимал, что Эвфорб – это тоже бред, но и он натолкнул его на здравую мысль, что все сказанное Гомером о Троянской войне – злокозненная ложь, и он мог бы это доказать с помощью неопровержимых доводов.
Из-за Гомера произошла давняя ссора с отцом. Когда он, еще будучи мальчиком, поведал ему о своем открытии, отец возмутился:
– Ты еще молод, чтобы судить того, о месте рождения которого спорят семь городов.
– Это ни о чем не говорит, – возразил тогда он, – это спор из-за тени осла. В ней пытаются скрыться от слепящего света истины. О месте моего рождения спорить не будут.
– Вот в этом ты прав, – усмехнулся отец. – Ты не можешь закончить работу даже над одним-единственным перстнем. О тебе просто не вспомнят.
Именно тогда он, разобиженный, отправился на Сирос к Ферекиду.
«Конечно же Гомер выдумал свою Троянскую войну и все эти корабли, на которых ахейцы приплыли в Троаду. Но сколь великолепна эта выдумка и кому она принесла вред? А я в спорах с нею погубил мать, я-то ведь знаю, что она ушла в Аид с горя. Глупое упрямство!»
Раздражение собой вскоре перенеслось на недавнего собеседника. «Отец прав. Есть в этом человеке что-то отталкивающее. И откуда эта непроницаемая броня, которой он себя окружил? Зачем он меня пригласил? Кто я для него? Одна из диковин, которой он хочет украсить свой дворец? И почему я принял его приглашение встретиться с Родопеей? А о Ферекиде я ему хорошо сказал. Надо обязательно навестить старика. Интересно, что он думает о Поликрате? А ведь Ферекида не раздражали мои нападки на Гомера. Он, кажется, понимал, что в споре с тенями я обогащаюсь. Да и впрямь спор с Гомером, никогда не покидавшим Ионии, позволил мне открыть для себя Финикию, Вавилон, Индию и понять, насколько превратно судят о мире те, кого считают семью мудрецами. Кто они, эти великие мужи, принесшие свою жизнь на алтарь ясности и изрекающие темные истины наподобие пифии? Не пытаются ли они, подобно персидским магам, заговорить самих себя от пугающей сумятицы мира?»
В триклинииВовсе не то вы мыслите Эросом —Эрос ваш мучает, жжет и томит.Мой же – нас всех возвышает над серостью,Право дает называться людьми.Низкий прямоугольный стол, застеленный белой материей, блистал золотой и чеканной серебряной посудой, украшениями из гиперборейского янтаря. На ложах возлежали трое. Поликрат опаздывал. Но вот пахнуло восточными благовониями. В зал во всем блеске красоты вступила Родопея. Совершенные формы просвечивали сквозь полупрозрачный пеплос, заколотый на плече пряжкой из Электра. На груди поблескивало золотое украшение. Поликрат шел сзади с кифарой в руках.
– Друзья мои, – начал Поликрат, – в такие вечера, когда самая жизнерадостная из муз Талия призывает к дружескому застолью, мы обыкновенно выбираем симпосиарха[27]. Сегодня же я привел к вам царицу пира и его награду. Готовы ли вы подчиниться воле моей гостьи?
– Готовы! Готовы! – послышались голоса.
Поликрат и Родопея заняли свои места. Тиран протянул ей кифару.
Родопея положила инструмент на обнаженные колени и, тронув струны, запела грудным голосом:
Я объявляю агон и буду сладкой наградойВсю эту ночь до появления Эос.Я для того, кто суть обозначить сумеетБога, к которому тянется каждый живущий,Как к магнезийскому камню железо,Бога, который безумную жажду сближенияВ наших телах и радость в душах рождает,Ту, пред которой иные желанья ничтожны.– Итак, задание получено, – произнес Поликрат, обводя взглядом присутствующих. – Давайте начнем агон. Из него я исключаю себя, чтобы взять роль судьи. О могуществе Эроса много сказано. Но речь идет о природе Эроса, о предмете, насколько я понимаю, почти неисследованном.
– Это верно, – согласился Эвпалин, – в рассуждениях поэтов о строении мира нет ясности. Согласно Гесиоду, сначала родилась широкогрудая Гея, а за ней появился Эрос, потом Уран и Тартар. Если это так, надо думать, что Эрос – это сила, соединившая Гею с Ураном. Здесь я должен вспомнить, что сказано о Гее в священных книгах иудеев: «Гея была безвидна и пуста». Итак, потянувшись к Урану, Гея преобразилась. На ее могучем теле появились два ровных, как бы прочерченных циркулем круга. В этих местах тело Геи вздыбилось, образовав два купола. Несколько ниже возникло глубокое ущелье. Гея стала напоминать женщину, и Уран, с яростью обрушившись на нее, ее оплодотворил, став родителем титанов, киклопов и сторуких великанов.
– Превосходное дополнение Гесиода, – сказал Поликрат, пододвигая к себе чашу. – У Гесиода Эрос наряду с Хаосом, Геей и Тартаром – одно из четырех лишенных родителей первоначал. Но место и роль Эроса у него неясны. Он только называет его «сладкоистомным» и «приводящим в безумие». Ты же, Эвпалин, соединив два мифа, объяснил, что без Эроса Гея, будучи бесформенной, как Хаос, из которого она вышла, не могла бы привлечь к себе Урана, и ты исключил из мироздания Тартар. Так ли я тебя понял?
– Так, – ответил Эвпалин. – Тартар, как его понимают поэты, – бессмыслица.
– Превосходно! – воскликнула Родопея. – Но все же какова природа самого Эроса, этой могучей силы соединения мужского и женского начал?
– Это вечно пылающий и творящий огонь, инстинкт созидания, – ответил Эвпалин, – и в то же время основа всякой деятельности. Недаром ведь Афродита была супругой Гефеста.
– Кажется, теперь мой черед, – начал Анакреонт. – Я ничего не знаю о первоначальном Эросе, и мне нет до него дела. Меня мучает Эрос, сын Афродиты. Он, единый по своей сути, постоянно меняет облики, представая то прекрасной девой, то обольстительным юношей. Я тянусь к нему, а он то подает мне надежду, то отворачивается. Счастливец Гомер обращался к музе в начале великой поэмы, а я не устаю взывать к нему, шалуну и мучителю, в каждом, даже самом маленьком стихотворении. Вот последнее из них:
Бросил шар свой пурпурныйЗлатовласый Эрос в меняИ зовет позабавитьсяС девой пестрообутою,Но смеется презрительноЛесбиянка прекрасная,На другого любуется.Взгляд Поликрата обратился к Метеоху.
– Теперь ты.
– Что я могу сказать после таких стихов? Да и опыта у меня нет.
Юноша растерянно развел руками. Звякнула чаша. Взоры пирующих обратились к пятну, расплывавшемуся на скатерти. Поликрат дал знак слуге, стоявшему у стены.
– Не надо, – проговорила Родопея, – вавилонские маги гадают по очертаниям таких пятен.
Пятно стало похожим на несущегося во весь опор коня. Родопея закрыла лицо ладонями.
– Успокойся, царица, – обратился к ней Пифагор, – стоит ли верить магам? Я согласен с Эвпалином. Эрос – это вечный огонь, вокруг которого вращаются Земля и другие космические тела. Но прав и Анакреонт. В твоих великолепных строках, Анакреонт, Эрос – златоволосый и златокрылый лучник. Ведь стрела – это солнечный луч. Не так ли? Индийский Эрос Кама – тоже лучник, но лук у него не из кизила, не из орешника, а из медового тростника, стрелы – из сцепившихся пчел. У тебя Эрос принял форму мяча цвета заката, в который ты вступил. И уже с первой строки становится ясно, чем закончится великая песня.
Прекрасно вечернее солнце, но юные жаждут не старческой бессильной красоты.
– Боги мои! – перебил Анакреонт. – Как ты истолковал мои стихи! Я ни о чем подобном и не думал. Ко мне строки явились сами, и я старался их не спугнуть.
– Вот-вот! – подхватил Пифагор. – За тебя думал Эрос. Он творец любого творчества и основа могущества. О последнем хорошо сказано в индийском мифе. Послушайте. Как-то два старых бога Вишну и Брахма встретились с юным Шивой и стали перед ним хвалиться своей мощью. Шива выслушал их и сказал: «К чему много слов? Сейчас я приму свой истинный облик, и тот из вас, кто найдет его пределы, будет самым могущественным». В один миг Шива превратился в огромную колонну с округлой капителью. Она стала расти, уходя в небо. И тогда Брахма, превратившись в лебедя, воспарил, чтобы достигнуть ее края, Вишну же стал кротом, чтобы дорыться до ее корня. Прошло много тысяч лет, и старые боги вернулись к Шиве, признав свое поражение, ибо сила Эроса беспредельна.
Родопея сняла с головы венок и протянула его Пифагору.
– Мне нравится твое толкование, Пифагор, ты показал, что эрос – основа не только жизни, но и поэзии. Ты дал зримый образ тому, чему я посвятила жизнь. Пусть же этот венок увенчает твою голову в знак того, что я готова идти за тобой. Ты будешь первым…
– Первым?! – рассмеялся Поликрат.
– Первым, – повторила Родопея, – ибо я впервые не потребую за любовь вознаграждения. Я его уже получила.
Пифагор поднялся.
– Я счастлив, царица, что своим рассказом возбудил в тебе силу эроса. Сам я не ищу сближения ни с женщинами, ни с мальчиками. Мой эрос так же беспределен, как тот, перед которым склонились Брахма и Вишну, но он бестелесен и открывается лишь в сочетании чисел и звучании небесных сфер. Но если ты сочла меня победителем, я не отвергну награды.
МненияПочти сразу за победителем и царицей пира, сославшись на неотложные дела, зал покинул Поликрат. Анакреонт, Метеох и Эвпалин остались за столом, и конечно же речь зашла о Пифагоре.
– Удивительный человек, – проговорил Анакреонт, наклоняясь над чашей. – Вот уже две декады, как я с ним знаком, и до сих пор он остается для меня загадкой.
Сделав глоток, Анакреонт продолжил:
– Меня удивляет его неприятие Гомера. Пифагора возмущает то, как Гомер описывает старину. Гомер для него – не авторитет в героическом прошлом, а чужестранец, едва ли не невежда. Пифагор глядит на Гомера глазами Ахилла, Приама, Гектора – одним словом, их современника. Но ведь не бывает, чтобы человек жил в нескольких поколениях сразу.
– Не знаю, Анакреонт, не знаю, – сказал Эвпалин, приподнявшись на ложе. – Мне он кажется сосудом, в котором спрессовано нечто такое, что, если ему дано будет развернуться, оно перевернет весь мир. Его вымысел столь неудержим и дерзок, что не может быть оспорен по законам реальности, и тем самым он становится явлением, совершенным числом, о котором он нам рассказывает и в которое веришь, как в божество. Он становится для нас линзой, расширяющей границы наших чувств и наших возможностей. Ты помнишь изречение, выбитое у входа в храм Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя»? Запись, достойная славы Дельфийского оракула, обратившегося к глубинам человеческого сознания. Но, восприняв этот совет или призыв, Пифагор поставил вопросы, какие не приходили в голову ни одному из тысяч эллинов или варваров, переступавших порог храма, – какова природа слуха и зрения, соответствует ли видимый и ощущаемый мир существующему? Давая на эти и иные вопросы ответы, он, право, превзошел всех мудрецов и открыл для понимания законов бытия и жизни неизведанные, новые пути. Не знаю, жил ли Пифагор во времена Приама, но я уверен в том, что его жизнь не определена сроком, данным смертным, и ему суждено жить и через сотни, и через тысячи лет.
Анакреонт отодвинул чашу.
– Пожалуй, ты прав. Такие люди, как Пифагор, подобны богам. Поначалу, не зная его, я с ним спорил, а теперь только слушаю. Глядя на него, легко поверить, что он пил воду из Инда и побывал в тех местах, где восходит Гелиос и рождаются звезды. Однако его величие не подавляет. Он может отыскать ключ к каждому сердцу и найти общий язык не только с молчаливыми рыбаками – я сам был свидетелем его беседы с рыбаком на агоре, – но и с морскими разбойниками.
– Да-да! – подхватил Метеох. – Увидев детей, бросивших камни в бродячую собаку, он заговорил с ними на равных, и дети к нему потянулись. Я уверен, что они больше никогда не обидят беззащитное животное.
– Но самое удивительное, – перебил Анакреонт, – что ни разу в разговорах Пифагор не назвал имени Орфея. А ведь учение о метемпсихозе[28] принадлежит именно ему. И я никогда не слышал от Пифагора об Аиде и о наказании там душ. Не кажется ли вам это странным?
– Я тоже это заметил, но странным мне это не показалось, – проговорил Эвпалин. – Орфей старался вырваться из круга, назначенного смертным судьбой, считая его мучительным. Пифагор, напротив, стремится войти в этот круг и пережить заново если не все свои прошлые жизни, то главные из них. И именно это дает ему возможность прозревать будущее. Орфей стремился принести утешение смертным, Пифагор нам ничего не обещает, а обращает наши глаза и уши к невидимому и неслышимому.
Золотой амулетПифагор осторожно отодвинул лежащую между ним и Родопеей кифару. Рука потянулась к золотому амулету, блестевшему в лощине между двумя розовыми округлостями, и на миг застыла.
– Нет! – тихо проговорил он. – Только не это!
– Понимаю, – вкрадчиво произнесла гетера, – неприятно видеть на мне дар другого. Но эту вещь я получила еще девушкой от грабителя гробниц… Есть в тени пирамид и такая профессия. Жрец Амона, которому я показала эту вещь, повел меня в храм. Там на стенах была изображена схватка со вторгшимися в Египет чужеземцами. Жрец называл их народами моря. У них были точно такие предметы.
…Губы Пифагора зашевелились. Он был не с нею. Говорил с кем-то другим. Родопея прислушалась.
– Нет, Приам, меня привлекает форма. Это небесный знак – две переходящие друг в друга окружности. Это два солнца. Они ослепят Менелая.
Глаза Пифагора ожили. Он положил руку ей на грудь и улыбнулся одними губами.
– Что с тобой? – спросила Родопея. – Ты словно заснул и меня не слышал.
– Нет, слышал. Это было видение из другой моей жизни. Я беседовал с Приамом, перед тем как принять решение о схватке с Менелаем.
Глаза Родопеи расширились.
– Ты сражался под Троей?
– Под Микенами. Сражался и погиб. Потом моя душа переселилась в делосского рыбака Пирра. Тогда у меня была дочь Мия, такая же красавица, как ты.
– Ты хочешь сказать, что знал Елену Прекрасную? – усмехнулась Родопея.
– О какой Елене ты говоришь? Не о Елене ли, богине спартанцев?
– Но ведь Гомер…
– Откуда бы ему знать о Елене, если он жил через три века после Приама?! Я не обманываю. А вот ты… Ты отдалась грабителю пирамид, и он расплатился с тобой золотой безделушкой. Мало того, он обещал сделать тебя царицей. Твои подруги, узнав об этом, потешались. Несмотря на насмешки, ты всегда носила эту вещичку как амулет и помнила о том, кто сделал тебя женщиной. Эрос тебя не обманул. Грабитель пирамид Амасис стал воином, потом военачальником и, возглавив восстание египетской черни, – фараоном. Он выполнил свое обещание и взял тебя во дворец. Не без твоего влияния он стал верным другом Поликрата, а ты – залогом их дружбы. Потом что-то произошло, и он повелел отвезти свою статую Гере как прощальный дар. Но ведь кроме статуи было послание. Можешь не говорить какое. Но ведь было.
Родопея сорвала с себя амулет.
– Да, было. Все было. Было и сновидение, и истолкование его жрецом. И насмешки подруг. И прощание. И клятва никогда не снимать амулет. Было и послание Амасиса. Война с Персией неизбежна. Поэтому я покинула Египет. Вскоре бедствие обрушится и на Самос. Впрочем, зачем я тебе все это говорю? Ведь ты маг, величайший из магов. Для тебя нет тайн. Ты снял с меня заклятье. И я хочу быть с тобою в трех лицах, трижды прекрасный.
Пифагор поднял голову, и вдруг перед его глазами возникла гордая, золотистая и сияющая голова, лебединая шея. Это была Парфенопа, встречи с которой он ждал столько лет, время от времени пытаясь сложить ее облик из черт женщин, так же, как Родопея, предлагавших себя. Теперь все это позади. Она явилась к нему такой, какой он ее потерял, и в движении ее губ можно было прочитать имя – Эвфорб. И она поет. «О, боги мои! Это же песня Орфея!»
Парфенопа плавно двигалась навстречу ему, пока, приблизившись, не слилась с женщиной, раскинувшейся рядом, и Пифагор рванулся к ней.
ОплывСтремительно взлетали вверх и опускались, взметая жемчуг брызг, весла. О скорости можно было судить лишь по дрожанию корпуса, силе бьющего в лицо ветра и изменениям панорамы. Пролив, отделяющий остров от материка, понемногу сужался. Самос разворачивался освещенной солнцем зубчатой стеной кипарисов, и, наверное, древнее название острову – Кипарисия – могли дать лишь те, кто обитал на Микале.
Поликрат и неожиданно вызванный им Пифагор стояли рядом на носу пентеконтеры. Лицо тирана не выражало никаких чувств. После того как они обменялись краткими приветствиями, Поликрат не проронил ни слова, и Пифагор терялся в догадках: «Почему он предпочел иметь спутником меня, с которым едва знаком, а не тех, кого знает много лет? И куда мы плывем? Если на подвластные Поликрату острова, незачем входить в пролив. Или, может быть, в проливе судно движется быстрее и Поликрату хочется похвастаться быстротою хода? Вот и мыс Трогилий. Сколько раз эфебом, глядя на него, я встречал поднимающееся из-за Микале солнце, пока оно не позвало меня в путь и я не двинулся ему навстречу».
Пролив расширялся. Судя по развороту, Поликрат намерен посетить берег, открытый Борею. Пифагор мгновенно оживил в памяти очертания Самоса на медной доске Анаксимандра. «Барашек», обращенный головою к Азии. Очертания острова совпадали с направлением движения ионийцев, бежавших на другой материк от бедствий, которые постигли материковую Элладу после погубившего Трою землетрясения. Так на азиатском побережье появились ионийские города, от которых Самос отделен проливом.
Обойдя баранью головку мыса Посейдона, судно спускалось по выгибу шейки в бухту.
«Сюда переведены рыбаки, – думал Пифагор. – Если бы Поликрат намеревался здесь высадиться, судно должно было переменить направление. Но оно шло прежним ходом. Видимо, Поликрат решил обогнуть акрополь своей морской державы. Так же в дни праздника обходят теменос[29] храма Мелькарта в Тире, так же и персидские маги делают круги во время жертвоприношения огню. Это магический круг, отделяющий священную территорию от неосвященного мира и закрепляющий над нею власть высших сил. Поэтому так серьезен и значителен Поликрат».
Судно совершило еще один разворот. Побережье по обе стороны мыса Дрепан было равнинным и, кажется, шевелилось от курчавой волны пасшихся овец. Справа по борту в тумане выступила едва различимая Икария.
– Несколько дней назад мною получено послание от Амасиса, – внезапно проговорил Поликрат. – Поблагодарив за самояну, фараон напомнил мне, что счастье недолговечно и что ни один из известных ему счастливцев не кончил хорошо. Поэтому – таковы его подлинные слова – «тебе, мой друг, надо шагнуть самому навстречу несчастью». Как ты думаешь, что он имел в виду?
– Видишь ли, – начал Пифагор после недолгого раздумья, – вавилонские, а также индийские мудрецы полагают, что счастье и несчастье – это две гири, колеблющиеся на чаше весов. Судьба смертного также колеблется на этих гирях, и если счастье сильно перевешивает, то это может привести к такому резкому повороту, что человек летит в пропасть и ничто его не в силах удержать. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать чрезмерного счастья и надо самому поддерживать равновесие.
– Как же мне поступить?
– Изменить свою жизнь. Помнится, в таком случае один индийский царь покинул дворец, став отшельником. Может быть, отказаться от самого тебе дорогого.
– Здесь не Индия, – отозвался Поликрат. – А насчет дорогого? Вот что. Я откажусь от перстня. У меня нет вещи дороже его. И ты будешь свидетелем того, как он исчезнет в пучине. Вот здесь, перед мысом Канфарион, самое глубокое место.
Поликрат снял с пальца перстень и, закрыв глаза, бросил его за борт. Проследив за описанной дугой, Пифагор перевел взгляд на тирана. И сразу же его оглушил поток мыслей, считываемых с губ Поликрата. «Вот и нет перстня, как нет и дружбы. Амасис беспокоится обо мне, а Силосонта не только не задержал, а отправил на своем корабле в Навплию. Пора действовать. Выделю Меандрию пять кораблей. Этого хватит, чтобы покончить с осиным гнездом».
Поликрат повернул голову.
– Вот я без перстня, – проговорил он. – Ощущается непривычная легкость. Надо будет заказать другой.
«Такого, как тот, ты не найдешь! – подумал Пифагор. – Он был броней, мешавшей мне узнать о твоих намерениях».
– Да, к вещам привыкаешь, как к чему-то живому. Но ты не огорчайся. Главное, что внял совету друга, – проговорил он.
Достигнув западной оконечности острова, судно свернуло в открытое море. Слева по борту возникали и рушились пенные гребни. Это скопище острых скал и подводных камней мореходы называли некрополем кораблей и старались к нему не приближаться. Впереди островок Рипара, обиталище чаек. Зобастые и тяжеловесные, поднявшись в воздух, они становились похожими на гаммы[30]. И Пифагор начал их машинально складывать. Получилось тридцать шесть.
Судно развернулось еще раз и двинулось вдоль южного берега, блестевшего песчаной полосою пляжа. В глубине показались гора Хесион и у ее подножия – освещенный закатом храм Артемиды. Здесь был исток Имбраса, считавшегося супругом Хесион и отцом Окирои. Отсюда недалеко до Герайона, а там уже гибельный Парус и гавань.
Какое-то смутное воспоминание шевельнулось в душе Пифагора, но тотчас же ускользнуло.
– Эвпалйн обещает уничтожить это бельмо на глазу Самоса, – услышал он голос Поликрата. – Но не знаю, успеет ли.
УловГород еще спал. Молчали на насестах петухи. До слуха Пифагора доносилось лишь уханье ночной стражи стен – сов – и еще какой-то посторонний шум. Пифагор поспешил на него и нагнал телегу с мусором. Присоединившись к ней, он покинул город незамеченным.
Рядом со свалкой проходила дорога, пересекающая город с юга на север в самом узком месте. Пифагор шагал, насвистывая любимую мелодию, которую еще в детстве напевала ему мать. Проснувшиеся дневные птицы подхватили ее, дополнив своим щебетом и хлопаньем крыльев.
Небо быстро светлело. За перевалом дохнуло Бореем. Поправив растрепавшиеся волосы, Пифагор прибавил шагу и вышел на берег. Вот и бухта, куда переправлены рыбаки. По колено в воде четверо тащили сеть, кажется, не подозревая, что кто-то за ними наблюдает.
И словно туман застлал глаза Пифагору. Когда же он рассеялся, изменилась панорама. Вместо узкой бухты взору открылся плоский песчаный берег и плывущий к нему керкур, а на нем человек, в котором он узнал самого себя. Рыбаки с берега махали ему руками, среди них девушка, ее лицо показалось Пифагору давным-давно знакомым, но он никак не мог вспомнить, кто она.
Видение исчезло так же внезапно, как и появилось. Пифагор не имел власти над своей памятью. Скорее она обладала властью над ним, неожиданно раскрывая эпизоды прошлой жизни. Но ему не удавалось соединить обрывки видений в нечто целое. Об Эвфорбе и его схватке с Менелаем писал Гомер, но Гомеру не было известно об ученых занятиях Эвфорба. Что касается последней жизни, проходившей на прилегавшей к Делосу Рении, то не было никакой надежды узнать что-либо от постороннего лица.
Взглянув на берег, Пифагор увидел рыбаков с обильным уловом. Он сбежал по склону. Рыбаки, услышав шум шагов, обернулись. У одного из них, сгорбленного старца, глазницы были пусты, однако черты лица показались Пифагору знакомыми. Старец подошел к Пифагору, и тот ощутил лбом и щеками прикосновение бегающих холодных пальцев. Неожиданно старик вздрогнул и испустил вопль.