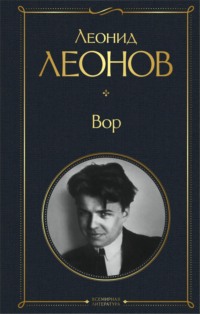
Вор
…Осенью Маша покидала Митю в тоске по вешним дням; зиму заполняло ученье… Едва же задувал заветный майский сквозняк, Митя уже подстерегал на мосту свою подругу, и она два лета сряду не обманула его ожиданий. А время мчалось не медленней воды в Кудеме, – выцвела и порвалась в плечах новая васильковая Митина рубаха. Наступал у обоих тот возраст, когда тоскует и мечется душа в поисках подобной себе. Все чаще незнакомое томленье захватывало их врасплох, и вдруг, по извечному закону, им становилось стыдно самих себя. Тогда нестерпимым бременем ощущала она распускающуюся красу, осложнявшую их прежнюю бесхитростную дружбу, а Митю тяготила перешитая из отцовской, хуже всяких лохмотьев, одежда. В обостренной худобе Митина лица, освещаемой короткой вспышкой зрачков, Маша угадывала опасность для себя. Детские игры приобретали новое значение, одновременно манящее и запретное. Уж меньше времени проводили они в беготне, а чаще просто сидели в ельничке, полуприжавшись друг к другу и односложно переговариваясь. Гроза назревала, и набухшая туча жаждала освободиться от своего сокровища…
Тонкий зной лился в тот вечер с неба, ничтожная ромашка одуряла запахом, как свежая копна. Нечаянный Митин поцелуй сперва напугал Машу, а потом рассмешил. Подобные шалости не поощрялись в Рогове, тем более в патриархальной доломановской семье. Разом встали в памяти неустанные наставления теток: легко утратить девичье достоинство, а там – мазанные дегтем ворота, изгнание из отчего дома, склизкая дорожка на дно… Маша медленно поднялась с травы, одетая в ледок высокомерной насмешки.
– Пойдем отсюда, накрапывает… – сказала она сухо, ловя на ладонь мнимые капли дождя, и у Мити не нашлось ни словца удержать, умолить, разуверить ее.
Оттуда ближе всего в Демятино было через страшные ольховые заросли. Подростки спустились во владения Козюбры и молча двинулись в обратный путь. Ничего там не оказалось, одно лишь конское кладбище в конце, уставленное ржавыми метелками конского же щавеля. Вместо прежнего ребячьего трепета перед тайной в обоих росло незнакомое еще чувство соперничества, что ли, прежде всего – в бесстрашии. Белые смирные черепа проводили их на прощанье пристальными глазницами… и тотчас же невидимая кукушка в затихшей полдневной листве позади принялась отсчитывать остатние деньки их дружбы… Вскоре Машу вызвали телеграммой в Рогово к занемогшему отцу.
В следующем мае Митя снова пришел на мост и напрасно ждал Машу. Проходивший стороною дождик спрыснул его слегка, но Митя выдержал бы и не такое испытанье. А он был в новом картузе и таких же, без износу казалось, яловочных сапогах, почти весь в обновках, кроме штанов, на которые не хватило. Все это, включая главное сокровище в стиснутом кулаке, было куплено на первый заработок в артели, чинившей по осени векшинский участок пути. В душных потемках ладони грустила на серебряной проволочке капля почти настоящей бирюзы: колечко. Подарком своим хотелось ему загладить прошлогоднюю провинность перед Машей, и, кроме того, не покидало томительное, так и не осознанное никогда словами предчувствие, что именно вещица эта сыграет значительную роль в их отношениях… Маша не пришла, это поохладило в нем зарождавшуюся нежность. Промокший и оголодавший, он вернулся домой и в следующий раз встретился с девушкой года через полтора-два, в Рогове, где ему посчастливилось поступить обтирщиком в депо на пятнадцать целковых в месяц. После рабочего дня, усталый и чумазый, он возвращался домой из мастерских, когда неузнаваемо расцветшая Маша с непременной книжкой для украшения, под кружевным зонтиком выходила на вечернюю прогулку. Только в глухой провинции случается подобная смелость, – надеть по жаре столько шумящих столичных новинок: паровозный мастер Доломанов желал, чтобы все видели, какие деньги тратит он на дочь. Маша поразительно легко, даже царственно, несла на себе этот показной груз достатка, пугая своей тревожною красой. И все, кто глядел ей вслед, невольно задумывались о предстоящей ей судьбе. Сквозь мазут и копоть она узнала Митю, чуть ли не окликнула по имени, даже с ущербом для доломановского достоинства шагнула было к нему, но тот отвернулся в сторону. Видно, самолюбие оказалось сильней привязанности… Кроме того, шедшие сзади товарищи могли бы подумать, что продувная голь, Векшин, наголодавшись на мурцовке, стремится выскочить в доломановские зятья.
Вдобавок открылось накануне, что к Маше сватаются сразу трое, правда, с одинаковым неуспехом – начальник станции Соколовский, табельщик Дужкин и сын демятинского попа, будущий батюшка, вознамерившийся брачными узами завершить династическую распрю. Мите соперничать с ними было непосильно… да он и не задержался в Рогове. После мелкой стычки с Доломановым он перешел в мастерские Муромского узла, но из-за любопытства к жизни и беспокойного нрава не ужился и там, а все подвигался к Уралу. Доходили слухи, будто, проездив на паровозе установленные восемнадцать тысяч верст, он стал помощником машиниста; к этому времени Фирсов приурочивает знакомство своего героя с политическими партиями… И при каждой неминуемой в переездах укладке вещей Мите попадалось на дне сундучка так и не подаренное кольцо со слезинкой бирюзы; какая б ни случалась спешка, он всякий раз подолгу, с посеревшим лицом всматривался в юношеское воспоминанье… да и Маша, злая Маша Доломанова, не забывала Митю никогда.
XII
Незадолго перед концом войны Федор Доломанов слег денечка на три в постель. Напугавшая его хворь была легкая, верно, прохватило сквозняком в цеху, и первый в доломановском доме доктор даже выразил удивление перед богатырским организмом паровозного мастера, но сам он понимал, что здоровье его пошатнулось. Близ того времени на одной злосчастной свадьбе старика упросили показать его коронный номер с рублем: взяв монету на кукиш, Доломанов в два приема как бы продавливал ее, сгибая пополам. Однако, как ни хитрил он с нею, ничего не получалось на этот раз, да тут еще невестин братишка, ротозей, хихикнул невзначай на потуги бывшего силача, и будто бы что-то существенное порвалось при этом внутри Доломанова. Вдобавок ко всем тем огорчениям еще одна прибавилась неаккуратность, по любимому присловью старика. Тетя Паша добилась наконец желанной койки в богадельне; простившись с племянниками, она вышла с узелочком, но опустилась перевести дух на приступку крыльца и умерла. Случай тот столь потряс Доломанова, что некоторое время даже людей на улицах примечать стал.
Как раз в тот месяц невеселых раздумий и прислушиванья ко всякой молве о себе, а пуще – к наступающим в собственном теле изменениям, молодой батюшка ознакомил Доломанова с доставшейся ему от родителя старинной книжкой, сочинением придворного елизаветинского лекаря де Саншеса о пользе, происходящей от применения русской парной бани. В знаменитом славянском обычае сей медик открыл столь могучее средство к врачеванию самых закоренелых недугов, что даже младенцев тотчас по рождении указывал вносить на верхний полок, в самый зной, и там умеренно стегать оных веником для развития как дыхательных путей, так и приведенных в движение конечностей. Эти соображения и надоумили Доломанова, несмотря на военное время, соорудить себе образцовое, по меткому определению Максимова сына, банное капище, к слову – поглотившее чуть не все, за полвека, доломановские сбереженья.
Это роговское чудо света воздвигали начерно, без дымохода, – якобы в черной бане пар вкусней и целебней, – местность под окнами засадили плодоносящей рябиной и строгим можжевельником, каменку же табельщик Дужкин расписал разнообразным, только местами столь игривым сюжетцем, что хозяин не впускал туда дочку, пока дымом не заволокло указанные следы холостяцкого воображенья… Имея в виду через умягчение деспотического отцовского сердца добиться Машиной руки, женихи, все трое имевшие броню от военных действий, добровольно поделили меж собой обязанности по бане. Соколовский принял на себя отопительную часть, требующую высоких дровяных познаний, Дужкин открыл в себе дар придавать пару и воде ароматические оттенки посредством наисекретнейших трав. Что же касается будущего молодого пастыря, этот посвятил свой досуг заготовке веников, избирая для ломки их благоприятный сезон, вскоре от распускания, когда березовый лист, по отзыву знатоков, особливо полезен и душист, хотя бы и в ущерб прочности… Несомненно, в Рогове тех лет, на фоне уже начавшихся народных бедствий, бывали события и поважней, однако, стремясь выделить этим фоном завязку Машиной трагедии, Фирсов громоздил вокруг доломановской бани уйму эпических преувеличений вроде того, что до нее в Рогове по этой части царили совершенный хаос и невежество и якобы бородатые труженики мылись исключительно в корытах, париться же лазали в русские печи, мужественно закрываясь заслонкой снаружи, а кто хилого сложения, вовсе не мылись от лета до лета – до поры, когда потеплеют под солнышком воды Кудемы.
Лишь избранные имели доступ в это не сохранившееся для потомства заведение, и, по Фирсову, нигде на свете не процветало с подобной силой банное искусство… Раздевшись первым, Дужкин окачивал стены ледяной водой, чтоб смыть вредный угар и посмягчить жестокость предстоящего блаженства. Затем развешивал вдоль устья каменки веники по числу приглашенных и поддавал в раскаленное пекло начальные ковши. Клубы свистящего пара били по ним, сморщенная листвень шевелилась, расправляясь и насыщая вешней прелестью божественно обжигающий воздух. Вслед за тем сюда, в зудящий благословенный ад, врывались остальные и, расположась по ступеням здоровья и возраста, предавались любимому занятию. «Распаренный листок, коротко и властно простегивая тело, разгонял сгустевшую кровь, ускорял взаимообращение жизненных соков, вместе с тем удалял прочь накипь земных разочарований, тем самым окрыляя человеческую особь к одухотворенной деятельности», – так и захлебывался Фирсов, выдавая свою природную слабость к сему прискорбному национальному изуверству.
Наверху, в облаке пара, самозабвенно хлестал себя Дужкин, лежа на боку с неузнаваемым лицом. Ступенькой ниже, присев на корточках и просунув веник между ног, не менее ревностно забавлялся Соколовский; длиннота рук позволяла ему и в таком положении достать веником до самого затылка. Рядом с ним нахлестывал себя будущий батюшка, изредка воодушевляя друзей восклицаниями, выражавшими похвалу русской бане, или же подходящим текстом из Писания; и лишь на третьей ступеньке, стремясь не отставать от младшего поколения, изгонял из себя ужас смерти сам Доломанов. Один только пропойца, имея слабое темя, сидел внизу, на соломе и в шапке, покачивая головой на неистовую забаву друзей.
Изредка женихи исчезали поваляться в глубоком снегу, после чего, с гоготанием возвратясь к будущему тестю, поддавали на каменку мятным либо другим каким кваском. Оттого в пару удваивалось его целительное содержание, в воде же еще глубже раскрывался философский смысл первородящей стихии, а черный потолок бани как бы разверзался для дальнейшего воспарения к небу. Словом, камень бурляк, способный служить в каменке трехлетний срок, здесь снашивался за зиму.
Нарядная, чуть располневшая в тот год, Маша ходила на танцульки роговской молодежи, чтоб весь вечер без движенья просидеть в углу. Никто не смел пригласить ее с собою в танец из опасения разгневать Доломанова или нарваться на особо обидный отказ, потому что шла последняя перед революцией кровопролитная зима, исправные кавалеры находились на фронте и в Рогове оставалась лишь молодежь с различными телесными изъянами, вдвойне очевидными вблизи Машиной прелести. Иногда, соскучась незримо оплакивать свое злое одиночество, она в сквозной кофточке выходила на крыльцо и подолгу стояла лицом в розовую вечернюю мглу, слушая сторожевую перекличку псов. Тотчас за Роговом находилась свежая лесосека на бугре; надсадно скрипели там жердистые семенные ели, отдаваясь беспокойному сну. В Рогове теперь на ночь укладывались рано… только в конце поселка светились окна доломановской бани, где трое женихов-соревнователей зарабатывали благоволение Машина отца. Уже тогда, сама того не сознавая, мысленно звала Маша из лесного мрака страшного своего жениха.
В июле провожали добровольцев. В актовом зале школы, состоявшей под почетным попечительством соседнего помещика Манюкина, украшенном флагами и хвоей, состоялось это неуклюжее и торопливое торжество. Молебен служил новопосвященный батюшка, сын Максима и сам по имени Максим, соратник Доломанова по бане, так и не дождавшийся Машиной руки. По окончании он же произнес напутственное слово о стесненном отечестве и о гражданской жертвенности молодых воинов – во образе дряхлеющего Давида и молодой девицы Ависаги. Речь его вообще изобиловала щекотливыми сравненьями, но никто на это не обратил внимания, потому что поголовно все изнемогали от противной, до липкости расслабляющей истомы. Хотя в раскрытые настежь окна гляделось нежнейших разводов небо, к ночи следовало ждать очередную грозу.
Добровольцы, плотные холостые ребята из торгового сословья, потели в тесных гимнастерках и конфузливо косились на пиво, изобильно представленное на длинных столах для заключительной части. Однако задолго до угощенья их посадили в вагон, и начальник Соколовский, докричав свое «ура», дал сигнал к отбытию. После отправки многие со вздохом облегчения воротились в школу, где был устроен бал; в частности, Дужкин лихо наигрывал на кларнете вместе с четырьмя прочими домодельными музыкантами.
Как всегда, Маша скучала в углу, когда ее пригласил на танец незнакомый ей человек. Он был в гладких щеголеватых сапогах, а военного образца штаны на нем пузырились по сторонам, словно надутые воздухом. Машу неприятно поразила широта его плеч, крутизна узловатого лба, угрюмая темень глаз, – точно вышел сражаться в одиночку со всем миром. Все перешептывались о нем, и единственно ради вызова ненавистным роговским приличиям Маша дала согласие; из ревности или смущения Дужкин подзамедлил музыку, так что из польки получился вальс. На третьем туре Маша заметила странные приготовления: публика теснилась к закрытым дверям, оркестр спотыкался и путался, только одна их пара кружилась теперь в опустелом зале, и, значит, именно к ним, волоча веревку за спиной, подбирался Соколовский в сопровождении багажного весовщика.
– Сзади заходят… – шепнула Маша, почитая себя как бы сообщницей своего партнера.
– …вижу, – одними губами ответил тот и, оттолкнув Машу, выпалил из чего-то в самое лицо начальника Соколовского.
Ей почудилось, что умирает сама; продолжение она узнала от обступавших ее женщин. Отстрелив ухо Соколовскому, незнакомец выпрыгнул в окно; случившаяся там копенка сена смягчила его прыжок, ночь укрыла от преследований. Маша содрогнулась, услышав имя своего кавалера. С нею танцевал Агейка Столяров, гроза двух уездов, ночной разбойник и озорник. Люди такой славы довольно быстро сходят в свои ямы с хлорной известью, но этот прожил дольше других, потому что вначале действовал под маской гонителя богачей, а после революции новички из розыска никак не могли нащупать его нору. Иногда он выползал оттуда, во утоление темной потребности испытать судьбу, – Фирсов высказал догадку, впрочем, что уже в то время Агейка жадно искал предназначенную ему пулю. Никто не знал ни Агейкина месторожденья, ни его злосчастного отца. По Фирсову, его породила загнившая кровь, пролитая на неправедной войне, и верно – он появился в самом ее конце вместе с прочими спутниками безвременья: смятеньем душ, волками и сыпняком. Следовательно, ему полагалось сгинуть, как дурному сну при первом дуновении рассветного ветерка.
Наступала переломная пора в русском государстве, безумие пополам с изменой опустошало страну. Тыл и фронт разделились пустыней… и вот по ней при всеобщем безмолвии побежали домой не убитые на войне: облако возмущения неотступно следовало за ними… Как-то в сумерки, когда в воздухе порхали первые несмелые снежинки, приходили к Маше с заднего крыльца два мальчика, дети знакомых рабочих из депо, – под страшным секретом просили красных лоскутков для игры. И хотя обоих Маша считала своими приятелями, один упорно отмалчивался на все ее расспросы, а второй лишь усмехался какому-то секретному знанию, подслушанному у отца. Маша вынесла им давний сарафанчик, в нем когда-то встречалась с Митей. А никаких тайн, собственно, и не было, мир уже шумел о событиях в обеих русских столицах, но газеты в Рогово приходили с запозданьем. Лишь по тому, как дети вертели в руках Машин подарок, прикидывая длину и ширину, Маша поняла что-то, и всю ее обдало жаром сожаленья, что сама, в ненависти своей к тому же, не догадалась раньше. Ее захватила еще непонятная, но такая волнительная надежда, разлитая в воздухе и звавшая к суровой и спасительной чистоте из окружавшей ее гиблой слякоти.
– И я! Давайте и я с вами… хотите? – потянулась она, готовая бежать с ребятами в чем была, но те лишь переглянулись в ответ на подозрительное рвение нарядной девицы и ушли.
Часом позже, когда Маша возвращалась с обычной прогулки, вдоль единственной роговской улицы прошли железнодорожные рабочие, давешние подростки в том числе, – утопая в грязи, но по четверо в ряд, хоть всего-то их там было чуть поболе дюжины. Срывающимися голосами старики затянули незнакомую Маше Варшавянку, и тут, если верить Фирсову, она узнала свое перешитое в длинную полосу платье. Ветер рвал его с самодельного древка, и простиранный ситчик струился в воздухе не хуже шемаханского алого шелка… Обида и необъяснимое стесненье помешали Маше присоединиться к ним, никто не заметил в сумерках ее заплаканного лица.
Продрогшая, она с крыльца воротилась к отцу за новостями и спугнула от окна не по времени веселых женихов. Начальник Соколовский с красивой черной повязкой через висок бросился было придвигать для девушки кресло к топившейся печке.
– Уйди, кобель… кобель недостреляный! – вяло сказала та, вполоборота глядя ему в ноги.
Ей стало одиноко и пусто, зиму она переносила, как изнурительную болезнь. По пришествии весны в воздухе рановато и непонятно запахло как бы лесною гарью, а Маше казалось, что это безвыходный чадный пламень испепеляет ее извнутри. Ее все время тянуло из дому – пройти насквозь окрестные деревни, вглядеться в привычные вещи, которых не замечала раньше. Еще больше хотелось ей в ту пору встретиться с Митей и обсудить назревшие недоуменья, но одна только во всем мире милосердная, почти ручная пичуга навещала ее гостеприимный подоконник. Примечательно, однако, что в этот самый месяц Митю Векшина, проездом, что ли, видели в Рогове, причем чуть ли не на задворках доломановских владений; говорили, что он находился тогда на нелегальном положении. Фирсов усердно и вполне безуспешно добивался некоторых подробностей того периода, угадывая здесь спрятанный от него, известный только Маше, всеразъясняющий узелок; впрочем, судя по всему, вряд ли знал о нем даже сам Векшин.
В летнее время Маше не сиделось дома из-за множества чудесных мест в роговских окрестностях, – больше всего нравилось слушать тишину в кудемском сосняке на гигантских оползающих корнях у реки, свесив ноги над пропастью. Но в ту пору стояла ранняя весна, и зыбучие вешние грязи, на которых неизменно бился с подводой какой-нибудь дальний мужик, естественно ограничивали предел ее прогулок. Тем более остается тайной, зачем ее понесло тем роковым холодным вечерком в непролазную глушь, куда, кажется, ни грибник, ни ружейный охотник не забредали от века.
К тому же девушке пришлось провести там не меньше часа во исполнение ее безумной прихоти, иначе трудно допустить такое чрезвычайное, по времени и месту, совпаденье. Внезапно на берег к ней вышел Агейка и взял ее. Без крика, напрасного в такой пустыне, она кусала ему лицо и руки, он осилил. Потом Маша тихонько плакала, по-детски растирая слезы кулаком, а куривший рядом Агейка сплевывал в реку и отрывочно делился с жертвой своими житейскими обстоятельствами, – видно, за неимением других собеседников, кроме лесного зверя да вот растерзанной Маши. Только омут оставался гордой девушке, и как раз в заводи внизу услужливо злобилась крутая апрельская вода, так что ничего не стоило Маше соскользнуть в ледяной кипяток… но это всегда оставалось в ее распоряжении, а до того захотелось теперь самой совершить некоторые поступки, чтобы не слишком походила история ее на рядовую мушиную судьбу. Когда Агейка предложил Маше совместную жизнь, она пошла за ним; правда, в то время он не был тем, чем стал впоследствии, еще не растратил до последней трусости своей бешеной и подлой отваги; значит, имелась в его характере какая-то достойная Машиной жалости черточка, сознательно не показанная Фирсовым – чтобы не обелять уж любого злодейства!.. В ночь Машина бегства сгорела доломановская баня: маленький свадебный подарок влюбленного Агейки.
…Теперь все это отодвигается далеко назад. В молчании и с переплетшимися руками сидят брат и сестра. Им очень хочется понять, как же в ясной логической цепи людского поведения внезапно возникают преступление и ошибка.
– Именно целая биография ее жизнь, – настойчиво, все в том же своем толковании повторил Митька полюбившееся ему слово. – И никто не знает, что навсегда связало Машу с Агеем. Плохо ей с ним, а молчит, гордая. Как говорится, сыграла втемную и недобрала очка!
– Он еще жив, этот Агей? – с содроганием спросила Таня.
И, сам бесстрашный человек, Митька с опаской оглядел пчховские стены. Он ответил, только убедясь, что никто не подслушивает их:
– Видать, сама смерть им брезгует. А где-то на Урале, сказывали, уж песня про него сложена каторжная. Да ведь что, слезами народными эти песни про нашего брата пишутся! – И вдруг просительно сжал слегка обвядшую руку сестры. – Но ты верь мне, богом прошу тебя, уж я-то непременно выкручусь!
Сестра кротко смотрит в посветлевшее пчховское оконце. Лампа тухнет, потому что иссякла ее керосиновая пища; из угла по слоистой табачной духоте плывет густой Николкин храп… Потом, повинуясь своей тоске, Таня с бесконечной жалостью заглядывает брату в лицо.
– А сам ты… убивал, Митя?
С опущенными глазами, движеньем досады гася папиросу в пальцах, Митька отрицательно качнул головой.
XIII
Прежде чем приступить к начертанию первой ключевой фразы в своем сочинении, Фирсов стремительно носился по благушинским людям, уплотняя их судьбы в живые узлы, пока не запульсирует единое сердцебиенье, – прищуренным глазком, по-плотницки, выверяя прямизну задуманного действа. Нисколько не дорожа столь невещественными ценностями, жильцы сорок шестой квартиры почти не таились от него и все, кроме Митьки, охотно доверялись сочинителю, почитая за блажного, чего тот благоразумно и не опровергал. Прежде всего он обратил творческое внимание на Зинку Балуеву, едва разгадал, какие мечтанья волновали ее пышную грудь. Имея дозволение забегать запросто, Фирсов неоднократно заставал Зинку за вышиваньем мужской рубашки, а малолетняя Зинкина дочка сидела рядом, понятливо созерцая руки матери. И всякий раз Фирсов успевал заметить на рукоделии узор из мельчайших, на пределе порчи зрения, незабудочек. Поэтому сочинитель смог совершенно точно датировать Зинкину победу, обнаружив на своем слегка сконфуженном герое это помрачительное творенье, впрочем уже через сутки бесследно исчезнувшее из его обихода. Для сочинителя вместе с тем это означало Митькину сдачу и, в этом качестве, новую фазу в его судьбе – если не дальнейшего паденья, то несомненной растерянности, столь необходимой перед прозрением. А пока Митьку совсем не привлекали ни богатства Зинкиной души, ни ленивая река ее волос, ни прочие могучие прелести, рассчитанные скорее для эпоса и вечности, нежели для частного, постоянно на ходу, пользования московского вора.
– Как поживают обе милые дамы, большая и маленькая? – вкрадчиво начинал Фирсов и сразу переходил на иносказательную речь, чтобы затруднить понимание ребенка. – Как они развиваются, ваши кроткие цветочки… и уже не появились ли на них лапки с коготками, чтобы прочнее пленить сердце неведомого избранника?
– Вот ты образованный… так ответь мне по всей науке, – шумно вздыхала Зинка, заставляя шевелиться листки фирсовской записной книжки. – Объясни мне, Федор Федорыч, людское сердце может ли лопнуть от любви?
Тот бросал демисезон на спинку стула, многозначительно посмеивался, щелкал портсигаром.
– Вполне, дорогая, потому что миром движет любовь. Горы и тайны лопаются по швам, награждая жадное человеческое вторжение. Звезда рыщет в небе, жаждая соединиться с себе подобной и новый породить пламень в пустоте… и ничего, что сердце наше такое маленькое! – И, отшучиваясь, незаметно выкрамсывал наиболее лакомые куски из переживаний собеседницы.
В этой комнате долго трудиться над кладом сочинителю не пришлось: скоро в слезах, как на исповеди, Зинка покаялась его записной книжке в своей безответной любви; ученый брат ее, Матвей, проживавший за ширмой, осуждающе прохохотал все полчаса ее признаний. Этот вполне скептический человек, так как специальностью его являлась материальная подоплека человеческого существования, кроме того студент и сотрудник учреждения, коего и сокращенное название занимало целую строку, ходил в косматой бурке, наследии фронта, и во всем, до блеклой переутомленности в лице, являлся полной противоположностью Зинке. Недаром со стен их комнаты переглядывались из угла в угол чудотворец Николай и вождь пролетариата Ленин; первый все грозил, а второй молчал и щурился.

