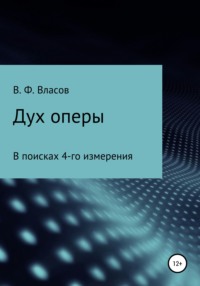
Дух оперы
Мы слушали его внимательно, но ту вдруг Олег перебил его, сказав:
– Зачем же покидать наш мир? Ведь в этом мире можно совместить все сферы, соединить и то и другое.
Юрий тряхнул головой и сказал:
– Как можно совместить в нашем мире две несовместимые сферы, если они разделены между собой границей. Разве можно наш город засунуть в коробку с двумя днами, или создать зеркало, через которое можно проникать в своё отражение?
Мы не знали, что ему ответить на этот вопрос и промолчали. Как видно, сдвиг в его душе произошёл очень глубокий, и чтобы вернуть его в наш мир, нам нужно было подумать, как это сделать очень деликатно, чтобы не повредить его рассудок.
– И в какую же сферу ты попал? – спросил его, рассмеявшись, Олег.
– А что, собственно, вы хотите знать? – сказал Юрий, как бы внутренне напрягаясь, что не ускользнуло от нашего внимания
– Только что ты рассказал нам много интересного. И для того, чтобы понять всё это, нам нужно обдумать твои слова, – тут же вмешался в их диалог Сергей, – слишком много информации мы услышали за несколько минут. Нам надо всё это обдумать.
Мы все замолчали, и некоторое время никто из нас не произносил ни слова, так как мы не знали, как реагировать на его слова. Наступила неловкая пауза.
Затем наш разговор принял другое направление, и мы стали обсуждать дела в институте. После того, как мы попили чая, Олег спросил участливо Юрия:
– Как ты себя чувствуешь?
– Терпимо, – ответил тот.
– Может быть, мы зайдём к тебе немного позже? – спросил Андрей. – А то мы видим, что ты до сих пор не оправился от потрясения.
Юрий пожал плечами. Мы, видя его реакцию, сразу же засобирались и стали прощаться. Он нас не удерживал. В ту минуту нам было не до интеллектуальных разговоров. Мы спросили его, нужно ли нам что-нибудь принести для него из посуды и прочих вещей. Затем мы сердечно пожелали здоровья и откланялись, захватив с собой мусор, чтобы выбросить в мусорный контейнер на улице.
Выйдя на улицу, мы не знали, как нам реагировать на всё произошедшее с нашим товарищем, лишь Андрей произнёс фразу из Гамлета Шекспира:
– Бедный Йорик!
Вспоминая всё это, я подумал, что после занятий нужно обязательно сходить к нему в больницу.
Когда прозвенел звонок и начались занятия в институте, я вошёл в свою аудиторию. В моей группе было шестнадцать парней, и семнадцатой была Агния. Поприветствовав их, я приступил к чтению лекции. Эта лекция носила философско-математическую направленность, и была разработана мной по вопросам генезиса философии и проблемы субстанции.
Во время чтения лекции, я бросал взгляды на Агнию, которая что-то записывала в свою тетрадь. Иногда её взгляд встречался с моим, и я тут же отводил от неё глаза. Она смотрела на меня как на учителя. И тут же я, вспомнив мою утреннюю прогулку по площади и звучащую мелодию Жан-Батиста Люлли «Королевский дивертисмент», представил себя королём, а её – моей подданной, которую я тайно желал сделать своей любовницей. Не знаю, обладал ли я привлекательными чертами лица, но ведь и Людовик Четырнадцатый не был красавцем, также, как и сам Люлли, но оба они пользовались успехом у дам и имели множество любовниц. Более того, у самого Люлли было хоть и умное, но грубое лицо, и вдобавок ещё и густые брови, под которыми скрывались чёрные глазки, окаймлённые красными веками. Мои глаза были светлыми, но вот веки тоже иногда бывали красными от чрезмерного чтения книг по ночам. И нос у меня совсем не бы мясистым, как у Люлли, а прямой, правда, немного длинноватым; и щеки не одутловатыми, как на его портрете, а вполне даже привлекательными – округлыми и гладкими. А губы у меня тонкие. Не знаю, может быть, такие губы, как у Люлли, более привлекательные, но мужчине нужно иметь именно такие волевые губы, как у меня. К тому же, я имею нормальный подбородок и длинную шею, а у композитора – подбородок был жирный и шея – толстая. Одним слово, в своей наружности я имею больше преимуществ, чем Люлли. Но могу ли я понравиться Агнии?
Правда, Люлли писал превосходную музыку, но и мои слова и мысли нисколько не уступают его искусству композиции. И сейчас, когда я говорю о генезисе философии и проблемах субстанции, моя речь звучит также совершенно и изящно, как и его музыка. Ведь что такое генезис философии? Это – самоорганизация каждого человека, и это – его отточенное мастерство красиво и правильно излагать свои мысли. Но это лишь форма, а глубина её – это проникновенное познание мира. Каждый из нас пытается создать свою картину мира, из этого и скрадывается общая философия. Но прежде чем, обратиться к философии, человек должен организовать самого себя. То, что даёт нам природа, мы не можем ни изменить, ни поправить. Например, Агнии природа дала совершенное тело и естественную красоту, где ничего нельзя ни убрать, ни прибавить, но вот что касается интеллекта человека, это – творенье его собственных усилий, можно сказать, плод его труда.
Люлли сделал из себя прекрасного музыканта и композитора, я же пытаюсь создать из себя совершенного мыслителя. Хоть я и прочитал множество философских книг, но свою собственную философию я создаю внутри себя, самоорганизуясь своим умом, и со многими философами не согласен. Даже в этой лекции я противопоставляю себя многим авторитетным мудрецам, которые утверждают, что началом философии было ощущение ничем не ограниченного мышления и ничем не ограниченного эмпирического постижения мира. Так не может быть. Всё в нашем мире ограничено, не ограничен только сам хаос. И он безграничен и не поддаётся никакому эмпирическому постижению.
Из хаоса была создана Агния, но природа постаралась сделать её совершенным существом. Следовательно, само понятие «бесконечности» не представляет собой до конца осмысленной философской категории, и хоть мышление всегда стремится к бесконечности и выходу за пределы ограниченного, но все эти усилия заканчиваются отходом от всеобщего к частному, потому что мы никогда не сможем своим умом охватить безграничное и бесконечное, как бы не старались это сделать.
Хоть Гегель и говорил, что мыслить – означает вообще облечь нечто в форму всеобщности, и что, якобы, мысль делает своим предметом всеобщее. Но это не так, потому что как только что-то приобретает форму, то оно тут же теряет свою безграничность и полную свободу. Иначе бы вообще не было бы ни вещей, ни определённых мыслей. Только в хаосе существует безграничность и полная свобода. Но человек, как творческое существо, всегда борется с хаосом и старается его упорядочить. Само творчество человека уже подразумевает в себе действие, когда определённое содержание втискивается в определённую форму. Поэтому в мире нет ничего бесконечного и безграничного. Всё существует в своих границах и своей продолжительности.
Если бы я не знал Агнию, то и понятие «любовь» было бы для меня пустым звуком, но как только появилась эта девушка, то любовь наполнилась сразу содержанием и смыслом, и оно, это понятие, имеет теперь конкретное направление. Я ещё не знаю, кем является моя возлюбленная, но я уже люблю её. И, кем бы она не оказалась, я буду продолжать любить её и дальше, потому что она имеет свой образ, свои очертания, свои границы. Это совсем не та сфера, в которую попал Юрий, бесформенная и безграничная, и от которой может сорвать крышу. Всё в этом мире конкретное и предметное, и более того, ни на что не похожее, на другое. В этом мире не может появиться другая Агния, даже если бы родилась её сестра близнец, она бы уже не была Агнией. Именно поэтому мы любим то, что любим. И если даже мысль стремится к бесконечному, к постижению бытия в целом, то всё равно есть пределы, ограничивающие это бытие, из которого исходит внутренний импульс определённой предметности.
Конечно же, мы можем сравнивать себя с другими людьми и даже подражать им, но всё равно мы всегда будем оставаться самими собой. Вот я сравниваю себя с Людовиком Четырнадцатым и Жан-Батистом Люлли. Но как бы я не стремился им подражать, я всё равно останусь самим собой, и даже если я буду заимствовать чей-то жизненный импульс и чужие мысли, рано или поздно прорвётся мой собственный импульс и потекут только мои мысли, рождённые моим разумом. Это и есть наша собственная субстанциализация. Но как сделать так, чтобы моё «я» понравилось ей, как покорить мне своим «я» её душу? Пока что она своей красотой покоряет меня. Из всех семнадцати человек в этой аудитории меня интересует только она, и только ей я сейчас читаю эту лекцию. Она – единственная из всех живых сущностей в этом мире, и только её одну я хочу в этом мире видеть, говорить с ней и любить её. Вот так множественность всего мира превращается в единичность.
В то время, когда я излагал в аудитории свой взгляд на тему моей лекции, Агния, записывающая что-то в свою толстую тетрадь, вдруг подняла руку, глядя на меня. Я спросил её, в чём дело, и она сказала:
– Разрешите задать вам вопрос.
Я вопросительно посмотрел на неё, и она спросила:
– Какое отношение имеет философия к математике?
– Самое прямое, – ответил я, – в философии существуют такие категории, как множественность и единичность, а также понятия, как общее и частное. И без знания математики такие вещи сложно понимать, потому что они имеют прямое отношения к нашему предмету. Философия не может обойтись без математики так же, как и математика без философии. А иначе, зачем бы мы стали изучать эти предметы. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, то мы могли бы встретиться в нашей столовой во время обеда и поговорить об этом.
Агния кивнула мне головой и опустила взгляд к тетради. Я продолжил лекцию, так и не уяснив для себя, согласна она была со мной встретиться в обед или нет.
После чтения лекции я зашёл в нашу преподавательскую комнату, где никого ещё не было, а потом спустился в студенческую столовую, где обычно собирались все мои друзья, члены нашего Тёмного Братства. Нужно было хорошо подкрепиться, потому что я пропустил завтрак. Взяв две мясные котлеты с гарниром и чайник чаю, я сел за столик, где обычно мы собирались во время обеденного перерыва. Друзья ещё вели занятия в своих группах, но студентов в столовой было уже много. Агнии среди них не было. Глядя на них, я задумался о том, что происходило последние дни в нашем институте.
Кто он этот таинственный Луиджи? И почему он так привораживает меня к себе? Ему тоже нравится Моцарт. Моцарт не может не нравится кому-то, потому что он – бог в музыки, также, как и Пушкин – бог в поэзии. Несомненно, хоть люди и считают себя друг другу равными, но равенства, как такового, в природе не существует, потому что всё в мире находится на разных уровнях развития, иногда достигается равновесие, но оно тут же нарушается одной из сторон. Как же так получается? Ведь, именно, равновесие должно лежать в основе гармонии. Но если будет кругом вечное равновесие, то тогда не будет движения и прогресса. И Луиджи прав, ведь то равенство, которое создаётся людьми искусственно, является фикцией. Так как нет пределов совершенства, то даже на высших ступенях совершенства идёт борьба за более развитое совершенство. Ведь недаром говорят французы: «Лучшее – враг хорошего». Именно поэтому на самом верху стоят боги, умеющие делать всё и знающие всё. Чуть ниже стоят золотые люди, такие как Моцарт и Пушкин. Затем идут люди серебряные: Бах, Бетховен, Лермонтов, Фет. А ещё ниже: Берлиоз, Вагнер, Сен-Санс, Штраус, Дебюсси, а также Некрасов, Блок, Бальмонт и прочие таланты.
К какому же разряду я отношу себя? Неужели всего лишь к разряду Жан-Батиста Люлли? Несомненно, Луиджи по гениальности можно сравнить только с Моцартом. В глубине своей души и я надеялся причислить себя к этой же когорте, потому что всё в мире для меня открывалось очень быстро, и мне не доставляло особых усилий достичь какую-то придуманную мной вершину или цель, если я ставил её перед собой. И в жизни я относился ко всему по-моцартовски, беспечно и радостно. Даже в своих предметах, таких как физика или математика, мне не доставляло большого труда преодолевать все трудности в решениях сложных задач и уравнений. Внутри себя я чувствовал потаённые силы, некую могучую лёгкость творчества, которая помогала мне делать всё, что я бы не захотел. Я был одновременно математиком и физиком, но я мог стать и композитором, и музыкантом, и поэтом. Я способен был сочинять прекрасную музыку, потому что она всегда звучала в моей голове. Моцарт как-то сказал: «Сочинять – вот моя единственна радость, моя единственная страсть». И я, сколько себя помню с детства, был всегда сочинителем, обладающим, как и Моцарт, исключительным художественным здоровьем. Сравнивая себя со своими друзьями-коллегами в институте, я считал, что стою, как-то, особняком среди них.
Интересно знать, слышат ли они небесную музыку так же, как удаётся слышать её мне? А если они слышат её и, может быть, даже сочиняют её сами, то с кем их можно сравнить среди музыкальных знаменитостей? Несомненно, Олега я бы сравнил с Луиджи Росси или кем-то из той породы первооткрывателей, которые, как скажут что-то о чём-то, то так оно тем и становится. Сергей же соответствует Баху, Генделю, Глюку или Гайдну, а, может быть, и самому Гретри, одним словом, кому-то из когорты вычурного барокко. Андрей стоит на одном уровне с Бетховеном, потому что в отличии от экстраверта Олега с его ленивым вдохновением и лёгкостью подхода ко всем трудностям, он обладает усидчивым трудолюбием и упорством, превозмогая себя в преодолении невозможного, как Бах, который говорил друзьям: «Я вынужден работать, всякий, кто станет работать столько же, сколько я, добьется того же, что и я». Андрей тоже по характеру является таким же интровертом как Бетховен, склонным к внутренним переживаниям. Он так же, как и великий композитор, борется врукопашную со своим гением, и часто его задумчивое чело отражает муки какого-то скрытого творчества. Со мной же этого не происходит, я всё делаю играючи, но я глубже, чем они, погружаюсь в материал; я – Моцарт, потому что мне совершенно неведомы их муки. Я могу всё, чего хочу, а хочу лишь того, что могу. И моё творчество – это аромат моей жизни, именно поэтому я почувствую в Луиджи родственную мне душу. Он так же, как и я, беспечен и беззаботен, и похож на прекрасный цветок, который, как кто-то сказал, не даёт себе иного труда, кроме желания жить. В Луиджи, как и в Моцарте, чувствуется сама жизнь, и именно эта жизнь прекрасна и волшебна. Поэтому он видит так ясно все изъяны и огрехи нашей жизни, потому что сам их не приемлет. И я – такой же, как он. Но между нами стоит девушка – Агнесса, ради неё я способен свернуть ему шею, несмотря на то, что он имеет родственную мне душу. Странно, что мы оба одновременно появились возле одной девушки, которая нам нравится. Почему же мы не родились в разное время? А, может быть, мы жили всегда и всегда любили одну и ту же девушку. И на этой почве между нами происходило столкновение? А существовала ли Агния всегда? Судя по той картине в церкви на площади Навона в Риме, когда-то она тоже существовала.
Во время моей лекции я вдруг задумался над тем, кем же является Луиджи на самом деле, и почему он появился в моей жизни? Мне казалась, что от решения этого вопроса и разгадки этой тайны зависит, не только моя судьба, но и моя жизнь. Не помню, что я говорил студентам в моей лекции, но я хорошо запомнил то, что творилось в моей голове, и как я старался через свой несовершенный ментальный аппарат, называемый дискурсом или «связной речью», проникнуть за пределы своего собственного речевого инобытия, говоря об одном, а думая совсем о другом. Студенты внимательно меня слушали, и я им что-то рассказывал, но думал я совсем в другой плоскости. Я как бы одновременно превратился в оратора, и в этот же самый момент – в мыслителя, несвязанного с этим оратором; я раздвоился, потому что в каждой из этих сущностей мозг работал в разных направлениях. Я как бы сам в себе решал свои проблемы бытия и существования, что и являлось темой моей лекции. Но то, что я думал, отличалось от того, что я говорил.
Что же такое бытие, и чем оно отличается от существования? С одной стороны, учёные говорят, что пространство и время бесконечны по протяжённости и текучести, а с другой стороны, они же утверждают, что и пространство, и время всё же конечны и дискретны, прерывисты. Так как же им верить? И кто из них прав?
Сейчас физики, экспериментируя с ускорителями элементарных частиц, пытаются проникнуть в микромир и понять поведение микрочастиц в пространственно-временном континууме, чтобы иметь более точное представление о бытие. Проблемой бытия занимаются физики и математики для логического осмысления возможности чистого самопознания духа, стараясь соединить дух и материю, чтобы иметь полное представление о Вселенной в целом, в её взаимопроникновении макро и микромира. Они хотят из образа всего Всеобъемлющего, которое пока ещё составляет в определении абстракцию, выпестовать высшую конкретность, как объект с бесчисленным числом предикатов-определений.
Я поймал себя на мысли, что постоянно думаю о том, как этот огромный мир помещается весь в нашей голове? Неужели, сама наша голова является Вселенной? Как-то я вообразил свою голову театральным залом, в котором наши глаза играют роль сцены. Занавес поднимается и представление начинается. Но об этом можно говорить, когда мы присутствуем в мире в качестве «человека из театра», одновременно являясь зрителем и действующим лицом. Правда, когда мы являемся действующим лицом, то больше похожи на «человека на площади». А вот когда мы закрываем глаза и окунаемся в свой внутренний мир, то уже ощущаем себя «человеком в храме». Именно тогда наш мозг с головой разрастается до размеров Вселенной, в которой начинают множиться предикаты. Что же такое предикат? Ведь то средство, которое нам позволяет представлять Вселенную, является наша речь, очень простая по своему строению, где присутствуют главные составные части: подлежащие и сказуемое, на основе которых строится любое суждение.
При этом, как мы ещё знаем из школы, подлежащие – это предмет, а сказуемое – глагол. Это – как две основополагающие составные мира, определяющие пространство и время, состояние и движение. Пространство определятся вещами, предметами. Потому что пространство без предметов – это всего лишь пустота – ничто, что в нашем сознание не фиксируется никакой конкретикой, а время – это движение. Когда мы говорим, то в нашей речи всегда присутствуют предмет, пространство и движение, без которых мысль даже не может рождаться.
К примеру, когда я говорю: «Это – Луиджи», то слово «это» определяет пространство или пустоту, а имя «Луиджи» указывает в нём на присутствие определённой вещи или предмета с название Луиджи. Мы ещё можем говорить об одушевлённости или неодушевлённости, но кто знает, одушевлены предметы или не одушевлены? Живые они или мёртвые, ведь даже за видимым покоем всегда скрывается движение, как и в движении наличествует покой.
Или, к примеру, я говорю: «Луиджи идёт». Это – предмет в действии, где есть движение и время. «Луиджи стоит». Это – состояние покоя, но покой не может длиться вечно. Так что же такое предикат? «Луиджи – бог». Это – как раз и есть предикат-сказуемое, иными словами, то логическое сказуемое, что в суждении высказывается о самом предмете сужения, своего рода, уточнение, характеристика предмета, вскрытие его внутренней сущности, иными словами, это тоже движение, но уже движение, уходящие внутрь предмета в его сущность с целью выявления его сути.
По сути говоря, это – проникновение внутрь уже другого мира. «Луиджи – дьявол». Это – уже поворот в противоположную сторону, когда открываются другие атрибуты данной сущности, ведь вещь одновременно может быть и такой, и иной. И чего в предмете больше: божественного или дьявольского – можно понять только с течением времени, которое кинетически заложено в этом «стоящем» предмете, находящемся в покое. Бытие и поведение определяют суть самой вещи. Бытие всегда чревато поведением. Всё, так или иначе, когда-то проявлятся, «быть» подразумевает под собой «действовать», без этого вещи в этом мире не существуют.
«Луиджи – манипулятор с действительностью». Это – наиболее сущностный предикат, который в данный момент подходит к Луиджи. «Луиджи есть человек». Но человек ли он? По его же словам, получается, что он преобразовался в человека из птицы. Кто же он: человек или попугай?
И тут мне вдруг вспомнилось одно изумительное стихотворение Ду Фу, которое как ничто подходило к данной действительности:
Попугаем владеют печальные мысли:
Он умён – и он помнит про всё, что бывало.
Стали перья короче, и крылья повисли,
Много слов он узнал – только толку в них мало.
Но он всё-таки ждёт – не откроется ль клетка:
Люди любят – да держат в неволе железной.
И пустеет в лесу одинокая ветка –
Что же делать ему с красотой бесполезной?
Так может быть, Луиджи и есть тот попугай, которому удалось вырваться из золотой клетки и обрести в своей жизни новое бытие и новую реальность? Так в чём же состоит его новое становление, его новое бытие? Сам глагол действия «быть» уже является не просто состоянием отвлечённого наличия в этом мире, а есть некое сверхреальное присутствие в действительности, меняющее саму эту действительность. Бытие – это не просто предмет, явленный в мире, а некое сверхбытие высшей конкретности феномена, порождающее другое бытие внутреннего порядка, которое подчиняется только ему и изменяется по его воле.
Это, своего рода, – сверхбытие в бытии, предопределяющее состояние существования всех других вещей. Если обычное состояние существования всех вещей является золотой клеткой, где все мы живём и находимся, то сверхбытие является высшем осуществлением идеального существования в данной реальности. И философия, возникающая с этой действительностью, уже совсем стаёт другой, не такой, к которой мы привыкли, где под познанием истины понимается представление, которое полностью соответствует объекту, где истина ещё не совершенна, так как она находится в развитии и складывается в ряд отличающихся представлений одного от другого, и более позднее представление дискредитирует предыдущее, исключая его истинность, где постоянно обнуляется любая истинность, и не возникает ничего идеального, совершенного и абсолютного, где вся философия становится постоянной чредой заблуждений, где любые догмы лопаются как мыльные пузыри и становятся вопиющей противоположностью истине, и где сомнение становится законом, уничтожающим любую истину, и где человек постоянно ощущает себя одиноким диким гусем, летящим к неизвестному морю, именуемому Истиной. Он постоянно теряет своих друзей в этом полёте, улетая вперёд или в сторону, где ему открываются новые горизонты, потому что не все хотят лететь в одну сторону, и это вполне естественно, ведь не всегда стая долетает до того идеального моря, где есть личное счастье, поэтому она и есть стая, считая личное счастье несбыточной мечтой. И для того, чтобы обрести личное счастье, нужно покинуть стаю и на какое-то время стать одиноким, диким, обрести свою надежду и поставить перед собой свою личную цель. Поэтому, вероятно, стремящийся куда-то в запредельные дали гусь – такой же одинокий и дикий, как я, не имеющий ни друзей, ни попутчиков в движении к намеченной цели.
И я вдруг понял причину моей привязанности к Луиджи. Мне вспомнилось другое стихотворение поэта Ду Фу об одиноком гусе.
Дикий гусь одинокий не ест и не пьёт,
Лишь летает, крича в бесприютной печали.
Кто из стаи отставшего спутника ждёт,
Коль друг друга они в облаках потеряли?
Гусю кажется – видит он стаю, как встарь,
Гусю кажется – где-то откликнулась стая.
А ворона – безмозглая, глупая тварь,
Только попусту каркает, в поле летая.
Я представил пасмурное осеннее поле после уборки урожая и глупых ворон, летающих и каркающих над ним. Вот она – эта серая действительность наших будней, нашего повседневного бытья. Такую картину можно видеть и на площади большого города, где всегда – та же обыденность и скука, где даже суета толпы – какая-то размеренная и похожая на все другие дни без каких-то ярких происшествий и впечатлений. Жизнь, протекающая обычным скучным чередом. Однородная масса людских тел, однородная не выделяющаяся обстановка, всё – тускло, скучно и неинтересно. Это и есть наша жизнь на площади. При такой жизни очень трудно постичь истину, и жизнь может показаться человеку только одной своей стороной – внешней, где всё остаётся как бы однородным и никогда не меняющимся. Но ведь ещё когда-то Гераклит обратил внимание философов на неоднородность бытия и его изменения.
Так каков же наш мир, на самом деле: застывший в своей однородности и неизменности, или текуч, как полноводная река? И если только допустить, что в мире существует абсолютная подвижность бытия и абсолютная нетождественность следующих один за другим моментов, то тогда получается, что и мы все меняемся с этой текучестью бытия, и нет уже ничего постоянного, тогда и мы все являемся нечто таким, что постоянно меняется.