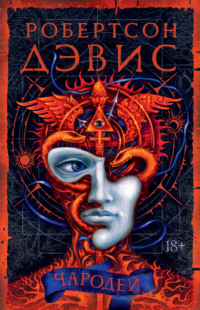
Чародей
Поэтому, когда я приходил, доктор всегда радовался. Он думал, что я прихожу восхититься им, подивиться его учености и широте познаний.
– Наука, Джон; наука правит миром. Взять, например, отца Лартига: он неплохой мужик для лягушатника, но что он может дать местным? Фокусы. Вот чем он занимается у себя в церкви. Он якобы превращает разбавленное вино и кусок хлеба, который его экономка-старуха Анни печет сама, в тело и кровь фокусника, который, по его словам, жил давным-давно в так называемой Святой Земле. Подумать только! И он ожидает, что индейцы в это поверят! Они не дураки. Даже не думай. Они смеются над ним за глаза.
Я вспомнил про Эдду с собакой отца Лартига и про бесчисленные тайные пакости, чинимые скучному, разочарованному, страдающему геморроем священнику из миссии. Но я не принял на веру все, что сказал доктор Огг о Христе.
– Доктор, вы не верите в Христа?
Доктор Огг срочно сдал назад. Если в высшем обществе поселка – то есть среди шести англоговорящих семей, так или иначе связанных с шахтой, и нескольких женщин-метисок – узнают, что доктор Огг хулит Христа, это не поможет его и так подмоченной репутации.
– Я верю, Джон, но в современном, научном смысле. Я только этих фокусов не люблю. Конечно, я полагаю, невеждам нужно рассказывать то, что они способны понять, – или думают, что способны. А чудеса они понимают гораздо лучше, чем науку, потому что для науки нужны мозги, и вот тут-то мы берем над ними верх. Наука правит миром, Джон. Ставь на науку.
Так я и сделал, насколько позволяли мои обстоятельства. То есть постепенно стал выполнять все обязанности фармацевта при докторе Огге. Работа была не тяжелая. Требовалось только освоить аптекарскую систему мер – 480 гранов на унцию и 12 унций на фунт. Тройскую весовую систему я уже знал от отца – он использовал ее для взвешивания редких крупиц драгоценных металлов, изредка попадающихся в округе. После тройской системы аптекарская далась мне легко. И вот я торчал на кухне у доктора Огга, которая по совместительству служила ему аптечной лабораторией; я смешивал совершенно неэффективные тонизирующие средства, скатывал пилюли, когда в них возникала нужда, время от времени толок пестом в ступе сырье для какого-нибудь бальзама (ибо аптека доктора Огга была оборудована чрезвычайно скупо) и получал представление о жизни поселка с медицинской стороны, чувствуя себя привилегированным доверенным лицом.
Миссис Чемберс, миссис Уайт и миссис Оуэн принимали один и тот же тоник, состоящий из пары щепоток медицинского ревеня и индийской сенны, разболтанных в дешевом красном вине, которое доктор покупал четвертными бутылями. Я полагаю, женщины следовали инструкциям и хорошенько встряхивали флакон, прежде чем принять столовую ложку два раза в день. Но не все тоники разводились в вине: попади такая бутылка к метиске, ее муж выпил бы содержимое одним глотком. Тоники для индейцев приходилось делать горькими (но не совсем отвратительными) и разводить дистиллированной водой. Доктор Огг черпал воду из собственного колодца, а дистиллировал ее я.
– Вот она, прибыль-то, откуда берется, – приговаривал доктор, когда я выстраивал на полке флаконы с гадостью, которые мы продавали по 75 центов за штуку.
Доктор также бойко торговал снадобьями от ревматизма, которые друг от друга особо не отличались. Спиртовую суспензию салициловой кислоты в той или иной форме смешивали с вазелином и щедрой добавкой винтергринового масла: эта смесь разогревала при растирании и издавала сильный «лечебный» запах. Конечно, она была практически бесполезна, но, как я быстро заметил, ревматики зачастую превращали свой недуг в дело всей жизни: они хотели не столько вылечиться, сколько быть в центре заботы и внимания. В особо тяжелых случаях и если лекарство предназначалось для метисов, которые всегда платили сразу, доктор иногда осмеливался подмешать туда мышьяк, иодид железа или то и другое; время от времени ему везло – попадался внушаемый пациент, которому на время становилось лучше.
Конечно, среди ревматиков было много больных гонорейным артритом, и доктор пичкал их хинином; кое-кто из больных даже пристрастился к нему. Венерические болезни попадались часто, и доктор занимал по отношению к таким больным совершенно ненаучную, но высокоморальную позицию. Предполагалось, что я о них ничего не знаю, но доктор был слишком болтлив и одинок, чтобы держать язык за зубами; он что-то бормотал про людей, которые плохо моются (хотя и сам не увлекался мытьем) и которые, приходя к нему, уже ковыляют, согнувшись пополам от запущенной хордеи.
Теперь я понимаю, сколь многие из этих болезней возникали от плохой воды, – жители поселка пользовались малочисленными колодцами, зачастую расположенными рядом с выгребной ямой, содержимое которой просачивалось в водоносные слои. Когда всю воду приходится таскать в ведрах, купание – глупая роскошь. Доктор часто утверждал (и вероятно, не лгал), что многие его пациенты не мылись с самого дня своего появления на свет. Кожа у жителей поселка шелушилась и покрывалась струпьями, а в складках образовывалась творожистая масса. Удивительно, что чем больше времени человечество проводит в горячей воде, тем оно здоровее.
Гонорея, многоликая, как Протей, была повсюду: дети рождались слепыми или умственно отсталыми, у мужчин был уретрит, а у их женщин – «бели» и иногда «гной в трубках». Зловонная слизь капала из мест, где ей не положено быть.
Время от времени к доктору приходил коновод с лесоповала, больной мытом, подхваченным от своих лошадей.
Однако, несмотря на все эти хвори, город не походил на больничную палату. Люди жили своей жизнью и вполне справлялись. Их болезни и снадобья, прописанные доктором, служили предметом долгих, неторопливых, шутливых вечерних бесед.
Конечно, некоторые болезни были очень серьезны. Сифилис доктор Огг лечил препаратами ртути, и редкие сифилитики расхаживали по городу характерной «штампующей» походкой. Часто встречался туберкулез; но лишь когда он приводил к инвалидности, доктор принимался за свою программу лечения – «сбрасывал болезнь через кишечник» с помощью смеси вареного хмеля и патоки, а затем больного подвергали голодовке, чтобы вывести из тела излишний углерод, который, конечно же, является причиной болезни. Не знаю, откуда взялась эта фантастическая теория, но все равно до появления антибиотиков любое средство от туберкулеза действовало лишь на воображение пациента.
Мне не понадобилось много времени, чтобы понять: доктор на самом деле очень мало знает и не усвоил ничего нового с момента получения диплома. О том, что доктор учился на врача в университете Торонто, свидетельствовал диплом в рамке, который висел (всегда криво) на стене в кабинете; он был скреплен несколькими неразборчивыми подписями, но доктор точно знал, где чья, и неизменно говорил о своих преподавателях фамильярно и с любовью: «старина такой-то» – ведь от них он получил столь ценимые им врачебные познания. Позже, когда я сам стал студентом медицинской школы того же университета, я нашел доктора в списках выпускников и обнаружил, что по результатам учебы он занял место в самом хвосте своего курса и за все годы не получил ни единого приза или иного отличия.
– Главное, не выпускай из виду, Джон, – говорил он, в очередной раз приложившись к бутылке бренди, стоящей в буфете, – наука правит миром. Держись науки, мальчик, и не ведись на шарлатанство. А его кругом полно. Взять, например, христианскую науку – слыхал про такую? Ее название – так называемый оксюморон, а кто в нее верит – тот настоящий морон[9].
Док обожал эту шутку и часто ее повторял.
Однако не следует быть неблагодарным. Нельзя сказать, что доктор обучил меня фармацевтике: у него слишком тряслись руки и он был слишком безалаберен, чтобы смешивать лекарства, требующие мало-мальской точности. Но он показал мне, как освоить азы фармацевтики. Благодаря доктору я научился смотреть на больных профессионально: без жалости и без презрения. И еще от него я узнал, каким пугалом может быть наука для того, кому, возможно, не повезло в жизни, кто, возможно, не получил должного развития, но кто, несмотря на все это, просто глуп.
Таков был суровый приговор, вынесенный мальчишкой. Да и весь мой взгляд на поселок Караул Сиу – это взгляд ребенка-эгоиста, ибо детям нужно быть эгоистами, чтобы выжить. Я уверен, что мои представления о поселке детские, но не примитивные. С тех пор я встретил множество глупцов гораздо более ученых, чем доктор Огг, нескольких юродивых, чья жизнь вызывала благоговение, а иногда ужас, и толпы глупцов обыкновенных, вульгарис, которые все же как-то прокладывали себе путь в жизни: они скользили по очень тонкому льду, отделяющему их от подлинного познания себя и окружающего мира, и умудрялись ни разу не провалиться. Поэтому я не считаю слово «глупец» презрительным или даже сколько-нибудь суровым определением.
Мне самому доводилось играть роль глупца под множеством личин, и потому я чувствую некое сродство с дураками, хоть и пытаюсь держаться подальше от их глупости, чтобы не заразиться. Ибо глупость – такая инфекция, на которую хваленая наука доктора ни разу не обращала свой циклопический глаз.
Тут до меня доходит, что Эсме ждет моего ответа. Все, что я раньше записывал каракулями в своем врачебном журнале и что составляет подкладку моей жизни, пронеслось у меня в голове относительно быстро. Но теперь я должен говорить.
10
Эсме выжидательно смотрит на меня, и я понимаю, что не ответил на ее вопрос о Чарли Айрдейле. Но, как я уже объяснил, эти вопросы могут воскресить во мне такую лавину чувств, что приходится подождать, прежде чем ответить, а то я сболтну что-нибудь нежелательное. Особенно по поводу Чарли. Наверное, я молчал секунд пятнадцать.
– О, конечно, я его хорошо помню. Весь первый школьный год мы жили в одной комнате.
– Это было обычным делом?
– Да. Мальчики старше двенадцати лет жили не в дортуара, а в комнатах на двоих, которые служили и спальнями, и кабинетом для занятий. Тоже очень мрачное место.
– Мрачное. Что вы имеете в виду?
– Обстановка состояла из двух армейских коек, двух одноящичных сосновых столов, двух стульев и двух шкафчиков для одежды. А, да, еще было небольшое зеркало и умывальный прибор.
– Что такое умывальный прибор?
– Какая вы счастливая, что не знаете. Это тумбочка, на верху которой стоят фарфоровый кувшин, таз и мыльница. Проточной воды в комнатах не было – ее приходилось носить из крана в коридоре, и она никогда не была по-настоящему горячей. Тумбочка под умывальником по идее предназначалась для ночного горшка, но такой роскоши нам не полагалось; для отправления низменных нужд мы были вынуждены топать в конец коридора, где находились писсуары, ванны и ватерклозеты.
– Звучит по-спартански.
– Мы и жили по-спартански.
– И ваши родители платили за это большие деньги?
– Нет, они платили за образование. Телесные удобства были минимальны. Конечно, я говорю о пансионерах. Нас было сотни две, а приходящих учеников примерно вдвое больше. Мы, пансионеры, полагали себя – и не без основания – сердцем школы.
– В тюрьме условия и то лучше.
– Заключенным в тюрьме нужна роскошь; они не располагают интеллектуальными ресурсами. Я не стану жаловаться на жуткие условия жизни в Колборне. Не дождетесь. Меня тошнит от писателей, которые скулят по поводу своих школьных дней. Давайте закроем этот вопрос. Кормили нас ужасно, условия жизни были примитивные, но мы знали: мы здесь не для того, чтобы наслаждаться жизнью, а для того, чтобы приготовиться к ее тяготам. В целом, я считаю, это была удачная программа.
– Прямо какой-то девятнадцатый век.
– Не совсем. Но безусловно, не загородный клуб, в какие, по слухам, превратились школы для мальчиков в США. Я много раз говорил и сейчас еще раз повторю, что мальчик, способный отучиться в хорошей школе и выйти оттуда целым, скорее всего, готов к большинству испытаний, которые может подкинуть ему жизнь.
Я не собираюсь рассказывать Эсме о системе шестерок, все еще процветавшей в Колборне в мое время. Мальчиков-первогодков – «новеньких» – отдавали ученикам третьего и более старших классов практически в слуги: шестерки чистили обувь и одежду хозяина, собирали грязное белье для стирки, пересчитывали и раскладывали по местам пришедшее из стирки, надраивали пуговицы на кадетском мундире хозяина и, если он был офицером, начищали его саблю; бегали по мелким поручениям, приволакивали дорожные сундуки хозяина из подвала в первый день каникул и вообще делали все, что велено, и не жаловались. Конечно, некоторым мальчикам эта система была ненавистна. Шелли ненавидел ее, когда учился в Итоне, но наш мир не может позволить себе слишком многих Шелли. Я лично думаю, что мальчику из привилегированного слоя общества не мешает узнать на своей шкуре, каково быть слугой.
Время от времени шестерки получали необычные задания: мой хозяин, зачаточный Гитлер по фамилии Мосс, воспылал страстью к одной ученице соседней школы для девочек имени епископа Кернкросса; сам не имея литературного таланта, он потребовал, чтобы я сочинил стихотворное приношение его богине. Через час я положил ему на стол вариацию на тему бесчисленных «Од к Селии» елизаветинской эпохи – их авторы страдали той же болезнью, что сейчас Мосс. К несчастью, богиню звали Путци (уменьшительное от Пруденс) Ботэм, и мое творение начиналось довольно неуклюже:
О Путци! Мой смутила дух:Свежа, как роза, нежна, как пух,Мои мученья прекрати,Своей любовью освети[10].Мосс тут же переслал этот мадригал Путци, но, поскольку не обладал хитростью истинного влюбленного, переписал его на бланке колледжа и отправил в конверте с гербом колледжа на обороте. Поэтому, когда письмо попало в руки девочек, раздающих почту, вся школа тут же узнала, что Путци получила любовную записочку. Путци тут же завалили просьбами прочитать послание вслух, и она не устояла. Ее соученицы были не елизаветинские девы, а закаленная торонтовская молодь, играющая в лакросс, и стихи их насмешили; Путци согласилась с их вердиктом и выложила Моссу по телефону все, что думала по этому поводу. Разумеется, Мосс обвинил в своем провале меня; он несколько дней осложнял мне жизнь, но и я, как изобретательный слуга, не растерялся и каждый раз плевал в стакан воды, который по требованию Мосса приносил ему вечерами во время занятий. Однако эта история до некоторой степени подняла мой авторитет: теперь я слыл человеком, который способен по заказу произвести на свет любовную поэзию – настоящую, хотя, возможно, и не очень хорошего качества.
Конечно, я поделился тайной стихотворения с Брокуэллом Гилмартином. Он пришел в восторг и каждый раз, встречая Мосса в коридоре, почтительно приветствовал его, будто благоговея перед истинным влюбленным и поэтом.
– Улыбку дамы в сердце сохранитБез памяти влюбившийся пиит[11], —бормотал Брокки, взирая на Мосса с собачьим обожанием. Мосс подозревал, что над ним смеются, но, с другой стороны, это могло быть подлинное восхищение, которое он всегда жадно впитывал и никак не мог насытиться. Как я уже сказал, Брокки стал для меня одним из двух источников силы, одним из двух друзей, во время тяжелого первого года в Колборне. Другим был Чарли Айрдейл, с которым я, по счастью, попал в одну комнату.
Это стало невероятной удачей и для меня, и для Чарли – кое-какие его привычки могли бы доставить ему неприятности, будь его соседом кто-нибудь другой. В самую первую ночь он удивил меня тем, что встал на колени у кровати и молился минут десять как минимум. Сам я никогда не молился: родители мои были номинально христианами, но обрядов этой религии не соблюдали, только праздновали Рождество и Пасху. Но я знал, что такое молитва, и удивился, что ей предается мой одногодок: мне почему-то казалось, что к религии приходят в старости, если вообще приходят. Думаю, ни один ученик Колборна, кроме Чарли, так не молился, хотя кое-кто, вероятно, наскоро бормотал что-нибудь перед сном, накрывшись одеялом. Молитва была обязательным занятием, которому отводилось время и место по расписанию: в воскресенье утром, в церкви. Но вот он, Чарли, совершенно очевидно верующий, стоит на коленях у кровати.
Я бы ничего ему не сказал, но где-то через неделю он сам заговорил об этом:
– Я ни разу не видел, чтобы ты молился.
– Я не молюсь.
– А как же ты подбиваешь баланс?
– Какой баланс?
– Своей жизни. Как ты следишь, в какую сторону движешься? А если что-нибудь не так, как ты узнаешь, почему оно не так? А как ты просишь о помощи, если надо?
– А при чем тут молитва?
– При всем. Она нужна в том числе и для этого.
– В том числе? Что значит «в том числе»? Разве молиться не значит просто выпрашивать всякое?
И тут Чарли, мой ровесник, изумил меня, прочитав краткую, но емкую лекцию о трех видах молитвы: просительной – когда молишься о помощи и о ниспослании сил для себя; заступнической – когда просишь о помощи и о ниспослании сил для других; и созерцательной – когда утихаешь духом и молча пребываешь перед Господним величием.
– И ты думаешь, это помогает?
– Я не думаю, я знаю. И ты бы знал, если бы задумывался об этом. Это важная часть войны против дьявола на всех фронтах. И сражаться должны все. А ты плывешь по течению, а потом жалуешься, когда попадаешь к дьяволу в оборот.
В то время дьявол меня не слишком волновал, и Чарли не убедил меня обратиться к молитве, но я слишком высоко ставил его, чтобы над ним смеяться. Теперь я понимаю, что в своем отношении к религии ничем не отличался от миллионов взрослых людей, считающих, что религия – это очень хорошо, но в тоже время как-то дико, она притягивает к себе слишком много психов и причиняет слишком большие неудобства. У Чарли были и другие обычаи, не такие впечатляющие, которые я наблюдал молча, но считал их… ну… возможно, нездоровыми.
Чарли постился по пятницам и в некоторые другие дни; это не бросалось в глаза, просто он ел мало и выбирал самую простую пищу из всего, что было на столе. Никто не замечал, а если и замечали, то, вероятно, решали, что ему нездоровится. И еще он каждый день сидел с маленькой черной книжечкой, не похожей на обычный молитвенник, с надписью на обложке: «Монашеское ежедневное правило». А в свободное время (которого у Чарли было очень мало, поскольку он медленно усваивал учебный материал и вынужденно тратил каждую минуту на подготовку к завтрашним урокам) он читал толстый том под названием «Золотая легенда». Его и «Правило» Чарли держал у себя в столе, а поскольку школьный кодекс чести запрещал заглядывать в чужие столы, я видел эти книги только мельком.
Если не считать странного для мальчика увлечения религией, Чарли был обычным школьником – может быть, чуточку умнее среднего, хотя этот ум не помогал ему в учебе. Мы с Брокуэллом Гилмартином обожали Чарли за его шарм и остроумие. Чарли постоянно болтал, метко комментируя поступки некоторых мальчиков из числа лучших учеников, – они были очень высокого мнения о себе и не понимали, почему другие не хотят брать с них пример. Чарли никогда не был злобен, но всегда – наблюдателен, и, когда он передавал нам разговор с одним из этих светил или описывал какое-нибудь столкновение с ними, его описания содержали ровно в меру веселой иронии, чтобы мы с Брокки не могли от них оторваться. Чарли будто смотрел на жизнь под особым углом; впрочем, так оно и было, ведь он описывал жизнь в Колборне sub specie aeternitatis[12], насколько это в силах школьника. Он смеялся, и смеялся заразительно; Брокки и я наслаждались его обществом.
Это не показалось бы странным, если бы нас не разделяла пропасть, очень важная в школе: Чарли плохо учился, за исключением истории, которая легко давалась ему и по которой он даже получил награду в своем последнем учебном году. Но его часто ругали за проваленные контрольные или плохо сделанную работу, и к концу недели он набирал кучу нарядов, которые приходилось отрабатывать в субботу после обеда. Мы с Брокки, однако, учились хорошо, получая грамоты и призы, а если и ловили случайный наряд, то обычно за туманное, но всем понятное нарушение, называемое «нахальством», то есть недостаточное уважение к старшим и предполагаемым высшим. Брокки был чрезвычайно нахален.
То было нахальство мальчика, знающего, что интеллектом он превосходит остальных учеников школы, а также кое-кого из учителей. Ибо учителя были обычной пестрой компанией – от подлинно ученых, много в жизни испытавших, отличившихся храбростью на войне или чем-либо еще, достойным уважения, до тупиц, бубнящих из года в год одни и те же вызубренные уроки, – комьев глины, не оживленных искрой ума. В семье Брокки доминировал отец, выбившийся из низов собственными усилиями; в отличие от многих ему подобных он остался довольно приличным человеком и передал сыну свой взгляд на жизнь – взгляд того, кто барахтается изо всех сил, удерживая голову над волнами. Брокки хотел пойти в науку, но не питал иллюзий по ее поводу – не считал, что это чем-то лучше занятий политикой или работы в промышленности. Отец научил Брокки отторгать то, что в те дни звалось модным словечком «туфта» и что можно было наблюдать повсюду. «Это туфта», – констатировал Брокки по многу раз в день, и обычно не без оснований. Однако он не был поверхностным отрицателем всего; он во многих областях отличал достойное от недостойного. Когда я однажды рассказал, что мой отец занимается извлечением и очисткой серного колчедана, Брокки заметил, что умеет отличить обманку от настоящего золота.
– В таком возрасте? Да вы шутите. – Эсме думает, что я предаюсь любимому занятию стариков – приукрашиваю прошлое.
– Отнюдь нет. Умная молодежь удивительно рано учится отличать зерна от плевел. Брокки, несомненно, принадлежал к умной молодежи – и стал выдающимся ученым, как вы, наверное, знаете.
– Боюсь, что нет. В моей работе подобные люди всплывают нечасто.
– Тогда, вероятно, вам придется поверить мне на слово. И авторитет в своей области он завоевал, именно очищая истину от шелухи, а это редкий дар. В университетах туфта встречается нередко. Но возможно, вы об этом знаете.
– О да, наслышана. Но продолжайте рассказывать о школьной жизни. Вероятно, вы трое на фоне остальных учеников выглядели странной компанией.
– Нет. Но директор еженедельно произносил перед нами речи, и его призывы запечатлелись у меня в душе и во многих других школьных душах. «Вам много дано, – гремел он, бывало, – но с вас много и спросится». И он был прав. В Колборне учились дети не только из богатых семей, но все, кто попадал туда, происходили в том или ином смысле из семей привилегированных. И директор вдолбил нам, что мы обязаны оправдать унаследованные нами места в обществе. Конечно, мы над ним насмехались, но слова его запомнили.
Вероятно, это сильно сказано, но я чувствую, что Эсме тонкостей не понимает. Я продолжаю: по моему мнению, мы с Брокки и Чарли иногда ставили директора в тупик, поскольку не обожали спорт, как положено мальчикам. Это потому, что нас не волновало, кто станет победителем в игре со строгими правилами, где умение проигрывать ценилось едва ли не выше, чем умение выигрывать; мы готовились к игре, которая начнется после окончания школы, – игре, в которой правила меняются часто и внезапно, – и твердо намеревались стать победителями. И стали, каждый по-своему.
Эсме эти слова неприятны.
– В каком смысле вы стали победителями?
– Я же сказал. Брокки известен как литературовед и автор признанных трудов по своей специальности. Меня знают в медицинском мире как автора ряда необычных концепций. Я опубликовал несколько работ, привлекших внимание, и завоевал репутацию хорошего диагноста, отчасти мутную.
– Мутную? Отчего же мутную?
– Вероятно, я зря это сказал. Это не имеет отношения к тому, о чем вы хотели поговорить.
– Ясно. А что же Чарли? О нем хоть кто-нибудь слышал?
– Может быть, однажды услышат. Его решимость не посрамила бы и святого.
– А! Опять святые. Вы собираетесь говорить об этой истории с канонизацией?
(Нет, дорогуша, не собираюсь, и мне стоит последить за своим языком. Как бы увести ее от этой темы?)
– Если вы хотите лучше понять Чарли, наверное, мне следует побольше рассказать о его школьных годах.
– Ну… Если вы считаете, что это нужно…
11
Школьные годы. Сколько туфты, если использовать любимое словечко Брокки, о них написано! Невинные души вспоминают свои школьные годы как золотой век, когда мир был молод, когда редкие разочарования служили только фоном, оттеняющим яркие моменты счастья, и когда цепочка незатейливых влюбленностей вносила в каждую жизнь что-то вроде третьесортной поэзии. Сравните это с утонченными душами, которые ненавидели всякое подчинение, подозрительно относились к любым правилам, уставам и распорядкам; любовь для них обернулась обманом, а жизнь – тюрьмой, и они бросились грудью на шипы жизни и обильно истекли кровью автобиографий, повергающих читателя в уныние. И все же представители обеих групп научились читать (не обязательно понимая прочитанное) и писать (не обязательно при этом выражая какую бы то ни было связную мысль или мнение); а также считать – настолько, чтобы их не обманули в магазине со сдачей и чтобы совершать элементарные операции по своему банковскому счету, но не слишком глубоко погружаясь в мир чисел. Очень редко бывает, чтобы школьные годы прошли совсем без пользы.

