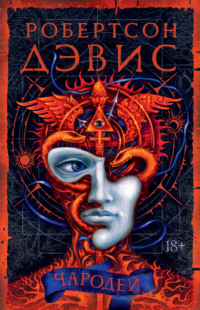
Чародей
Нытики, ненавидевшие свою школу, обычно зануды. Представителей же более многочисленной группы, видящих в школе лишь фон для своих юных лет, можно слегка пожалеть: они начали жизнь с непонимания, которое гораздо позже может привести их ко мне на консультацию, с жалобами на неопределенные, но много говорящие мне болезни.
После того как мы с Брокки познакомились, или во всяком случае осознали существование друг друга (на той линейке, где Солтер объявил нас «небелыми», потому что наши фамилии показались ему необычными), я столкнулся с ним в коридоре. У него в глазах таилась искорка.
– Какой ты высокий! – произнес он.
– В самом деле?
– Кто у тебя портной?
– Портной? У меня нет портного.
– Я так и предполагал благодаря своей невероятно острой интуиции – это одна из моих выдающихся черт. Так, может, тебе завести портного?
– Что ты несешь?
– Прошу прощения. Я решил воспользоваться репликами мистера Тутса при первой встрече с Полем Домби. Ты читал «Домби и сына»?
– Нет.
– Вообще не знаешь Диккенса?
– Я читал «Рождественскую песнь».
– Святые угодники! И это притом что ты живешь в Карауле Сиу!
– Слушай, Гилмартин, меня уже задолбали этим Караулом Сиу. Заткнись, понял?
– Слушаю и повинуюсь, о великий! Позволь мне объясниться: я начал разговор с тобой словами бессмертного мистера Тутса, когда он впервые встречает Поля Домби в академии доктора Блимбера. Прошу прощения за излишнюю литературность, но, видишь ли, таков колорит моего ума. А каков колорит твоего ума? Не важно, потом выясним. Но – и ты понимаешь, что я прибег к цитированию, чтобы мои слова не прозвучали слишком оскорбительно, – мистер Тутс спросил маленького Поля, кто его портной, потому что Поль был очень смешно одет. А ты знаешь, что ответил маленький Поль?
– Что?
– Он сказал: «На меня шьет женщина. Та же, что и на сестрицу»[13].
– У меня нет сестры. Так ты что, хочешь меня оскорбить?
– Нет, но мне определенно не удалось тебя очаровать. Я просто хотел посредством цитаты намекнуть, но у меня не получилось – так ведь? – что твоя одежда, весьма вероятно, станет мишенью для насмешек дикарей вроде нашего общего друга Солтера.
– Что не так с моей одеждой? Все, что на мне, куплено по школьному списку.
– А! Это все объясняет. Но ты спросил, что не так. Дорогой мой, этот воротничок…
– Я не вижу, чтобы кто-нибудь, кроме меня, носил такие.
– И не увидишь, разве что на Хеллоуин. Скажи, когда ты в последний раз видел стройного юношу (это я про тебя) в воротничке шириной полтора дюйма, уже натершем на его невинной шее красную полосу?
– А разве они не обязательны?
– Нет. Я даже не буду вдаваться в подробности. Просто НЕТ. У тебя деньги есть?
– Есть немного.
Денег у меня было много – отец дал, – но из осторожности я носил их во внутреннем кармане, застегнутом на все пуговицы.
– Тогда послезавтра, поскольку это будет суббота, мы с тобой пойдем в даунтаун и купим кое-какой одежды, чтобы переместить тебя из девятнадцатого века в двадцатый. До тех пор, видимо, тебе придется носить этот ужасный хомут.
Брокки был прав. Родители, вне себя от счастья, что я сдал экзамены (которые, к моему изумлению, пришлось держать в кабинете у доктора Огга и, предположительно, под его наблюдением, ибо он оказался единственным, кроме моего отца, выпускником университета в Карауле Сиу), однако удивились списку одежды, присланному из школы вместе с извещением, что меня приняли. В списке перечислялись необычайные вещи: дюжина жестких воротничков и столько же белых рубашек, к которым их можно пристегивать, майки с длинным рукавом и соответствующие кальсоны, три пиджачных костюма, в том числе по крайней мере один темно-синий или черный, жесткая шляпа фасона дерби; гетры – по желанию. Отец повез меня в Торонто и послушно купил все вещи из списка, немало изумив галантерейщиков тем, что они предназначались для мальчика четырнадцати лет; галантерейщики все еще держали небольшой запас таких воротничков для пожилых клиентов, чьи шеи от подобной сбруи стали кожистыми, как у черепахи. Отец что-то бормотал себе под нос, вероятно подозревая, что школьный список одежды не менялся с конца прошлого века. Но предположил, что таковы обычаи в престижных старых школах; и если бы в списке требовались печеночный пластырь или двусторонняя манишка, отец обязательно откопал бы их где-нибудь.
Суббота пришла как избавление, потому что мальчики, учащиеся в одном «доме» со мной, уже начали высмеивать мой внешний вид, и даже руководитель «дома» мистер Норфолк чуть морщился при виде меня. Брокки перебрал мою одежду и объявил, что костюмы, носки и прочее приемлемы, но от ужасного нижнего белья, рубашек и особенно воротничков следует избавиться. Он предложил отнести их в миссию «Гренфелл», поскольку эскимосы, как их тогда называли, – большие любители жестких воротничков. Мы купили несколько приличных мягких рубашек с пришитыми воротничками и белье, которое не превращало сентябрьский день в турецкую баню, и я преобразился. Собственно, Брокки так и сказал:
– «Преображенный урод», драматическая комедия великого лорда Байрона, не читанная практически ни единой живой душой, кроме меня, и, я тебя уверяю, смешного в ней мало. Но название удивительно подходит, как ты думаешь?
Брокки и Чарли открыли мне новую вселенную. Я впервые увидел мальчиков, живущих душой в таких мирах, которые мне и не снились. Конечно, я был неглуп, но при этом подобен силачу, сроду не напрягавшему мышцы. Мой ум привык к мечтаниям в лесу и к зоркому наблюдению в двух очень разных приемных – у миссис Дымок и у доктора Огга, – но я еще не встречал людей, превосходивших меня умственно, а такие встречи – могучий стимул интеллектуального развития. До сих пор я жил в мире, где был самым умным и потому мог не напрягать мозги. Я много читал, но мне не приходило в голову использовать прочитанное как неистощимый источник аллюзий и мысленных сальто-мортале, подобно Брокки. Когда он процитировал «Баллады Бэбса», чтобы подразнить Мосса, я подпрыгнул от удивления: я впервые встретил человека, который тоже читал эти баллады и ценил их.
В лесах я много ощущал и глубоко чувствовал, но мне никогда не приходило в голову связать подобное созерцание с чем-то далеким и отталкивающим – с религией, о которой я имел очень скудные и притом варварские представления, – и Чарли пробудил меня ото сна невежества. Учился я без труда, но от знакомства с мирами Брокки и Чарли у меня голова шла кругом.
Конечно, я всю жизнь жил одиночкой, и вдруг меня швырнули в гущу шумной, бурлящей толпы из шестисот мальчиков, корпящих под игом учителей – шутников, озлобленных, ретроградов, а иногда попросту садистов; учителей, которые отличились на войне, а теперь подвизались в единственной профессии, доступной тем, кто не умел ничего, кроме войны; учителей, которые объездили весь мир и бросили якорь в Колборне; учителей, которые в юности подавали большие надежды, а теперь чувствовали, как эти надежды умирают год за годом; учителей от Бога, которые превращали учебу в увлекательное приключение; учителей, уныло участвующих в унылом взаимодействии между не желающими учиться и не желающими учить; притом вид этих последних был по иронии судьбы весьма поучительной картиной. Все это приводило меня в замешательство, я терялся, но в то же время у меня захватывало дух. Меня вырвали из знакомой жизни и бросили в другую, и каждый день приносил сюрпризы.
Одним из них было то, что я недавно начал видеть сны, знакомые всем мальчикам, – сны, в которых переживаешь разнообразные совокупления и в конце неизменно выстреливаешь обильной горячей спермой, от которой остаются пятна на простыне, а пижамные штаны, засохнув, становятся жесткими, как те несчастные воротнички, от которых избавил меня Брокки. Я не знал, что делать с этими снами, пробовал их прекратить усилием воли – безуспешно – и гадал, не чудовище ли я, снедаемое неестественной похотью. Поэтому меня страшно поразило, когда как-то утром Брокки зашел ко мне в комнату – ко мне и к Чарли – и объявил:
– Господа, я на седьмом небе! Сегодня ночью я был в плену у La Belle Dame Sans Merci[14], а после этого в мозгах наступает удивительная ясность.
– О чем ты говоришь? – буркнул я, мрачный, как всегда в первые полчаса после пробуждения.
– Ну ты знаешь… прекрасная дама, которую встречаешь во сне и покоряешься ей… о, так нежно… пока нежность не уступает место экстазу… дала мне манну, дикий мед… В среднем пару раз в неделю она уводит меня в свой волшебный грот и… тадададам! Просыпаешься печален, бледен, одинок[15], но вскоре становится так хорошо! Я очень горжусь, что она является ко мне в столь прекрасном романтическом обличии. В этой школе найдутся троглодиты, которые хрюкают и сопят во сне, когда на них находит темный припадок. Мне страшно думать, в какой форме Лилит-суккуб является к… ну, скажем, к моему хозяину Солтеру. Он сушит свои пижамы на батарее, и в его комнате разит запекшейся солтеровой спермой. Интересно, какое у него будет потомство.
Чарли яростно краснел. Я знал, что он ненавидит эти ночные посещения и всячески старается их скрыть, но, как уже было сказано, я наблюдателен. Интересно, подумал я, в каком виде Лилит-суккуб – Лилит Древняя, Первомать – приходит к нему. Я слишком хорошо знал, какой она является мне. Порой – страстная юная красавица, и я даже не знаю, откуда взялся этот образ, ибо наяву вокруг меня не было ни одной страстной юной красавицы. Тогда я думал, что мир яви – единственный, где можно обрести истину; мое знакомство с миром снов состоялось много позже. Порой суккуб приходил в виде омерзительной карги, причем неоднократно – в облике миссис Дымок: она трясла у меня перед лицом гремучей змеей и гадко хохотала, когда я поддавался неотразимой тяге соблазнительного сна. La Belle Dame Sans Merci — да, такую форму этот сон тоже иногда обретал: любовь, в которой жертва – мужчина, в которой не он берет, а его берут.
Чарли никогда не говорил о сексе. Если начиналась болтовня на эту тему – что бывало часто, конечно, – он молчал и незаметно смывался. Однажды, когда я, фигурально выражаясь, загнал его в угол, он сознался, что понимает: это неизбежная и необходимая часть человеческой природы, но он собирается принести ее в жертву делу своей жизни, к которому он, как точно знает, предназначен. Именно тогда он признался мне, что намерен стать священником.
Не то чтобы он это скрывал. Когда в школе праздновали Хеллоуин, Чарли явился в банном халате, призванном изображать подрясник священника; свернутая простыня заменила стихарь, а накинутый сверху шарф – епитрахиль. Костюм имел огромный успех. Несомненно, он был одним из самых продуманных среди импровизированных костюмов того вечера. Но то были внешние признаки священства; а его тайную суть Чарли хранил очень близко к сердцу.
Так мы путешествовали через Колборн-колледж. Мы состояли в музыкальном клубе и ходили на концерты, которые для меня значили больше, чем для Брокки: ему медведь на ухо наступил, что нередко встречается у литераторов. Брокки сам об этом знал и сравнивал себя с Йейтсом. Но он понемногу совершенствовался, хотя я не знаю, какую роль на самом деле играла в его жизни музыка. Потом я узнал, что он получает большое наслаждение от Чайковского. Я не хочу сказать ничего плохого об этом великом, недооцененном композиторе, но он все же не Бах, предмет моего особого и иногда пуританского поклонения. Я много лет был Бахо-снобом.
А кто не стал бы Бахо-снобом под руководством Ричарда Крейги, старшего из двух учителей музыки в школе? Он заводил нас далеко в поля музыки, но всегда возвращал домой, а домом был Бах. Я всецело подпал под влияние мистера Крейги и теперь понимаю, что он вел меня туда, где должно было открыться одно из главных дел моей жизни – развитие культуры в Торонто.
Конечно, тогда я не думал об этом именно такими словами, ведь по сравнению с Караулом Сиу Торонто был не менее чем Афинами, и все, что происходило там в смысле музыки, становилось для меня откровением. Симфонический оркестр, который, преисполнившись надежд, начинал очередной сезон, по нынешним временам провалился бы с треском, но тогда был смел и настойчив. В те дни хорошие музыканты обретались в оркестрах кинотеатров, поскольку кино еще было немым; показ фильмов сопровождался оркестровой музыкой. Музыканты, которых уже тошнило от романса Чайковского «Нет, только тот, кто знал» и финала увертюры к «Вильгельму Теллю» Россини, организовали свой оркестр и, когда не обслуживали Бебе Дэниелс или Коллин Мур – то есть днем, часов в пять, – давали концерты, исполняя общепризнанно прекрасные произведения. Мистер Крейги рассказывал, что музыканты получают за выступление в этих концертах меньше чем по пяти долларов на брата, но освежают душу хорошей музыкой, как и зрители. Иногда представления были плохо отрепетированы; время от времени звали любителя, играющего на каком-нибудь необычном инструменте (я помню маленького англиканского священника, приходившего с бас-кларнетом, когда требовалось); но этот оркестр был больше и лучше всего когда-либо слышанного зрителями, а его долготерпеливый дирижер, Констан Геблер, поддерживал гораздо более богатый репертуар, чем можно было ожидать от – по мнению особо утонченных меломанов, чья оценка была основана на радиотрансляциях выступлений великих американских оркестров, – сколоченного наспех ансамбля.
Десятку меломанов из Колборна разрешали ходить на эти концерты, и я не пропустил ни одного. По сей день я все прощаю оркестрам, которые работают над собой, стремясь ввысь, пока критики твердят, что эти оркестры – не Венский филармонический и никогда таковым не станут.
Чарли и Брокки тоже ходили на концерты, но им гораздо больше понравился первый опыт Торонто в постановке оперы – «Гуртовщик Хью». Мистер Крейги заверил нас, что это прекрасная вещь, и оказался прав. Это до сих пор единственная «большая» опера, в которой сюжет крутится вокруг боксерского поединка – английского, а не итальянского способа решить, кто получит девушку. Гуртовщик Хью и Мясник Джон должны уметь не только петь, но и боксировать; возможно, именно поэтому ныне такая прекрасная опера несправедливо забыта. Была также замахнувшаяся на многое постановка «Гензеля и Гретель» с четырнадцатью настоящими ангелами, которые торжественно танцевали вокруг спящих детей, время от времени роняя перышко-другое. И конечно, приезжали с гастролями настоящие оперные коллективы – например, труппа Фортуне Галло, которая привезла «Аиду», почти подлинно египетскую по духу благодаря тому, что главную партию пела молодая краснокожая индеанка-сопрано. Еще был «Фауст», в котором художником-оформителем выступал Норман Бел Геддес, и мы сочли эту постановку ужасно передовой. «Фауст» всегда приводил меня в недоумение и до сих пор приводит: если Фауст такой умный, зачем он продал душу дьяволу, чтобы лишить девственности Маргариту и сделать ей ребенка? Она, конечно, милая девушка, но глуповата. Брокки сумел пролить свет на этот вопрос: стало ясно, что мужчины блестящего ума часто делают глупости из-за женщин. Он доказал это личным примером, к счастью – без смертельного исхода, вскоре после окончания Колборна.
Мы практически поселились в райке театра имени королевы Александры; мы проводили там каждый субботний вечер, а когда в Торонто на несколько недель приехала труппа шекспировских актеров из Фестивального театра Стратфорда-на-Эйвоне, мы поглотили восемь шекспировских пьес разом и переварили, насколько позволяла наша жизненная неопытность. Нам открылось великолепие, о котором мы, дети Нового Света, не знали почти ничего. Великолепие Шекспира, воспринимаемого так, как он сам предпочитал, – через театр. Нам открылся бездонный океан мифа и поэзии, в котором Брокки плескался на мелководье, никогда не заходя глубже. Но в сценического Шекспира мы погрузились с головой, и лично я так никогда и не оправился от этого погружения. В Колборне мы изучали кое-какие шекспировские пьесы – «Юлия Цезаря» и вторую часть «Генриха IV», видимо выбранные за отсутствие развратных женских персонажей, и «Как вам это понравится», из которой все неприличные намеки были вымараны. Но я твердо держусь мнения, что детям не нужен печатный Шекспир: если они не могут знакомиться с ним в театре, значит лучше вовсе с ним не знакомиться. С тем же успехом можно заставлять детей читать симфонии Бетховена.
– Мне дали увольнение на сегодняшний вечер, чтобы поужинать с отцом, – сказал однажды Брокки, – и я подумал, что могу заодно купить нам билеты на те четыре субботы, когда здесь будет Д’Ойли Карт. Надо думать, вы тоже хотите пойти?
– Что такое Д’Ойли Карт? – спросил я.
– Боже! Говорит Караул Сиу! Он не слыхал про Д’Ойли Карта! А однако же, он свободно и к месту цитирует творения великого У. Ш. Гилберта и порой пропевает мотив из Артура Салливена. Знай, жалкий невежда, что оперная труппа Д’Ойли Карта – единая, святая и апостольская хранительница опер Гилберта и Салливена! Знай, что Ричард Д’Ойли Карт – тот самый импресарио, что свел вместе и удержал двух гениев, которым иначе вряд ли суждено было встретиться, и они произвели на свет столь хорошо изученные тобою оперетты! И что эта труппа, несомненно подлинная, до сих пор ощущает на себе пылающий взгляд сэра Уильяма Гилберта, который следит за каждым их шагом! Они будут здесь через две недели и покажут все, о чем мы когда-либо мечтали, в подлинно Гилбертовом стиле, чтобы мы могли впитать все это и освежиться. Дай деньги на билеты, а прочее предоставь мне.
Брокки не ошибался. Шекспир затопил нас с головой; а Гилберт и Салливен были чистым восторгом. Торонтовские снобы впали в экстаз из-за приезда труппы Д’Ойли Карта: сэр Генри Литтон (представьте себе, настоящее рыцарское звание, но виртуозно смешит публику, танцует, как юла, и вне сцены носит настоящий монокль!), царственная Берта Льюис, елейный Лео Шеффилд, комично-злобный Даррел Франкурт; жители города приглашали их отужинать, выступить на благотворительном мероприятии, прочесть вслух Писание во время службы в модной церкви и вообще проделать все, что положено знаменитым английским актерам в дальних уголках Британской империи. Я сидел как зачарованный на восьми опереттах, которые еще в детстве выучил наизусть по пластинкам: представления развернулись во всем великолепии на сцене «Королевы Алекс» (как мы, театралы, всегда называли этот театр, притом что Александра уже не была королевой, но мы не имели в виду никакого оскорбления королевской власти). Я мучительно влюбился в Уинифред Лоусон, такую смешную и жалкую в роли истицы в «Суде присяжных». Разве найдется среди созданий Природы более неотразимое, чем красивая и остроумная певица-сопрано? Все это музыкальное декадентство было одобрено мистером Крейги, поскольку исходило из Англии и актеры труппы представляли собою ходячие образцы правильной английской речи, а Артур Салливен когда-то был Мендельсоновским стипендиатом в Королевской музыкальной академии – как и сам мистер Крейги много-много лет назад.
– Вы сказали, что в школе жилось сурово; но, судя по вашему рассказу, вы отлично проводили время.
До меня доходит, что в своих воспоминаниях я впал в лирику, как часто бывает со стариками, когда они рассказывают о былом.
– Эти походы в театры и на концерты были лишь краткими часами отдыха от тяжелой работы и спартанской жизни. Но вы не думайте, что в самой школе не было никаких развлечений. Мы участвовали в разнообразных клубах.
Да, у нас в самом деле были клубы разных – хотя и не всевозможных – направлений, которые могли заинтересовать мальчиков с острым – или не столь острым – умом. Клуб филателистов, весьма многолюдный, ибо школа прямо кишела людьми, которые, как выразился Брокки, впадали в истерику из-за клочков бумаги, облизанных незнакомцами. Клуб путешественников, которым руководил капитан третьего ранга Добиньи: он преподавал нам немецкий и французский, но до этого сделал карьеру в королевском военно-морском флоте, и, по слухам, ему доводилось есть человеческое мясо на каннибальском пиру. Но самым престижным был клуб «Отбой», куда входили только префекты, активисты и лучшие ученики шестого класса. Брокки состоял в этом клубе, поскольку был прирожденным префектом, способным поддерживать порядок и отправлять большое, среднее и малое правосудие в любых вопросах, которые не обязательно подлежали рассмотрению мистера Норфолка, главы нашего «дома». Я тоже попал в клуб; я хоть и не был префектом, зато в последнем классе стал редактором школьного журнала, имевшего определенную литературную репутацию, поэтому считался активистом. Члены клуба «Отбой» пользовались громадным уважением, поскольку нам одним разрешалось курить в здании школы. Мы встречались воскресным вечером в башне, архитектурном уродце, – она была пятнадцати футов высотой, при этом окна располагались в десяти футах от земли; до башенных часов можно было добраться только через люк на крыше. Эти часы явственно ругались и что-то бормотали про себя во всякое время дня и ночи.
Наши встречи были очень разными по уровню умственного напряжения. Кое-кто из членов клуба хотел обсуждать философию, потому что как раз в это время вышло дешевое издание «Истории философии» доктора Уилла Дюранта и умные мальчики опьянели от попытки великого популяризатора «гуманизировать знание, поставив в центр его историю человеческой мысли, организованную вокруг определенных ярких личностей». Вы видите, что я вызубрил книгу наизусть, при этом ошибочно считая себя глубоким мыслителем. Кое-кто из членов клуба обожал естественные науки. Наверно, мне следовало бы поддерживать их энергичнее, но я уже испробовал настоящей науки – по крайней мере, геологии – с подачи отца и потому был склонен отвергать этих зачаточных энтузиастов как дилетантов. А они в ответ не слишком уважали меня, так как ставили геологию не очень-то высоко.
Брокки же обожал перебаламучивать клуб.
– Колорит коллективного ума клуба «Отбой» – грязный, зловонный, мутно-зеленый, как река Лимпопо, и его следует разъяснить: какой же он на самом деле – зеленый, серый или какой-то иной? Чтобы это установить, нужно упорно кипятить и перемешивать.
Он определенно довел клуб до кипения как-то в феврале, прочитав доклад на тему «Гордиев узел шекспировской тайны разрублен: где именно Гамлет спрятал тело Полония?». Это название звучало так серьезно, так торжественно-литературно, что сам мистер Томас Норфолк, старший учитель английского языка, решил почтить заседание клуба своим присутствием. Это в дополнение к младшему учителю, острячку и толстячку мистеру Шарпу, которого озорная выходка Брокки повергла в нехарактерный для учителя восторг. Мы сидели, совершенно легально куря сигареты (а мистер Шарп – трубку с огромной чашей). Брокки развернул свой манускрипт и стал докладывать.
Шекспироведы до сих пор не интересовались, куда Гамлет спрятал тело Полония, начал Брокки. Ведь знаменитая сцена (акт третий, сцена четвертая), когда Гамлет сталкивается с матерью и говорит с ней не по-сыновнему грубо, вызывает множество гораздо более интересных и насущных вопросов. Действие очень динамично, как во всех лучших сценах Шекспира; и в самом деле, не проходит и двадцати пяти строк, как Гамлет обнаруживает присутствие Полония за ковром и, не зная, кто там, пронзает его шпагой. Последующий диалог Гамлета и Гертруды настолько перегружен смыслами – Брокки сказал, что даже не удостоит упоминанием предположения об инцестуальной страсти в «Гамлете», и мистер Норфолк мудро закивал, одобряя подобную литературоведческую сдержанность, – что мы, как правило, не замечаем слов Гамлета «Я в ближний отнесу его покой»[16], пока он не возвращается в следующей сцене, объявив: «Надежно запрятан».
Разумеется, он спрятал тело почтенного старика-советника, но куда? Когда Розенкранц и Гильденстерн спрашивают об этом, Гамлет отвечает: «Приобщил его к праху, которому он сродни». Это было бы исчерпывающим ответом на вопрос придворных лизоблюдов, не будь они так глупы. Но мы умнее их: мы знаем, что «прах» означает не только тело, которое остается, когда отлетела душа, но и любые отбросы или нечистоты. Что это может быть в данном случае? Дело окончательно проясняется, когда Гамлета допрашивает король и Гамлет говорит, что Полония можно найти по вони – если искать там, где надо. «Если вы не отыщете его в продолжение месяца, так он сам скажется вашему носу на лестнице, что ведет на галерею».
Что означают эти слова? Не правда ли, дело ясно как день? Гамлет спрятал Полония там, куда сам король ходит пешком, притом довольно редко, – в комнате, на которую попадают с лестницы. В таком замке, как Эльсинор, да и в любом подобном замке, со строением которых Шекспир был хорошо знаком, поскольку много их посетил со странствующей актерской труппой, комната, куда попадают с лестницы, – это нужник, устроенный во внешней стене, надо рвом. Гамлет, явно злоязычный и склонный к похабству – вспомните, как он говорит с Офелией прямо перед началом пьесы-в-пьесе, – намекает, что король редко ходит в уборную и вообще страдает запором.

