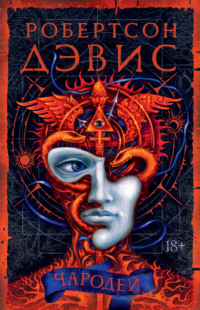
Чародей
Насколько сильно это оскорбление? Вспомним, что говорит Гамлет о своем дяде-короле: называет его «жабой», а его поцелуи – «нечистыми», то есть дурно пахнущими. Возможно, король страдал от галитоза? Кажется, Гамлет явно и непростительно переходит на личности, так издеваясь над человеком, имеющим власть его казнить и миловать?
Откажем ли мы себе в праве поразмыслить: что могли означать такие насмешливые слова для самого Шекспира? Попытки прочесть мысли автора, руководствуясь якобы прозрачными намеками на его личные обстоятельства в его трудах, часто называют опасным безумием. Но нам ничто человеческое не чуждо; разве не заманчиво – раскрыть новые подробности жизни Короля Поэтов, о которых он нечаянно проговорился? Безусловно, весьма важен тот факт, что в конкорданции к Шекспиру мы не найдем ни единого упоминания запора, хотя множество других недугов используется в пьесах для создания комического или трагического эффекта. Почему же драматург умалчивает о хвори, столь часто встречающейся, столь досадной и столь губительно действующей на человеческий дух? Быть может, насмешливыми устами Гамлета Шекспир приписал королю Клавдию свой собственный недуг – таимый от людей и неотступно его снедающий?
Брокки скромно предоставил делать выводы слушателям. Он сказал, что у него нет времени искать в полном собрании сочинений Шекспира отсылки, которые могли бы прояснить вопрос. Но он оставил его открытым, на обсуждение клуба. Страдал ли Шекспир запором? Как вы думаете? Можно ли яснее выразить, что Гамлет нанес Полонию – в целом безвредному старику – последнее оскорбление, бросив его в нужник?
Брокки явно ходил по краю, и все это понимали. Я думал, что он зашел слишком далеко, и дивился его нахальной храбрости.
Мистер Шарп был явно не в своей тарелке и так сильно пыхтел трубкой, что она уже наверняка раскалилась докрасна. Но ко всеобщему изумлению, мистер Норфолк взял на себя ведущую роль в диспуте и представил собой твердыню незыблемого спокойствия. Он сказал, что вопрос, поднятый Гилмартином, небезынтересен, хотя юный критик, возможно, преувеличивает его важность, ибо для любой матери ее ребенок прекрасней всех на свете, даже если он хил и слаб. Но, глядя на Шекспировский Гений глазами зрелого критика, сразу понимаешь, что подобные безвкусные детали, такие как расположение нужников и физические характеристики персонажей, достойных подробного психологического рассмотрения, не заслуживают внимания подлинной литературной критики. Все прочие подлежат нашей критике, продолжал мистер Норфолк (и все, включая мистера Шарпа, поняли, что заведующий «домом» собирается изрыгнуть типичный для него поток бурной бессвязицы), но Лебедь Эйвона свободно парит в вышине. Сколько бы мы не задавали вопросов.
Мистер Норфолк замолчал, блаженно улыбаясь. Он знал, что есть вещи превыше знания. Критика в ее лучшей и благороднейшей форме – лишь тщетные поиски морали.
Мистер Норфолк сидел с закрытыми глазами, молча изумляясь собственному духовному сродству с Бессмертным бардом.
12
Смелый наскок Брокки на серьезную атмосферу клуба «Отбой» был не самой яркой страницей в жизни клуба в последний год нашей учебы в Колборне. По странности, самый незабываемый случай произошел из-за Чарли.
Не то чтобы он был членом клуба. Кто бы его туда пустил? Он так и не перешел в шестой класс, а застрял в педагогическом чистилище под названием «Специальный пятый „А“», куда сбрасывали учеников, провалившихся по тем или иным причинам. Чарли не завоевал ни единого приза или награды за учебу, даже по Священной истории, потому что слишком много знал по этому предмету, слишком много написал на экзамене, залез в богословские и исторические вопросы, неведомые капеллану колледжа – вздорному молодому священнику, которого епископ не хотел посылать на приход, – и утонул в собственном многословии. Однако Чарли все любили – за его кроткий, но не изнеженный нрав. Мистер Шарп подытожил это лучше всех, сострив как-то, что Чарли – не хромая утка, а хромой голубь.
В клубе «Отбой» намечался особенно интересный вечер: один из старших учителей, в иерархии колледжа стоящий ненамного ниже директора, собрался делать доклад по теме, в которой был признанным авторитетом. То есть признанным за стенами Колборна. Мистер Данстан Рамзи, главный учитель истории, обещал поговорить о святых, а поскольку он написал две-три чрезвычайно превозносимые критиками и часто переводимые книги о самых популярных святых – тех, которыми обычно интересуются туристы, – мы ожидали весьма познавательной лекции. И оттого что это была как раз епархия Чарли, мы с Брокки попросили разрешения привести его в качестве гостя; Чарли все любили – ну, почти все, – и мы без труда получили разрешение.
Собираясь в странном зальчике в башне воскресным вечером, в марте (это было последнее воскресенье перед пасхальными каникулами), мы ожидали, что мистер Рамзи проведет нас бегом через список наиболее популярных святых, расскажет пару забавных историй из их житий, а затем мы перейдем к кофе и пончикам. Но мистер Рамзи удивил нас: он принес и показал нам книгу, красивее которой я в своей жизни не видел. Это было издание «Золотой легенды» Кекстона, оформленное Уильямом Моррисом, 1892 года. С четверть часа мы смотрели разинув рты на изысканные страницы, которые осторожно перелистывал сам мистер Рамзи. (Таков был первый полученный мной урок по этикету собирательства книг: никому не позволяй дотрагиваться до своих сокровищ, если не знаешь этого человека и не доверяешь ему.) Я уже заразился лихорадкой библиофила, и Брокки тоже; сколько послеобеденных субботних часов провели мы в пыльных букинистических лавках, которых много тогда было на отрезке улицы Янг между улицами Колледж и Блур! Мы вечно надеялись открыть что-нибудь потрясающее, не замеченное букинистом среди унылых залежей никому не интересных богословских трудов, устаревших энциклопедий, вышедшей из моды беллетристики и прочего мусора. Время от времени мы и впрямь находили что-нибудь интересное (хотя, вероятно, кроме нас, оно мало кого заинтересовало бы). Я покупал старые медицинские учебники, по которым студенты перестали учиться еще в XIX веке, – не потому, что надеялся узнать что-либо ценное для медицины сегодняшней, но потому, что они содержали интересные детали о медицине прошлого. Одну книгу я особо ценил: это был справочник по десмургии, и из него я сделал вывод, что врачи середины XIX века хоть и не подозревали об антисептике, зато умели намотать на пациента столько бинтов, что его и мать родная не узнала бы. Брокки искал первые издания разных поэтов, но, насколько мне известно, так и не нашел ничего значительного, хоть и набрал кучу забавного мусора, изданного за свой счет в XIX веке исполненными надежд авторами.
Мистер Рамзи познакомил нас с красотой печатной книги; эту красоту понимают и ценят относительно немногие, и в наше время о ней думают только в маленьких частных издательствах. Увидев моррисовскую «Золотую легенду», я влюбился, и это была одна из немногих счастливых любовей моей жизни; я влюбился в прекрасные книги, и сейчас, в старости, у меня их целый гарем, весьма значительный.
Показав нам книгу, мистер Рамзи задал вопрос: почему в 1892 году великий типограф счел нужным выпустить еще одно издание, притом неописуемо дорогое и сложное, книги, которая и без того была в числе самых популярных в Европе последние пятьсот лет? «Золотая легенда» – одна из десяти книг, которые, взятые вместе, дают связное представление о средневековой мысли и познаниях человечества в Средние века. Значит, все современные историки, изучающие Средние века, хорошо знают «Золотую легенду»? Кое-кто из них утверждает, что действительно изучал ее, но если внимательно прочитать книгу, то возникают сомнения. О чем же «Золотая легенда»? В ней собраны все легенды о святых в том порядке, в каком они вспоминаются церковью, начиная со святого Андрея (чья память совершается 30 ноября, в первый день адвента) и далее для каждого дня года вплоть до 29 ноября, на который простирают свое благотворное влияние святые Сатурнин, Перпетуя и Фелицата. К этой книге верующие люди могли обратиться в любой момент за поучительным и – не следует этого недооценивать – захватывающим чтением. Никогда не забывайте, как притягательно повествование для человеческой души, сказал мистер Рамзи.
Никогда не забывайте о мягком, но настойчивом влиянии Средних веков на современный мир! Сколько околотков, улиц и районов в Торонто – не говоря уже о церквях – носят имена святых: загляните в телефонный справочник и удивитесь. Почему так называется улица Святого Георгия, до сих пор одна из самых фешенебельных в городе? Кто хранил в душе тайное, едва ли осознанное почитание этого святого, когда улице выбирали название? Конечно же, она могла бы, подобно улице Блур, увековечить фамилию какого-нибудь процветающего пивовара или винокура. Гудерхэм-стрит – чем плохо? Но нет, улица получила имя святого Георгия, носит его до сих пор и будет носить в обозримом будущем.
Какой-то остряк предложил назвать проулок для сбора мусора, идущий на задворках улицы Святого Георгия, Драконовым проулком. Мистер Рамзи сказал, что это хорошее средневековое мышление и так вполне могли поступить. Такая интерлюдия могла бы перевести вечер на легкомысленные рельсы, не вмешайся в дискуссию Эванс.
Эванс – серьезный, иссохший прежде времени – в тот год был признанным главой Великих Мыслителей шестого класса. Ожидалось, что он произведет фурор в мире, но пока еще не ясно было, какой именно. Эванс был до невероятной степени рационален. Не могу назвать его мышление научным, поскольку его любопытство было прочно стреножено.
Эванс вопросил: что такое святой и кто определяет, какой смысл вкладывается в это слово сегодня?
Мистер Рамзи ответил, что святым человека провозглашает Римско-католическая церковь; в ней существует тщательно разработанная процедура канонизации. Церковь тщательно рассматривает любого кандидата на роль святого, требуя доказательств. Обычно от смерти до канонизации проходит много лет. Кандидат должен быть человеком героической добродетели, чья жизнь и смерть свидетельствуют о необычной святости. Нужны доказанные случаи – не менее трех, – когда кандидат в святые творил чудеса, то есть становился причиной благоприятных событий, противоречащих нормальному порядку вещей или тому, что мы называем законами природы. Человека, объявленного святым, можно призывать на помощь посредством молитвы. В прошлом считалось, что определенные святые особенно помогают в определенных случаях: например, святого Витта призывали при собачьих или змеиных укусах и, конечно, при хорее Сиденгама, издавна так и называемой – пляска святого Витта. Святой Антоний Падуанский незаменим для поиска потерянных вещей. И конечно, святая Вильгефортис, которой молились женщины для избавления от нежелательных мужей. Эти святые весьма непохожи друг на друга: о личности святого Витта не известно ровным счетом ничего, хотя он, по-видимому, жил на самом деле; святой Антоний – историческое лицо, упомянутое во многих хрониках; а вот Вильгефортис, похоже, возникла только потому, что в ней нуждались, и никаких доказательств ее историчности нет. В последнее время Церковь пытается отмежеваться от народных святых вроде Вильгефортис, хотя ее святилища до сих пор встречаются в Европе на каждом шагу; Рамзи сам побывал в нескольких и сфотографировал изображения святой, которая могла похвалиться роскошной бородой.
– И это показывает, каким шарлатанством была и остается религия, – влез Эванс.
– Вы не думаете, что это слишком широкомасштабное обобщение? – осведомился мистер Рамзи.
– Ну уж конечно, сэр, здесь, в клубе «Отбой», мы можем не стесняться, – задушевно сказал Эванс как мужчина мужчине.
– Совершенно верно; пол выложен плиткой, – пробормотал Брокки. Эванс сердитым взглядом заставил его замолчать и продолжал:
– Религия – это детство человечества. Вы составили себе репутацию, изучая кое-какие ее части, но что двигало вами? Было ли это научное любопытство – история ведь тоже наука – или подлинный интерес к религии?
– Подлинный интерес к религии, конечно.
– Но научный интерес, а не интерес верующего?
– Вы хотите сказать, что наука и вера взаимно исключают друг друга?
– Если речь идет о религиозной вере, то безусловно.
– Почему?
– Потому что вера подразумевает веру в Бога, Первопричину, Творца и вездесущее начало. А это не пойдет.
– Не пойдет? Объясните, пожалуйста.
– Ну, сейчас передовые ученые – молекулярные биологи – считают, что недавние исследования базовых органических соединений ясно доказали: все формы жизни зародились по чистой случайности благодаря непредсказуемым мутациям и по необходимости, вероятно обусловленной дарвиновским естественным отбором. А это совершенно исключает всякую возможность постулировать заранее продуманный план, или Планировщика, или концепцию Творения. Такое попросту не пойдет.
Среди слушателей пронесся шумок: клуб «Отбой», конечно, объединял передовых мыслителей, но они, так сказать, предпочитали стоять одной ногой на берегу. А такие разговоры в те годы у сыновей торонтовской элиты считались очень смелыми. Но среди шума один голос послышался отчетливо: он был незнаком мне, но исходил от Чарли. Все стали оборачиваться на него, поскольку, как гость, он не должен был выступать. Это не запрещалось, но от гостя ожидалась определенная скромность, поскольку он не член клуба.
– И это не пойдет, – сказал Чарли.
– А? Что значит «и это не пойдет»? – Эванс был недоволен тем, что его застали врасплох.
– Не пойдет, потому что это постулирует – если использовать ваш затейливый философский термин – Бога, которому свойственна человеческая ограниченность и человеческая система ценностей. Нечто вроде очень большого человека. Ваши передовые мыслители заявляют, что если Бог мыслит не так, как они, то Он не может мыслить вообще, а следовательно, не существует. Почему вы считаете, что «чистая случайность» в понимании ваших передовых мыслителей и «чистая случайность» в понимании Бога – одно и то же?
– То есть вы постулируете мир, в котором все заранее предопределено и неизменно по причине, которую наши бабушки называли Господней волей?
– Ничего подобного. Я вообще ничего не постулирую. Я предполагаю, что, хотя Господня воля и может в конце концов совершиться, отдельные части творения обладают большей свободой в пределах того, что мы называем законами природы, и часто оказываются в ситуациях, когда могут воспользоваться этой свободой. А если в результате они сядут в лужу, то, вероятно, Бог предпримет еще одну попытку.
– Айрдейл, вы, кажется, много размышляли на эту тему. – По голосу Эванса было ясно, что он собирается нанести сокрушительный удар. – Может быть, вы окажете нам любезность и приведете свое определение Бога?
– Исключено, – ответил Чарли. – С тем же успехом сорокаваттная лампочка может попытаться дать определение Ниагарскому водопаду. Лампочка знает – если вообще знает что-нибудь – лишь одно: без Ниагары она станет бесполезной диковинкой.
– Значит, доказательства у вас нет?
– Такого, которое вас убедило бы, – нет.
– Тогда почему?
– Вера. «Лишь верой можем то обнять, где мер и доказательств нет»[17], как сказано в гимне, который мы часто поем на утренней молитве.
– Вера без доказательств может завести на кривые дорожки.
– Вера там, где есть неопровержимые доказательства, возможна только для того, кто обладает наиполнейшим возможным знанием всего. Для того, кто смотрит на историю, как смотрит на нее Бог. Мы же вынуждены довольствоваться тем, что известно при нашей жизни. Мы не можем знать о будущем; а о прошлом знаем лишь обрывочно. Ты помнишь, что сказал один моряк, когда ему сообщили, что царь Соломон был мудрее всех когда-либо живших, ныне живущих и тех, кто будет жить на земле?
– Не припоминаю.
– Моряк ответил: «Да попади этот Соломон ко мне на корабль, он небось утлегарь от гакабортного огня не отличил бы!»
Из всех присутствующих только Эванс не нашел эту историю забавной.
Тут вмешался председатель клуба. Это был старший префект всей школы, порядочный парень по фамилии Мартленд.
– Думаю, нам стоит вернуться к мистеру Рамзи и «Золотой легенде». Давайте послушаем его рассказ об эпохе, когда твердая вера была обычным делом. Сэр, вы, кажется, упомянули, что в течение многих веков люди обращались к «Золотой легенде» ради захватывающего чтения. Что за истории содержатся в этой книге? Если мы услышим их сегодня, захватят ли они нас?
– Разумеется, не в том смысле, в каком захватывали средневековых читателей, – ответил мистер Рамзи. – Они весьма кратки, в них мало деталей. Они повествуют о мученичестве и чудесах. Если вы не считаете мученичество за веру достойной и вдохновляющей смертью, то для вас это будет лишь рассказ о кровожадном тиране и жертве. То же и с чудесами. Они – временное нарушение законов природы. Если вы единомышленник Эванса, то можете счесть рассказы о них благочестивым враньем. Но было бы опрометчиво заявить, что законы природы никогда не нарушаются. Время от времени происходят вещи, о которых мы потом читаем в газетах – в статьях, вероятно написанных журналистом в поисках «жареных фактов» или циником. В том и другом случае истина скрыта туманом. В наши дни, говоря о чуде, мы, скорее всего, подразумеваем что-нибудь происходящее в больнице или научной лаборатории, где ученые расширяют или опровергают существующие убеждения.
– И эти чудеса можно проверить даже много лет спустя – проверить и досконально испытать, и они выдержат испытание, – встрял Эванс, до сих пор пылая полемическим задором.
– Они выдержат испытание, пока следующее научное чудо не докажет, что предыдущее было заблуждением или только деталью более общей картины, – произнес Чарли.
Мне было неудобно: я привел его как гостя, а он держится как у себя дома. Мартленд, видно, тоже об этом подумал, потому что опять вмешался:
– Давайте послушаем мистера Рамзи. Мы для этого сегодня собрались, в конце концов.
– Пожалуйста, не беспокойтесь на мой счет, – ответил Рамзи. – Я очень рад видеть жаркую дискуссию по вопросу, который, как я думал, представляет для вас лишь ограниченный интерес. Изучение чудес – совершенно удивительная область науки. Когда пришла Реформация, защитники Церкви стали стыдиться чудес, а лютеране использовали их как дубинку. В ту эпоху «Золотая легенда» подверглась поношениям с обеих сторон. Даже такой весьма уравновешенный человек, как Эразм, потерял свою обычную осмотрительность и заявил, что верующие – просто дураки, если верят в сказки про призраков, дьяволов и чудеса.
– А что он говорил про чудеса, которые творил Христос? – снова встрял Чарли.
– Христос был превыше всех споров, – ответил Рамзи.
– Да уж наверно, – ядовито сказал Эванс. Похоже, он прямо у нас на глазах перерождался в воинствующего атеиста.
– Следует смотреть с исторической точки зрения, – продолжал Рамзи. – В течение тысячи лет после наступления Темных веков Церковь оставалась практически единственной цивилизующей силой в Европе, и рассказы о чудесах были доходчивы для людей, которые не поняли бы богословских аргументов. Как сказал Айрдейл, эти люди верили и их вера нуждалась в поддержке. Подумайте о том, как далеко от Рима лежала деревня двенадцатого века, даже если располагалась на юге Франции; большинство людей за всю жизнь не удалялись от своего дома дальше чем на расстояние дневного перехода. Местное чудо или местный святой значили для них больше, чем целая пачка затейливых богословских доводов или папских булл.
– Значит, вы признаете, что святые и чудеса – выдумки, направленные на то, чтобы укрепить власть Церкви над невеждами?
– Нет, я ничего подобного не признаю, а вы, Эванс, изъясняетесь, как оранжист из Ольстера. Я говорю, что эти подпорки были нужны для развития цивилизации, а Церковь в те тяжелые времена была единственным цивилизующим элементом.
– Но сегодня-то мы можем забыть про чудеса и святых, – сказал Эванс.
– К несчастью, история не развивается такими аккуратными прямыми путями, – ответил Рамзи. – Мы по-прежнему слышим о чудесах. В минувшем веке случилось несколько весьма впечатляющих чудес. Я посетил места, где они произошли – или якобы произошли, – и еще ни разу не встретил ни одного сомневающегося. Всего год назад я побывал в большом храме Чудес Иисусовых в Португалии, построенном на месте, где был исцелен некий Мануэль Франсиско Майо. Этот храм – ощутимое свидетельство веры в нечто явно невероятное, что, однако же, произошло, по словам некоторых людей, и было подтверждено другими людьми, которых нельзя с порога отмести как лжецов, – и все это не так уж давно. Я думаю, несмотря на то что наш век – предположительно век науки, чудеса еще долго будут происходить, а святые – появляться.
– Но что именно такое – чудо? – спросил Нолан, который вечно пытался влезть в любой спор, чтобы показать свою активность.
– Бернард Шоу сказал, что чудо – это событие, которое рождает веру[18], – ответил Местауэр, любивший демонстрировать, как пристально он следит за развитием современной мысли.
– Прошу прощения! – вмешался Брокки. – Это говорит не Шоу, а персонаж в его пьесе «Святая Иоанна». Что далеко не то же самое. Это слова архиепископа. Он выступает в защиту чудес, которые другой персонаж называет обманом. Архиепископ говорит, что обман утверждает ложь, а событие, рождающее веру, утверждает истину, – стало быть, оно не обман, а чудо. Довольно казуистический аргумент, но не забудьте, что это говорит слуга Церкви. Для него такая точка зрения была чем-то вроде генеральной линии партии.
Чарли попросту не мог молчать. Он снова вмешался:
– Шоу всегда честно представляет обе стороны. В той же сцене один из его героев говорит, что Церковь должна укреплять веру поэзией. Один из недостатков научного мировоззрения состоит в том, что оно не оставляет места для поэзии.
– И что же именно значит «поэзия»? – Эванс был полон решимости раздавить Чарли, иначе ему грозила опасность потерять лицо. Но Чарли был готов к этому вопросу.
– Поэзия является духом и квинтэссенцией познания. Она выражает страсть, вдохновляющую ученого.[19]
– Исусе! – отозвался Эванс.
– Не совсем. Вордсворт, – сказал Чарли.
– Отлично, Айрдейл, туше! – засмеялся мистер Рамзи. Он наслаждался этой дискуссией. Но возможно, его реплика была не самой удачной: она хоть и увенчала Чарли лаврами, зато расширила пропасть между ним и миропомазанными членами клуба «Отбой». Для них выступление Чарли граничило с наглостью, поскольку в то время в Колборне насаждалось почти японское почтение к старшим. Но Эванс не собирался признавать поражение или даже временно отступать.
– Айрдейл, ты никогда не станешь ученым, если будешь втягивать в спор любую авторитетную фигуру, чье мнение случайно совпало с твоим. При чем тут вообще Вордсворт? Может, лучше вспомнить Эразма? Не сказал ли мистер Рамзи, что Эразм очень плохо относился к чудесам? А разве он при этом не был одним из столпов веры?
– Да, но Эразм страдал слабостью, присущей всем ученым. – Мистер Рамзи снова вмешался на стороне Чарли, что в долгосрочной перспективе могло иметь не совсем благоприятные последствия. – Эразм хотел, чтобы все были так же умны, как он сам, а если у них не получалось, он считал, что они просто упрямятся.
– И еще Эразмов на свете мало, – добавил Чарли. – А простецов – много, и они до сих пор превышают числом всех остальных. И вообще, кто-то сказал, что Господь, вероятно, любит простецов, раз создал их так много.
– Но бледных спирохет Он создал гораздо больше, – возразил Эванс. – Поэтому, если следовать твоей логике, Господь любит сифилис гораздо больше, чем простецов.
По меркам клуба «Отбой» это был сокрушительный нокаут. Аудитория засмеялась и захлопала. Чарли ничего не сказал, но все знали: может, он и проиграл спор в целом, но несколько очков все же заработал.
Мартленд вновь призвал собравшихся к порядку, и оставшееся время мистер Рамзи говорил о «Золотой легенде» и об обществе, которое подпитывалось чудесами и поощряло веру. Слово «легенда», сказал он, сегодня подразумевает нечто вроде мифа или притчи, но тогда оно было ближе к словам «урок» или «чтение». Уважать книгу «Золотая легенда» не значит отвергать эпоху Возрождения и последующие приключения человеческого ума. Это скорее значит сочувствовать Средним векам и понимать их. Внимательно вглядевшись в Средние века, мы еще сможем почерпнуть из них многое, чтобы обогатить нашу жизнь. Мы много потеряли, отвергнув таких мыслителей, как Блаженный Августин и святой Фома Аквинский. Подлинно исторический взгляд, настаивал Рамзи, это не сказка о продвижении человека из тьмы варварства и суеверий к современному просвещению, но признание того факта, что просвещение являлось в истории человечества в разных обличьях, а варварство и суеверие – постоянно действующие в ней факторы. Тут Рамзи сказал несколько сильных слов по поводу поднимающего голову в Германии национал-социализма, подтверждая свой тезис, что варварство и суеверие рядят старых троллей в новые мундиры. Он призвал наше внимание к тому факту, что во многих странах еще сохраняется рабовладение – в явной или слегка замаскированной форме. Он заговорил об угнетении женщин и (возможно, отчасти нетактично) объяснил его по большей части импортом в Европу (а оттуда в Новый Свет) восточных взглядов на женщину, сохранившихся под полами рясы христианства – религии, зародившейся на Ближнем Востоке: высокомерные римляне и даже волосатые дикари кельтской Европы лучше относились к своим женщинам, чем христиане, и это – черное пятно на христианстве, у которого наряду со светлой стороной, великим благотворным влиянием на нашу жизнь, есть и темная. Конечно, большую часть этой речи клубные властители умов пропустили мимо ушей как эксцентричный выбрык, свойственный Рамзи и другим людям его профессии. Хороший учитель, но чокнутый. Что ему не так с положением женщин? Мальчикам, состоящим в клубе «Отбой», казалось, что женщинам живется незаслуженно легко.

