Из черных репродукторов-магнолий гремели призывы по всему Крещатику.
«Хорошо сказано! И про меня тоже», – подумал Семён, чеканя шаг или, во всяком случае, пытаясь это делать по брусчатке улицы Воровского, бывшего Крещатика. Рядом шагали его товарищи в новой, образца 35?го года форме. Особую радость Семёну доставляла фуражка – такую ни с какой другой не перепутаешь: тулья василькового цвета с малиновыми кантами, краповый околыш со звездой и чёрный лаковый козырёк. Впрочем, фуражка хоть и являлась самой заметной частью вновь утверждённой формы, всё остальное тоже было – хоть на парад, хоть в театр. А главное – красиво, к месту и убедительно: гимнастёрка тёмно-защитного цвета с двумя накладными карманами и тёмно-синие галифе всё с теми же малиновыми кантами, заправленные в высокие чёрные сапоги. А уж ромбы в малиновых петлицах прямо-таки ключевым аккордом вписывались в ансамбль. Красота, достойная верных сынов и защитников Отечества!
Уж Семён Милькин в этом разбирался: как ни крути – сын портного. Отец в Сёмке души не чаял: готовил к жизни по своим стопам и с малолетства приучал сына с ножницами да иглой управляться, кроить да штопать – и всё такое. Но жизнь распорядилась по-другому…
Отец бы сейчас глянул на сына, почмокал губами, поцокал языком и сказал бы: «Шейн бохер!»[20 - Красивый парень (идиш).] Лицо отца всплыло перед мысленным взором Семёна: старший Милькин скорбно смотрел на него и вздыхал. Улыбка невольно сошла с лица Семёна. Он даже скрежетнул зубами и тряхнул головой так, что красивая фуражка чуть не слетела на землю – пришлось придержать рукой.
– Ты чего, Семён?! – крикнул вышагивающий рядом старший лейтенант особого отдела – друг и собутыльник Петька Кравчук.
– Ничего! От избытка чувств! – сориентировался Семён.
– А! – Кравчук понимающе заулыбался. – И то правда. Хороший повод новую форму выгулять. Кстати, звания мы с тобой не обмыли. Ты как?
– Да запросто.
– Завтра ко мне?
– А ты у своей спросил?
– А чего её спрашивать? – удивился Кравчук. – Ты много со своей советуешься?
– И то правда! – в унисон ответил Милькин. И оба рассмеялись.
6
Моисей Черняховский вернулся домой уже затемно. Все спали, намаявшись и нарадовавшись за день. Этя посапывала на узком коротком диванчике возле тёщиного топчана. Старая Ханна то ли спала, то ли так лежала, подсунув ладонь под щёку, не разберёшь: глаза у неё всегда закрыты, а спала старуха так же тихо и неслышно, как бодрствовала. Маленькую Элку, как обычно, забрали к себе за стенку Ицик с Верой.
По дому шоркалась одна Гинда: при слабом свете от приспущенного фитиля керосинки убирала со стола остатки субботнего ужина.
– Ну и что? – с громким шёпотом накинулась на мужа Гинда. – Что-то без тебя с Богом сегодня поговорили!
– Я на демонстрации был, – отмахнулся Моисей.
– Все там были, – не унималась Гинда. – Только все явились к ужину. Вот и брат Веркин с сыновьями приходил: представление детям показывал.
– Смешно?
– Что смешно?
– Смешно, спрашиваю, показывал?
– Как всегда, – пожала плечами Гинда. – Элка смеялась, в ладошки хлопала. Этя тоже несколько раз хихикнула.
– Ну и слава богу! – сказал Моисей и ушёл за занавеску раздеваться ко сну.
– Вот и поговорили. С праздником! – чуть не крикнула в спину мужу Гинда. Но тот не ответил: то ли не расслышал, то ли не захотел.
…Когда жена затихла, отвернувшись к стенке, Моисей всё ещё не мог уснуть. Лежал на спине, подсунув ладони под голову, и разглядывал потолок, ещё и ещё раз вспоминая прошедший день, главным событием в котором стала неожиданная встреча с… Анной…
Теперь-то Моисей понимал, откуда взялись эти навязчивые повторяющиеся сны. Вернее, один и тот же сон: их последний субботний ужин у отца со старшим братом. И каждый раз сон этот обрывался, будто дальше ничего не было. Совсем ничего не было. Даже жизни.
Вот он даёт брату книгу, ту, что Анна ему велела прочитать. Вот отец ворчит на них за то, что Бога не почитают. А он решает, что завтра пойдёт к Анне и предложит ей выйти за него замуж. От этой мысли всё его тело наполняется вожделением, упоительным желанием, сердце радостно ноет – всё как в песне или сказке. С дурацкой улыбкой на лице Моисей засыпает… Но завтра не наступает. Вернее, наступает, но другое, в котором он – почти оглохший, с болью в груди, двумя детьми и терпящей его женой, привычно тянущей на себе воз, в котором он скорее пассажир, чем возница. И всё это хозяйство, которое почему-то называется семьёй, размещается в сыром, тёмном полуподвале. Это и есть его счастье, его жизнь. Так что тот повторяющийся сон, как чуждый аккорд в сложившейся песне – пусть не самой весёлой, не самой напевной, но всё-таки песне, где все эти несбывшиеся мечты-воспоминания нужны как мёртвому припарка. Только голова от них болит и… сердце.
Но сегодня Моисей понял, что всей этой ночной бесконечной истории придёт конец.
7
На Крещатике он встретил Анну. Случайно…
Когда он подошёл к своим с «Красной кузни», собираясь затеряться в общем строю, к нему подлетел вечно жизнерадостный профсоюзный вожак Степаныч из бывших красных то ли партизан, то ли будённовцев, а может, и то и другое сразу. И с ходу заорал. День был сегодня такой, особый: всё вокруг орало – репродукторы на столбах и люди на Крещатике. Иногда людям удавалось перекричать музыку и здравицы, но чаще происходило наоборот.
Впрочем, Моисея Черняховского праздничный гвалт вокруг не раздражал. Напротив, было весело и хорошо, и если кого-то, как обычно, не расслышишь, можно попросить повторить ещё раз. И никто тебе не скажет: «Слух лечи. Чего это я горло драть должен?»
– Миша! Как здорово, что ты пришёл! – орал Степаныч. – У нас кузнец на машину заболел! А ты в самый раз подходишь – лучше замены не сыскать!
– Какой кузнец? – удивился Моисей. – Сегодня ж выходной!
– Так это не всамделишный кузнец! – кричал, разъясняя, председатель профсоюза. – Это роль такая: на грузовике стоять с другими и типа того молотом по наковальне бить. Не на самом деле, а как будто. Молот из папье-маше. А девушки, ну не только девушки, но и женщины, на машине будут тоже ехать и петь: «Мы – кузнецы, и дух наш молод…» В общем, революционную нашу любимую песню будут петь. А мы все, значит, всей нашей «Ленкузней» за грузовиком этим рядами сзади идти будем, ура кричать, флажками, цветами – кому что выдадут – махать…
– Это всё хорошо, – прервал Степаныча Моисей. – Но я тут при чём? Ты мне флажок или цветок дай – и я буду идти и махать.
– Миша, ты что ж такой несознательный?! – возмутился ветеран – будённовец-партизан. – Тебе честь… – он замялся, подбирая слова. – Тебе доверие оказано: представлять наш коллектив со сцены, в смысле с грузовика. На тебя – и на других, конечно, там ещё человек десять показывают, что в песне поётся, у каждого – своя роль – на вас с трибуны смотреть будут, приветствовать. Сам Якир там. И Постышев.
– Ну какое мне доверие, Степаныч? Ты рехнулся, не иначе! Я ж не стахановец даже – у меня больничных из-за лёгких вон сколько. Да и, кстати, мне и так тяжело дышать, а ты меня ещё и махать этим бумажным молотом заставляешь. – И Моисей демонстративно закашлялся.
Но Степаныч был не из робкого десятка. Недаром в Гражданскую шашкой махал:
– В общем, так, товарищ Черняховский, это не просьба, это поручение. И даже не от профсоюза, а от трудового коллектива, трудового народа то есть. А это всё равно что поручение от Родины и партии. Уразумел?
– Уразумел, – вздохнул Моисей. Хоть они и были почти одних лет, Степаныч разве что года на три постарше, но числился в ветеранах и героях, а он, потомственный кузнец, был всего лишь молотобоец из бывших царских солдат, немецких военнопленных, притом ещё даже не передовик социалистического труда. Так что его аргументы против Степанычевых не прокатывали. Радость от праздника куда-то улетучилась, и Моисей понуро побрёл к грузовику с открытыми бортами, где на помосте уже собралась на предстартовую репетицию массовка из самодеятельных артистов. Издалека особенно выделялись девушки: все как на подбор в лёгких белых платьях и косыночках, по-рабочему подвязанных под косами, с красными то ли галстуками, то ли кисейными платками на шеях.
Степаныч сопроводил Моисея до самых подмостков и крикнул:
– Принимайте артиста! Кузнец высшего разряда!
С машины послышались радостные возгласы, и несколько рук протянулись навстречу Моисею.
– Я сам ещё могу! – хмуро буркнул тот и неожиданно легко заскочил на открытый кузов.
– Ух ты! – непроизвольно вскрикнула какая-то женщина. В возгласе чувствовалось явное восхищение. Моисей повернул голову на голос и… замер. Перед ним в белом легком платье, в белой косынке, озарённая майским солнцем, словно видение из его снов, стояла Анна Сергеевна. С первого взгляда Моисею даже показалось, что время никак не отразилось на ней: всё то же молодое лицо, тонкий профиль, серо-зелёные глаза, чуть припухшие манящие губы, стройная молодая фигурка, высокая грудь. Это позднее – было время – он разглядел и морщины у глаз и в уголках губ, и серебряные нити в тёмно-русых волосах, и – даже – скрученные в узлы вены на ногах. А в тот момент он только и смог, что удивлённо выдохнуть:
– Ты?..
– Миша… – беззвучно прошептала Анна. А может, это он не расслышал в шуме и гомоне праздника, лишь догадался по губам. Если бы не окружение, они бы бросились навстречу друг другу. Ситуация не позволила поддаться первому порыву.
Кто-то уже успел сунуть в руки Моисею огромный молот из папье-маше. Молодой паренёк, назвавшийся Сашей и секретарём комсомольской организации, кричал Моисею в самое ухо (видать, ему уже объяснили, что кузнец настоящий и поэтому ни черта толком не слышит):
– Моисей Наумович! Вы не переживайте. Ничего репетировать не надо. Просто бейте молотом по наковальне, – и он пнул настоящую наковальню, установленную на грузовике. – А Колька вроде того будет вам заготовку подавать, – и комсомолец показал на молодого широколицего паренька, голого по пояс, с настоящими кузнечными клещами. Паренёк белозубо улыбался, радуясь жизни.



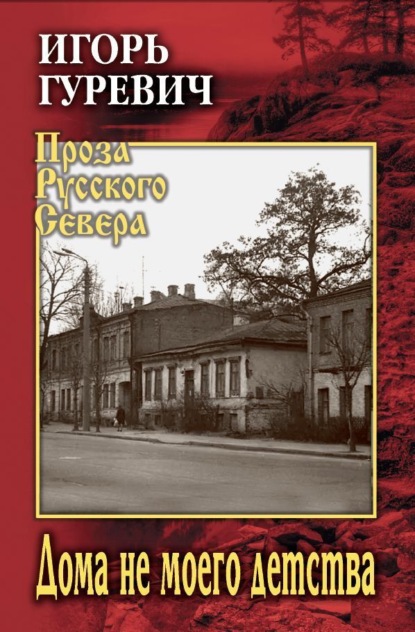




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0