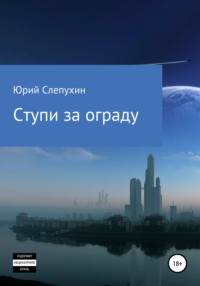
Ступи за ограду
Обойдя замок слева, она снова углубилась в парк. Шуршали под ногами сухие листья, иногда какая-нибудь незнакомая Беатрис птица перепархивала над ее головой с ветки на ветку; было очень тихо.
Грызя каштаны, она долго бродила по запущенным дорожкам, опускалась в прохладные сырые ложбинки и выходила на горячие от солнечного безветрия поляны, где крепко и тонко пахло опавшим листом. Она старалась ни о чем не думать, ни о своем прошлом, ни о своем настоящем, ни о своем будущем – старалась не думать, но мысли ее то и дело возвращались на ту же проклятую орбиту, где они были обречены кружиться без исхода и конца, подобно душам во втором кругу ада. Здесь, в этом вековом парке, окруженная сияющим великолепием золотой осени, Беатрис почувствовала вдруг с пугающей отчетливостью, что ей начинает уже просто не хватать сил, чтобы выносить дальше эту страшную, нелепую и никому не нужную жизнь.
Она снова вышла к замку. Ехавший вместе с нею пожилой господин стоял вдалеке на другом конце моста, у ворот, разглядывая арочную кладку. Беатрис сбежала по откосу рва, давно пересохшего, ставшего теперь обыкновенным лесным овражком, и села на ворох сухих листьев, опустив голову на колени и обхватив их руками.
В самом деле – кому нужна теперь ее жизнь и она сама? Ну, только близким: папе и тете Мерседес. Еще на несколько лет, не больше. Богу? Беатрис не была уверена, имеет ли еще ее душа хотя бы крошечный шанс на спасение после того, как она порвала с церковью. В сущности, как ни страшно это звучит, она теперь еретичка, отпавшая от церкви. Она, Дора Беатрис Альварадо, воспитанная в конвенте и когда-то не представлявшая себе, как можно прожить неделю, не побывав у мессы в воскресенье, уже почти два года не переступает порог храма. Можно ли после этого надеяться на то, что кого-то на небе может всерьез интересовать ее существование?
Горькое чувство жалости к самой себе охватило Беатрис. За что, за какие грехи ей суждено было пережить весь этот ужас? При всем своем романтизме она сравнительно рано догадалась, что любовь, о которой с таким жаром говорили и мечтали ее подружки (да и она сама мечтала, предпочитая, в отличие от них, не рассказывать об этом вслух), – что эта самая любовь в жизни приносит с собой не столько восторгов, сколько горестей, а иногда и просто несчастий. Все это она отлично знала – из книг, из рассказов старших. Она никогда и не претендовала всерьез ни на какое фантастическое счастье, тем более что и история, и литература на каждом шагу давали ей примеры того, что чем ослепительнее горит любовь, тем страшнее она кончается. Изольда и Джульетта, Инес де Кастро и Ракель Ла-Фермоса – все они платили за свое счастье слишком дорого.
Но они хоть видели его, это счастье! Они его испытали – одна дольше, другая короче; они были счастливы. Но ей – за какие грехи ей выпало сразу, еще не узнав любви, увидеть самую страшную ее сторону?
А за что же еще и эти лишние страдания, за что еще и Фрэнк! Почему судьба не могла просто убрать этого человека с ее дороги, зачем еще нужна была эта встреча?..
С необычной резкостью – точно это случилось вчера – вспомнила вдруг Беатрис тот жаркий предзакатный час, плывущее в окне розовое облако, свои собственные слова и лицо Фрэнка. Он шагнул к ней – она испугалась только в самую последнюю, сотую долю секунды – и…
Беатрис схватилась за лицо и упала набок в сухие листья, закусив губы, чтобы не завыть от стыда и отчаяния – острого, нестерпимого, как нож, отчаяния, пронзившего ее при этом воспоминании. Зачем еще и это, Господи!! Зачем нужно было провести ее еще и через это!
Она не плакала – просто лежала так, сжавшись в оцепенении. Услышав голос наверху, над краем овражка, она не пошевелилась и не подняла головы. Она сразу догадалась, что это опять тот самый толстяк, и мысленно пожелала ему провалиться.
– Послушайте, послушайте! – кричал тот, очевидно спускаясь вниз по склону, если судить по треску сухих ветвей и его тяжелому дыханию. – Что с вами, мадемуазель, вам плохо? Минутку, я сейчас!
Беатрис отняла руки от лица и приподняла голову, глянув вверх. Действительно, он спешил к ней, расшвыривая ногами листья и хватаясь за кусты орешника. Тревога была написана на его круглой физиономии.
– Не беспокойтесь, мсье, – сказала Беатрис, поднимаясь. – Спасибо, мне уже лучше…
– Как вы меня напугали! – сказал тот, подойдя ближе и с облегчением отдуваясь. – Что с вами было, мадемуазель? Что-нибудь заболело?
– Да, – кивнула Беатрис и, подумав, приложила ладонь к желудку. – Вот здесь, но теперь уже хорошо. Я поела улиток – вероятно, не стоило.
– О, да. Улитки – штука коварная, к ним еще нужно привыкнуть. Вы итальянка?
– Нет, я американка, мсье. Аргентинка.
– О-о, Аргентина! В молодости я мечтал там побывать, у вас и вообще в Южной Америке. Так, так. При первом взгляде – и когда услышал ваше произношение – я решил, что вы итальянка. И знаете, у меня сразу мелькнула странная, признаюсь, ассоциация: этот замок, – он указал пальцем на кирпичную стену, – принадлежал в свое время роду Арконати-Висконти – несомненно итальянского происхождения, и вдруг я вижу здесь вас, настоящую итальянку с виду. Мне сразу подумалось, что так могла бы выглядеть последняя Висконти, приехавшая навестить свое родовое гнездо. Забавно, не правда ли? – Он добродушно рассмеялся, утирая лоб клетчатым платком. – Мог бы держать пари, что вы откуда-нибудь из Романьи.
Беатрис улыбнулась:
– Но я действительно приехала из Италии! Я там не жила много. Только – как это говорится? – транзит. Около полугода. Простите, пожалуйста, я говорю по-французски бездарно. У меня не было раньше много практики.
– Ну, не так уж бездарно. А с английским у вас лучше?
– Да, я пользовалась им с детства.
– Давайте тогда говорить по-английски, – сказал толстяк, переходя на этот язык. – Скучная штука – разговаривать, нащупывая слово за словом. Никогда не забуду, как я однажды – еще студентом – попал в Германию, зная язык в объеме школьного курса. Да, я тогда помучился. Как ваши боли, мадемуазель?
Беатрис стало стыдно продолжать обман.
– Простите, сэр, – сказала она смущенно, – я вам солгала. У меня ничего не болело. Просто… просто мне стало очень тяжело на душе…
– Вот как. Ну что ж, это… это, может быть, и лучше – в некотором смысле. Невзгоды душевные излечиваются иной раз легче телесных. А впрочем… это вопрос трудный. Вы приехали посмотреть замок? – спросил он, меняя тему. – Сегодня он закрыт, да. Его можно посещать трижды в неделю, от пасхи до дня всех святых. Зимой сюда не пускают. Но парк стоит того, чтобы приехать только ради такой прогулки, не правда ли?
– Да, красивый парк.
– Изумительный. Я люблю проводить здесь свободные дни. Гаасбек внутри тоже интересен, но не так. История его довольно любопытна, как, впрочем, любого из феодальных жилищ. Тут существовало укрепление уже в двенадцатом столетии, а в середине шестнадцатого Мартин де Горн построил замок в приблизительно теперешнем виде – нужно учесть, понятно, бесконечные достройки и перестройки после осад и пожаров. Изнутри, со двора, все это выглядит приветливее. Так вы, говорите, аргентинка… – Он еще раз взглянул на нее искоса и хмыкнул. – Подумайте, а я мог бы держать пари, что итальянка. Но, может быть, у вас итальянское происхождение?
– Нет, происхождение у меня испанское, – сказала Беатрис. – Чисто испанское, без примеси.
–Подумайте, – повторил толстяк. – В вашем лице есть мягкость, более свойственная итальянкам, нежели испанкам. Я бы сказал, что тип красоты испанской несколько суше и резче… Явное влияние мавританской крови. Впрочем Сицилия при Гогенштауфенах не многим отличалась от Кордовского халифата.
– Вы историк? – спросила Беатрис.
– Нет-нет. – Он добродушно рассмеялся и снова достал платок. – Я немного занимаюсь историей для собственного удовольствия, как дилетант. Может быть, потому, что у меня слишком точная профессия, история в этом смысле является прямой противоположностью, ха-ха-ха! Я, видите ли, читаю курс гидродинамики в одном из технических колледжей.
– Господи, – сказала Беатрис, – это еще что такое?
– Это раздел механики, рассматривающий законы движения жидкостей. Вы разве не учили физику?
– Терпеть ее не могла, никогда не знала больше чем на шестерку. И то профессор меня просто жалел.
– Пожалуй, – подумав, сказал он, – это действительно не женское дело. У меня было несколько студенток, в разное время, но как-то из них ничего не вышло. Я подозреваю, они просто оригинальничали. Однако становится жарко… Жаль, что здесь не торгуют пивом.
– Скажите, мсье… – нерешительно проговорила Беатрис.
– Роже, – подсказал он. – Меня зовут Роже.
Беатрис поблагодарила и представилась в свою очередь. Роже смотрел на нее выжидающе:
– Вы о чем-то хотели меня спросить?
– Да, но… Нет, это, собственно, пустяк, – быстро сказала Беатрис. – Действительно, здесь очень тепло. Но приятно, – я не люблю холода.
– Еще бы, приехав из Аргентины. А у вас там сейчас жарко и в прямом смысле, и в переносном, верно?
– Да, – рассеянно кивнула Беатрис и потом удивилась: – Почему «в переносном»?
– Ну, я имею в виду вчерашние события, – пояснил Роже.
– А, ну да. – Беатрис помолчала, потом спросила: – А что, вчера произошли какие-нибудь события?
Вы разве не читаете газет?
– Господи, еще чего…
– И радио никогда не слушаете?
– Нет, ну почему же. Иногда слушаю – музыку, но как только начинается болтовня, я выключаю. Еще не хватает слушать о «событиях»! Но вы сказали – в Аргентине?
– Да, там у вас, похоже, какие-то крупные беспорядки.
– Серьезно?
– «Так вот почему Кларина приятельница беспокоилась за своего шефа, – подумала Беатрис. – Ну да, она же сказала – он в Буэнос-Айресе…»
– А что именно, мсье Роже, какая-нибудь забастовка?
– Нет, речь идет о попытке переворота. Армейский путч, насколько я понимаю.
– Ах вот что. Ну, это, наверное, опять какая-нибудь глупость вроде июньской, – ответила Беатрис, со скукой глядя на зубчатую башенку над воротами. – Господи, как мне все это надоело…
– Со стороны, конечно, трудно судить, – сказал Роже, – но газеты придают вчерашним событиям серьезное значение. Восстания начались сразу в нескольких городах, кроме Буэнос-Айреса. А что, вы говорите, вам надоело, мисс Альварадо?
– Да все вообще, – вздохнула Беатрис. Она достала из кармана брюк горсть каштанов и предложила своему собеседнику. Тот съел один и со вздохом отказался от остальных, сославшись на печень. Беатрис принялась швырять каштаны через ров, целя в дуплистый пень у самой стены.
– Вы богаты, ленивы и эгоистичны, – задумчиво сказал вдруг Роже, словно продолжая начатую уже речь. – Людям вашего склада чаще всего свойственна именно эта поза – «мне все надоело».
Беатрис, не бросив очередного каштана, опустила руку и посмотрела на собеседника с изумлением. Потом она покраснела.
– Откуда вы взяли, что я богата? – сказала она запальчиво. – И относительно лени и эгоизма – не думаю, чтобы я в этом смысле была хуже других…
– Богатство, разумеется, вещь относительная, – кивнул Роже. – Но девушку, которая имеет возможность ездить по свету без определенных целей, бедной, во всяком случае, не назовешь. Что касается других ваших качеств, мисс Альварадо, то я мог, разумеется, ошибиться. Вам они действительно не свойственны – ни лень, я хочу сказать, ни эгоизм?
Беатрис повернула голову и встретила его взгляд, добродушный и в то же время внимательный. Она снова отвернулась, обхватив руками поднятые колени, и пожала плечами:
– Не знаю, мсье Роже. Я думаю только, что вы принимаете меня за кого-то другого. Тип людей, о котором вы говорите, мне знаком, но я никогда к нему не принадлежала. Если я говорю, что мне все надоело, то, поверьте, это не от снобизма. Неужели вы и в самом деле считаете, что для счастья достаточно молодости и небольшой суммы денег?
– Нет, конечно, я так не считаю, – сказал Роже. – Признаться, я никогда не занимался специально этим вопросом, тем более что в моем возрасте проблема счастья представляется не столь уж важной. Но кое-какие мысли мне, конечно, приходили иногда в голову. Мне думается, мисс Альварадо, что человек может чувствовать себя счастливым при наличии двух качеств: доброты и мужества. Если ваши слова о том, что вам «все надоело», не были сказаны просто так, следуя модному теперь поветрию, то очевидно, что вы не обладаете ни мужеством, ни добротой. Я говорю о настоящей доброте, которая заставляет человека делать добро, а не о том ее подобии, которое может лишь удержать от соучастия в зле. Плюс к этому необходимо, как я сказал, еще и мужество, чтобы не отчаиваться при взгляде на окружающее.
Беатрис помолчала, потом проговорила медленно, словно нехотя:
– Доброта не спасает от несчастий, мсье Роже… И я не знаю, какое нужно мужество, чтобы переносить их не отчаиваясь.
– Очень большое, мисс Альварадо, – согласился он. – А разве счастье такая уж безделица, что можно прийти к нему легким путем? Но мы говорим сейчас не о том, о чем следует. Вы, очевидно, испытали какое-то серьезное потрясение, может быть, даже несчастье. Смешно было бы давать вам сейчас советы – как быть счастливой. Речь не об этом, мисс Альварадо. Речь идет о том, чтобы не чувствовать себя бесконечно и безнадежно несчастной. Вас может удивить, почему я так к вам пристал, но дело в том, что я постоянно имею дело с молодежью и очень ею интересуюсь… как старый человек, которому уже недалеко до смерти и которому любопытно знать – кто сменит его на земле. Молодежь находится сейчас в страшном положении, мисс Альварадо. Никогда еще не было эпохи, где процесс распада внутриобщественных связей зашел бы так далеко, как мы видим сегодня. Не знаю, приходилось ли вам задумываться над этим. Вряд ли, молодежь это не интересует…
Беатрис слушала говорливого профессора, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками. То, что он говорил, не особенно ее интересовало – в этом Роже был прав. К тому же, это не было и особенно новым – все это она слышала и читала уже не раз. Насчет доброты и мужества, правда, он сказал хорошо, но это опять-таки почти хрестоматийная истина. Красивые слова, не больше.
– В сущности, – продолжал Роже, – у вас не осталось ни одной из тех ценностей, на которых держалось в свое время миропонимание нашего поколения. Я далек от мысли утверждать, что это миропонимание было истинным или что мы ни в чем не ошибались…
– Еще бы вы это утверждали, – усмехнувшись, перебила его Беатрис. – Вам не кажется, профессор, что ваше поколение отчасти несет ответственность за то, что происходит с моим?
– Отчасти, – согласился тот. – Но только отчасти, мисс Альварадо. Вы сейчас повторяете очень избитое обвинение, хотя, скажу еще раз, отчасти и справедливое. Кстати, я думаю, что еще не было поколения, которое не обращалось бы к предыдущему с такими же точно упреками, поэтому – если рассуждать логично – обвинять следует не только одно наше, а и все предыдущие, но совершенно справедливо говорится, что обвинять всех – значит не обвинять никого. Но мы опять уклонились. Не все ли равно – кто в чем виноват? Мы ведь никого не судим, мисс Альварадо. Мы просто констатируем факты и пытаемся, исходя из них и применяясь к ним, найти какой-то modus vivendi.
– Я предпочитаю ни к чему не применяться, – сказала Беатрис.
– Но как же вы в таком случае намерены жить?
Беатрис пожала плечами и ничего не ответила. Роже смотрел на нее, склонив голову немного набок, словно прислушиваясь.
– Разумеется, у вас положение особое, – сказал он наконец. – На вопрос «Как вы собираетесь жить?» вы имеете возможность молча пожать плечами, и это будет исчерпывающим ответом. Но представьте себя в положении одной из тех миллионов девушек вашего возраста, у которых есть в жизни определенные и неизбежные обязанности. Представьте себе, что у вас есть старики родители и младшие братья или сестры, которых вы должны содержать. Можете вы представить себя в таком положении? Мне кажется, для вас многое выглядело бы совсем иначе, чем сейчас, когда вы изнываете от безделья.
Беатрис вспыхнула, но овладела собой и отвернулась.
– Вы рассуждаете сейчас, как какой-нибудь коммунист, – сказала она сдержанно, глядя в сторону. – У меня здесь есть один знакомый… Вообще разумный человек, но становится совершенно невменяемым, как только речь заходит о труде. У него все просто и ясно: работай, и все остальное приложится. И ценность человека определяется только тем, работает он или нет…
Роже улыбнулся:
– Я далек от мысли утверждать, что вы непременно стали бы лучше, будь у вас необходимость работать, я говорю лишь, что в этом случае жизнь имела бы для вас большую ценность, чем, по-видимому, имеет сейчас.
– Не понимаю почему. – Беатрис пожала плечами. – Имела бы большую ценность? Но почему? Разве окружающее может стать лучше или хуже в зависимости от того, какое положение я в нем занимаю?
– Объективно – нет. Но меняется ваше субъективное восприятие этого окружающего и ваша субъективная оценка. Иными словами – ваше отношение к жизни. Один из самых странных социологических парадоксов состоит в том, мисс Альварадо, что наибольшим жизнелюбием обладают именно те общественные группы, которые жизнь воспринимают с самой трудной стороны… Они более жизнелюбивы, жизнерадостны, жизнеспособны.
– В этом, может быть, и нет никакого парадокса, – возразила Беатрис. – Богатство ведет к пресыщению – это я знаю. Но, мсье Роже, повторяю: я вовсе не богата! Отец у меня такой же преподаватель, как и вы. Конечно, я не знала нужды, но у нас никогда не было столько денег, чтобы я могла удовлетворять свои прихоти. Мне кажется, это даже примитивно – сводить все к деньгам!
– Допустим. А к чему сводите вы?
– К тому, что все вокруг слишком гнусно, – горячо сказала Беатрис. – Я не знаю, может быть, старшие этого уже и не замечают, но мы видим. Может быть, вы хотите сказать, что если человек работает, то ему не остается времени на подобные наблюдения? Я этого не думаю…
– Я не говорил такой глупости, мисс Альварадо.
– Простите, мсье Роже. – Беатрис смутилась. – Но если все одинаково видят мерзость жизни, то почему же разные общественные группы, как вы сказали, по-разному на это реагируют?
Роже покачал головой:
– «Мерзость жизни»… Какое неправильное и кощунственное определение! Я старше вас в три раза, по меньшей мере, но я никогда не осмелюсь сказать то, что сейчас сказали вы. Нет никакой «мерзости жизни», есть мерзость условий человеческого существования, созданная самими людьми. И реагируют на нее по-разному, совершенно верно. Тот, кто привык преодолевать трудности, хотя бы мелкие и повседневные, знает, что всякое зло преодолимо. А вам зло кажется всемогущим и несокрушимым… Может быть, потому, – я не знаю вашей жизни, – что вы подошли к нему слишком близко. Когда стоишь у подножия холмика, он может заслонить солнце…
– Если бы это был только холмик, – усмехнулась Беатрис. Она сидела с опущенной головой, разгребая прутиком сухие листья. – Неужели вам, мсье Роже, ни разу в жизни не случалось почувствовать себя не перед холмиком, нет, а перед стеной, в замкнутой ограде, понимаете?
– Понимаю, – кивнул Роже. – Четырнадцать лет назад мне удалось бежать из немецкого лагеря… Так что, представьте себе, некоторое понятие об оградах я имею. И вы напрасно пожимаете плечами! Я отношусь с полным сочувствием к вашим переживаниям, но материальная ограда из колючей проволоки под током – это, поверьте, не самое пустяковое из препятствий, которые могут встретиться в жизни. Если хотите, истинная ценность человека этим и проверяется – препятствиями, оградами… Это как фильтр, задерживающий слабых и ни к чему не годных…
– Вы ставите знак равенства между этими двумя категориями? Нельзя сказать, чтобы это звучало человеколюбиво, – сухо сказала Беатрис. – Отсюда недалеко до практики тех же немцев… Я слышала, они убивали неизлечимо больных? Что ж, принцип тот же!
– Принципом это было для немцев, – возразил Роже. – Для меня это лишь констатация печального факта. Слабые люди, к сожалению, действительно оказываются очень часто ни к чему не годными. Это не значит, однако, что их следует убивать.
– Что же вы предлагаете с ними делать? – спросила Беатрис вызывающим тоном.
– Убеждать их.
– Убеждать – в чем?!
– В том, что всякая слабость преодолима. В том, что, если вы позовете, всегда найдется кто-то более сильный, чтобы вам помочь. Слабость, по сути дела, представляет собой лишь одну из форм одиночества. Кстати, из лагеря я бежал не один, сделать это в одиночку было немыслимо. Нас бежало пятеро, мисс Альварадо. Пятеро, из которых спаслось трое.
Беатрис долго молчала,
– Пусть мои слова не покажутся вам кощунством, – сказала она тихо, – но я думаю, что иногда бежать из-за колючей проволоки легче, чем вырваться из той ограды, которую имею в виду я. Из ограды одиночества… неверия в возможность для человека что-то сделать… как-то изменить жизнь к лучшему… Ваш побег – это был подвиг, а подвиг всегда легче…
– Безусловно, – закивал Роже, – безусловно. В этом вы отчасти правы: иногда бывает легче совершить подвиг. Скажем, когда выбор возможностей ограничен – или смерть медленная и мучительная, или смерть быстрая, но плюс к этому еще и некоторый шанс остаться в живых и на свободе. Тут уж раздумывать не станешь. Ваше положение труднее в том смысле, что перед вами больший выбор. И для того, чтобы решиться ступить за эту вашу ограду, вам пришлось бы отказаться от очень удобной, ни к чему не обязывающей позиции. Ну что ж! Вам жить, мисс Альварадо, вам и решать.
Роже посидел еще несколько минут, потом взглянул на часы и тяжело поднялся. «Мне пора, к сожалению, – сказал он, – прощайте и подумайте хорошо над моими словами – как-нибудь на досуге».
Беатрис осталась одна. Набежавшее облако на минуту скрыло солнце, потом горячий свет снова залил кирпичную стену, темную зелень плюща, желтые и красные листья на земле. Над воротами, вокруг выщербленных временем зубцов, ласточки стремительно чертили свои ломаные орбиты.
Беатрис смотрела на ласточек и думала о том, что самое яркое и острое воспоминание ее детства – это такие вот ласточки, реющие в солнечной синеве вокруг старой колокольни конвента; о том, что тогда она не могла смотреть на них без какого-то странного чувства, всегда возникавшего мгновенным головокружением, потом, пробежав ознобом по спине, таявшего в груди сладкой и томительной судорогой, а теперь смотрит и ничего не испытывает, ничего, кроме горькой зависти к этим легким и беззаботным созданиям; она думала о том, что всегда хотела прожить жизнь бездумно и беззаботно, как птица, и что прав Роже, назвавший ее ленивой эгоисткой, и что его мысли до ужаса совпадают с тем, что писал ей Джерри, и что теперь она сама не знает – было ли ее чувство к Джерри настоящей любовью или просто страстью, потому что настоящая любовь должна была бы сделать для нее священным законом каждое слово любимого, в то время как она всем своим поведением, каждой своей мыслью нарушает последнюю его волю…
Она просидела так еще около часа, пока опять не испортилась погода. Скрылось солнце, парк сразу стал неуютным: в воздухе закружились сорванные ветром листья, заскрипели каштаны. Беатрис едва успела дойти до остановки и вскочить в подошедший трамвай, как полил дождь. Впрочем, он кончился раньше, чем она доехала до Южного вокзала.
В городе она прежде всего отправилась за газетами. Ей удалось купить «Суар» и «Либр Бельжик»; сообщения о заокеанских событиях были на первой странице. Первым, что бросилось Беатрис в глаза, был крупный кричащий заголовок: «СТУДЕНТЫ ПРОТИВ ДИКТАТУРЫ. Ожесточенные уличные бои продолжаются со вчерашнего утра в Кордове – старейшем университетском городе Аргентины».
8
До войны местечко с названием Уиллоу-Спрингс можно было отыскать лишь на очень подробных дорожных картах восточной части Новой Мексики, почти на границе штата. Сами жители уверяли себя и других, что живут в городке, но по-настоящему это был просто поселок – один из тех пастушьих поселков, которые здесь, как и в соседнем Техасе, вырастали посреди прерии в утеху окрестным скотоводам. К концу тридцатых годов в Уиллоу-Спрингс было пятнадцать тысяч жителей, банк, несколько неоновых вывесок на Мэйн-стрит, аптека и два отчаянно конкурирующих автомобильных агентства. Дальше этого цивилизация не пошла.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.