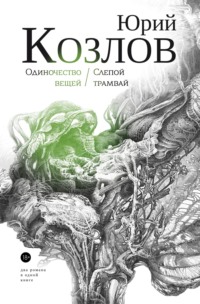
Одиночество вещей. Слепой трамвай. Том 1.
Не только космическое шаровое качение было суждено увидеть Леону, но и миллиарды нитей, куда более тонких, чем паутина на стекле-калейдоскопе, длинными, едва видимыми бородами соединяющих планеты, но при этом решительно никак не влияющих на направление и ритм их движения. Планеты и бороды-нити находились в разных, как жизнь и смерть, энергетических мирах. Их соединяла воля, господствующая над всеми мирами, объединяющая несоединимое. Леон видел, как она их соединяет, разъединяя, как если бы видел бессмертную душу, отделяющуюся от смертного тела, то есть то, что видеть не дано.
Нити вытягивались и обрывались. На месте оборванных тотчас возникали новые, ни одна не висела оборванной, что свидетельствовало о своеобразном порядке. Нити были разные: хрустальные, золотые, серебряные, красные, белые, светящиеся, темные, искрящиеся, как замкнувшиеся электропровода, горящие, как бикфордовы шнуры, льющиеся, как расплавленный металл. Сначала сознание отмечало фантастическое их многообразие, а уж затем абсолютную подчиненность ходу планет.
«Оправдание астрологии» – так можно было назвать эту картину. Чуть смещался один из плывущих шаров, и величайшее смятение происходило в нитях: тысячи их обрывались, а какие не обрывались, меняли цвет и качество, вплетались в совершенно иные подвижные нитяные гобелены.
«В чем смысл? – подумал Леон. – Видеть ход планет, знать, что все мы нити в Божьей пряже, в этом нет большого смысла».
И вдруг увидел, как золотые искры-точки собрались в золотой же пчелиный рой, рой составился в точечную, как древнеегипетское изображение, руку, пальцы руки бережно выбрали из разноцветного и разнокачественного мнимого хаоса дорогую им нить, и за мгновение до очередного смещения планет переместили избранницу в иную плоскость. Таким образом она уцелела, хотя ей было назначено прерваться вместе с тысячами, оставшимися на прежнем месте.
«В этом есть смысл, – успел согласиться Леон, – напрасно я не верил в астрологию».
Тут же вновь очутился в свинцовом мраке, только на сей раз с явственными признаками, по крайней мере, одной из пар пифагоровых онтологических принципов, а именно верх – низ. Леон совершенно определенно летел вниз, и его спасение заключалось в том, чтобы схватить летящую ему навстречу вверх золотую искру-точку, по мере приближения обнаруживающую очертания маленького квадратика. К загадочному квадратику была устремлена трепещущая душа Леона. Несколько раз он пытался ухватить. Но квадратик, подобно солнечному зайчику, проходил сквозь бестелесную Леонову руку-сито. Леон вдруг подумал, что свинцовый мрак – это дуло ружья, хранящегося у него под кроватью. Но что тогда светящийся во мраке квадратик? Неужто пуля? Или наоборот – жизнь? Изловчившись, растопырил пятерню навстречу ускользающему светящемуся квадратику, и – о, счастье! – на сей раз удалось! Да, вне всяких сомнений, то была жизнь.
Потому что в следующее мгновение Леон обнаружил себя сидящим над пустой рюмкой в «Кутузове» рядом с Катей Хабло.
– Ну как? – спросила Катя.
– Я был неправ, – пробормотал Леон, удивляясь странному ощущению, что астрологический предмет по-прежнему у него в руке. Не веря, поднес сжатый кулак к глазам, осторожно, как будто там была готовая улететь бабочка, разжал пальцы. На ладони лежали талоны на приобретение «Азбуки секса» Дж. – Г. Пирса и романа «Отец» А. Дюма.
Светящийся квадратик оказался звоном будильника, вплетенным в мгновенный утренний (дневной?) сон.
– Я мигом, – поднялся из-за стола, ласково потрепал Катю по щеке Леон, – одна нога здесь, другая там, не скучай!
– Я никогда не скучаю, – ответила Катя. – У меня всегда одна нога здесь, другая там.
Прозвучало двусмысленно, хотя Леон знал, что именно она имела в виду.
– Эй, рыженькая! – щелкнул пальцами, пролетая мимо стойки. – Если девочка попросит, плесни, о кей? – по исполненному гневного изумления взгляду рыжей барменши понял, что та до сих пор не подозревала об их присутствии в заведении. – Я с Валериком расплатился, – рассмеялся Леон, – я всегда плачу вперед.
Через пару минут он был в книжном магазине «Высшая школа».
Периодически промышлявшая здесь ободранная бабушка (сердце ее принадлежало пустым бутылкам, но не брезговала она и макулатурой, и прочим вторсырьем, включая такое экзотическое, как моча беременных женщин) как раз получала от почтенного гражданина в очках и в шляпе (советского интеллигента) два червонца за толстого зеленого Солженицына.
Произведя нехитрое математическое действие (книга стоила семь рублей), Леон установил косвенную цену талона – тринадцать рублей. Но следовало учитывать то обстоятельство, что ободранная бутылочно-сырьевая бабушка продавала непосредственно книгу, то есть товар. Леон же – право на приобретение товара, то есть своего рода вексель. К тому же его талоны имели мятый, непрезентабельный вид. Да и продать их можно было только знающему человеку. Многие из стоящих в магазине плохо разбирались в талонах.
Леон сунулся было к печальной, одинокой женщине, задумчиво поглядывающей на «Азбуку секса», но она оказалась из тех, кто повсюду подозревает обман, а потому почти всегда упускает собственную выгоду. Не только в книжных делах. Внимательнейшим образом изучив талон, дама тонко улыбнулась, дав понять Леону, что ее не проведешь, вернула.
– Вы не волнуйтесь, – доверительно сказал Леон, – отдадите деньги, когда возьмете книгу. Я уступаю очень дешево.
Но дама только плотнее прижала к себе сумочку.
Не состоялась продажа талонов и спортивноватому, в шапочке-петушке мужчине, хотя тот изъявил стопроцентную готовность. Леон еще только излагал условия, а дядя уже согласно кивал, улыбчиво поглядывая на Леона.
– Как-как, говоришь, фамилия этого? Дюба? – задал он странноватый для посетителя книжного магазина вопрос.
Леон понял: нет разницы, отдать ли чек в винном магазине алкашу, здесь – талоны спортивноватому дяде.
– Меня ждут, я сейчас! – бочком протиснулся к выходу. Где, с грустью подумал Леон на проспекте, где золотая рука, направляющая мою нить?
Золотой, направляющей нить руки не было.
Леон как-то враз смирился, что талоны не продать.
Решил вообще не возвращаться в «Кутузов».
Вспомнил про ружье под кроватью. Раньше удерживало, что не все в жизни изведал. К примеру, водки не пил. Нынче выпил. Но это было не то, ради чего стоило оставаться. Главное, подумал Леон, наиглавнейшее. Как без этого? Мне скоро исполнится пятнадцать лет.
Он обратил внимание, что из подворотни ему делает знаки некий Дима – человекообразное существо двухметрового роста, весом в два центнера, поросшее густым черным волосом, с явными признаками вырождения или душевного заболевания на огромном, как страшная карнавальная маска, лице.
Несмотря на, мягко говоря, нерасполагающую внешность, Дима успешно занимался книжным бизнесом. Более того, разбирался в книгах, по-своему их любил. Первейшим для него делом было сразу насмерть не перепугать потенциального покупателя, которому трудненько было распознать в Диме знатока литературы и букиниста. Дима обычно держал в руках, как декларацию о намерениях, какое-нибудь дефицитное издание, скажем, «Так говорил Заратустра» Ницше или «Современный американский детектив».
Леону приходилось вступать с Димой в деловые отношения. Дима выказывал себя толковым и ненаглым партнером. Он был неглуп, разговаривая с Димой, Леон забывал про его не вполне человеческую внешность.
Еще на заре перестройки, когда не было человека хуже Сталина, Дима высказал соображение, что собрание сочинений Сталина – самовозрастающий капитал.
Леон подумал, что Дима преувеличивает, но недавно наткнулся на объявление в «Книжном обозрении»: «Куплю прижизненное собрание сочинений Сталина. Цена значения не имеет. А. Гогоберидзе, Тбилиси».
«Плюсквамперфектум, давно прошедшее, как говорят немцы, – усмехнулся Дима, когда Леон рассказал ему про объявление. – Полный прижизненный Сталин сейчас идет за доллары». – «Отчего же не переиздадут?» – удивился Леон. «Так, как раньше, нынешним безграмотным ублюдкам не издать, – ответил Дима. – В старых книгах овеществлена эпоха, а в нынешних – стремление слупить деньгу. Кто хочет Сталина, хочет настоящего Сталина, не станет брать дешевку».
Вероятно, Дима занимался не одной лишь книжной торговлей. Какие-то еще мгновенные операции он проводил в подворотне, в беседке соседнего дома. Но это уже не касалось Леона.
– Сложности? – Дима протянул руку.
Рука Леона ушла в его руку, как в мягкую, не очень чистую подушку.
– Да вот, – Леон показал талоны.
– Ну и?
– Оба за четвертак. Я спешу, – вздохнул Леон.
– Не смею задерживать, – ответил Дима. Разговор, таким образом, был закончен. Но и Леон и Дима знали, что это не так.
Леон пошел прочь из подворотни, рассчитывая, если Дима не окликнет раньше, остановиться через семь шагов, оскорбленно крикнуть: «Сколько? Ну!»
Дима окликнул на шестом шаге.
Они миновали подворотню, устроились во дворе в беседке.
– Я бы элементарно толкнул и за тридцатник, – сказал Леон, – только нет времени. Девица ждет в «Кутузове» с пустым стаканом.
Лицо Димы пришло в движение, и Леон неуместно и грязно задумался: как, интересно, обстоят делишки с девицами у Димы?
– Сам Бог послал меня тебе, – порывшись в огромном, не иначе как изготовленном в прошлом веке народовольцами для переноски тогдашних несовершенных бомб, портфеле, Дима извлек бутылку «Калгановой горькой».
Леон подумал, что Дима заблуждается насчет Бога. Или не заблуждается. Просто пока еще не принято говорить: «Сам сатана послал меня тебе».
Конечно же, был соблазн немедленно обменять талоны на «Калгановую». По количеству спиртного и градусам эта бутылка значительно превосходила все, что (при самой удачной реализации талонов) Леон сможет заказать (если может) в грабительском «Кутузове». Но… где пить? В «Кутузове» вряд ли. Не в подъезде же угощать Катю Хабло? Ладно бы французским шампанским или португальским портвейном, но не «Калгановой» же горькой! Леон почувствовал себя невольником чести.
– Двадцать три, – сказал он упавшим голосом, – бери их за двадцать три, Дима, – протянул ладонь, на которой, как бабочки с поникшими крыльями, лежали талоны.
– Двадцать, – вздохнул Дима, – исключительно из уважения к тебе. Понимаю: разливать в баре под столом несолидно. Кто разливает под столом, не ходит в бар. Но мы живем в мире смещающихся понятий. Я бы мог толкнуть ночью «Калгановую» любому таксисту за полсотни. А талоны? Кому нужны ночью талоны?
Сраженный этой простой, как все гениальное, мыслью, Леон сам не заметил, как отдал талоны, взял два червонца. И только потом подумал, что предполагаемая высокая ночная цена на «Калгановую» у таксистов решительно никак не связана с навязанной Димой низкой дневной ценой на книжные талоны.
– В сущности, наш спор о пяти рублях смешон, – Дима уже относился к действительности как всякий, только что поимевший пусть небольшую, но выгоду, то есть иронично-пессимистично, как она, действительность, того и заслуживала. – Гораздо смешнее, чем спор об унтере Грише, есть такая книга, я, правда, не читал. Пять рублей в нынешней жизни – ничто!
– То-то ты торговался, – Леон посмотрел на часы. Как выбежал из бара, казалось, целую жизнь прожил, а минуло всего семь с половиной минут.
– Пять рублей ничто, – между тем загадочно продолжил Дима, – два раза по пять – опять же ничто, ничто плюс ничто равняется ничто, то есть червонцу, что одно и то же, – весело подмигнул Леону. – Даже не знаю: почему хочу тебя выручить? Ты мне не друг, не брат.
– Не сват, – Леон догадался, что в народовольческом портфеле есть еще что-то и за это «что-то» Дима хочет поиметь с него десятку.
– СПИДа не боишься?
– СПИДа? – растерялся Леон.
– Времена нынче, – покачал головой Дима, – а ты парень горячий.
– Огонь, – Леон зачарованно следил, как подушечная Димина рука тонет в портфеле.
– Твой размерчик, – расправил блюдо-ладонь Дима. Там лежали два красивых ярких пакетика, определенно иностранного производства. – В каждом по паре, – пояснил Дима, – как Бог заповедал, каждой твари по паре. Гарантированный противоспидовый комплект. Грузины по стольнику отваливают, а я всего за червонец хочу спасти твою молодую душу.
Леон подумал, что только такого – за червонец – спасителя и мог послать ему Бог, имя которого Дима уже истрепал всуе.
– Хватай, пока я не передумал! Такие штуки раскрепощают, тысяча и одна ночь!
С одной стороны, Леону было лестно, что Дима (хоть Леон и понимал, что это не так) считает его парнем, который не просто так сидит с девушкой в баре. С другой – понимал, что вряд ли ему понадобятся иностранные, должно быть, в самом деле надежно предохраняющие от СПИДа изделия. Какой-то тут был перебор. Двадцать два. Катя Хабло совершенно не производила впечатление злостной носительницы вируса СПИДа. Если, конечно, ее не заразили в роддоме или в больнице. Но тогда бы она вряд ли дожила до пятнадцати лет. Не отделаться было от ощущения, что святое дело – благодарение – вырождается в мерзопакостный фарс.
– Спасибо, Дима, – с трудом, как шлагбаум на переезде, отвел Леон тяжелую протянутую руку. – В случае чего воспользуюсь советскими. Они дешевле.
– На каждом переезде есть щит, – мистически продолжил железнодорожную тему Дима, – «Выиграешь минуту – потеряешь жизнь». Но бегут. Так и тут. Червонец дороже жизни. Отчего человек так равнодушен к собственной жизни?
Леон решил оставить Диму в беседке размышлять над вечным этим вопросом, но тот с неожиданным проворством выхватил из портфеля какой-то тюбик, добавил к лежащим на ладони пакетикам.
– Выручать так выручать, – вздохнул Дима, – по дружбе так по дружбе. Это подарок. Давай червонец и забирай! Пока я не передумал!
– Это что? – Леон, как дикарь к бусам, потянулся к разноцветному тюбику с надписью, которую можно было перевести на русский как «Препарат X».
– Стимулирующая паста, – ухмыльнулся Дима, – вводишь девчонке и…
– Вводишь? – удивился Леон. – Каким образом?
– Там написано, – Дима поднес ладонь к глазам-биноклям, выказал себя изрядно сведущим в (английском?) языке. – Паста X наносится тонким слоем на презерватив либо вводится непосредственно во влагалище. И девчонка превращается в зверя, – добавил от себя.
– Ты пробовал? – покосился на Диму Леон.
– Понимаешь, какая штука, – доверительно склонился Дима, – никак не могу подобрать.
Леон в ужасе отшатнулся, не желая слушать, чего именно не может Дима подобрать. Как загипнотизированный, протянул руку. Яркие пакетики и тюбик с Диминой ладони-подноса пересыпались на ладонь Леона. Леон подумал, что его снобизм нехорош. Ведь сам спросил у Димы. Но так уж устроен человек. Согрешит в мыслях (или не в мыслях) – и в кусты.
Теперь Леон мог внимательно рассмотреть выполненные в стиле комиксов рисунки на пакетиках. Один – как надевать изделие на… язык – озадачил и смутил Леона.
– А ты думал, – усмехнулся Дима. – Язык тоже орудие… пролетариата!
– Не спутать бы, – пробормотал Леон, – когда буду наносить тонким слоем пасту.
– Брезгливость в интимных отношениях, – Дима выказал себя внимательным читателем «Азбуки секса» неведомого Дж.-Г. Пирса, – не что иное, как бескультурье! Эти современные девчонки, – снова полез в бездонный похабный (лучше бы, как народоволец, носил в нем бомбу!) портфель, – у меня тут…
Леон быстро сунул Диме червонец и, не дожидаясь, пока он извлечет из портфеля очередную диковинку, покинул беседку.
Отворяя тяжелую дверь «Кутузова», Леон подумал, что денег у него сейчас на рубль меньше. Воистину, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Чего не скажешь о двери. Но обстоятельство, что денег на рубль меньше (а не то, что дважды нельзя войти в мифическую древнегреческую реку), не сильно огорчило Леона. Почему-то он был уверен, что приобретенные вещи совершенно свободно, как доллар с маркой, конвертируются со спиртными напитками.
Бар был по-прежнему пуст.
Рыжая барменша разговаривала в подсобке по телефону. «Да? – услышал Леон сквозь приоткрытую дверь недовольный ее голос. – В гробу я это видела!»
То, что невидимый абонент сообщал барменше не самые приятные новости, ставило под сомнение дальнейшее – и без того на птичьих правах – нахождение в баре Кати и Леона. Людям свойственно срывать зло на других. Как правило, зависимых от них. Вряд ли бармены вообще и рыжая толстогубая барменша в частности являлись тут исключением.
– Анабазис прошел успешно? Нас выгоняют, – подтвердила Катя Хабло.
Леон с трудом припомнил, что так называлось сочинение древнего историка Ксенофонта о возвращении наемного греческого отряда из глубин Персии. Самого сочинения Леон не читал. Но не зря, не зря листал Философский энциклопедический словарь, многократно входил в эту сомнительную реку. Во время анабазиса греки не только сражались, но и торговали с дикарями.
– Вполне, – Леон подумал, что очень даже вполне. Он избежал сражения, совершил торговый обмен, благополучно вернулся. – Хорошо бы нам теперь продолжить.
– Черта лысого вы тут у меня продолжите! – рыжая барменша подкралась незаметно и теперь наслаждалась произведенным эффектом.
Я думал, она хоть черту лысому нальет, удивился Леон, но черта лысого я думал, что она нас выгонит!
– Вон отсюда! – барменша находилась во власти низменных инстинктов. Самое удивительное, она не только им не противилась, но, напротив, разжигала в себе. У нее было искаженное представление о жизни. Она получала удовольствие, оскорбляя других.
Тут зазвонил телефон, и ей пришлось вернуться в подсобку.
«Да, – недовольно (видимо, она всегда разговаривала по телефону недовольно) рявкнула в трубку. И после долгой паузы (опять недовольно): – Беру. Ты же знаешь, я всегда все беру!»
– Вы еще здесь? – выскочила как ошпаренная из подсобки.
Как будто Леон и Катя были дымом и могли раствориться в воздухе за пять секунд телефонного разговора.
Сказанное «все беру» давало призрачный шанс. Рыжая барменша была настоящим вместилищем порока. Только как ее звать – на «ты» или «вы» – Леон не мог решить.
– Смотри…те, что у меня, – упреждая грозный ее выход, подбежал к стойке. Хотел показать только «Препарат X», а вытащил все разом.
– Косметика? – заинтересовалась барменша.
– Можно и так сказать, – смутился Леон.
Она с изумлением рассматривала изображенный на пакетике язык в резиновом чехольчике. Он был отвратителен, как грязное адское пламя, красный зачехленный язычишка почему-то с крупными пупырышками на конце.
Леон чувствовал себя змеем-искусителем, ввергающим Еву в грех. Только он был вынужденным змеем. Рыжая барменша тоже не очень походила на Еву. А если походила, то не на ту, которую Бог изгнал из рая, а на всласть пожившую на Земле. Такую Еву невозможно было изгнать. Она сама могла изгнать кого угодно откуда угодно.
Что и делала постоянно.
– Сволочь! – завопила она. – Ах ты сволочь! Что это за тюбик?
Назначение остального она, стало быть, уяснила.
– Теперь ты этого никогда не узнаешь, лимитчица! – мстительно отступил от стойки Леон.
Так мог бы ответить Еве змей-искуситель, если бы Ева жадно не вгрызлась в яблоко, а взялась бы гневно и целомудренно топтать его, а заодно и змея.
Библейские сюжеты текли, как реки. Только что Леон был змеем. А вот уже изгоняемый из рая, если допустить, что «Кутузов» – рай, Адам.
Катя Хабло тем временем вышла из негостеприимного рая на проспект. Сквозь приоткрывшуюся дверь внутрь проник косой солнечный луч. То была нить судьбы. Тяжелая бесшумная дверь, как топор, перерубила луч. Делать в баре больше было нечего.
– Сколько? – жившей по принципу «все беру» барменше не понравилась легкость, с какой отказался от сделки Леон. Да и власть ее над ним, уходящим из бара, сделалась призрачной, как власть двери над солнечным лучом. Луч сунется в другую дверь. – Пятерку?
– Пятерки я получаю в школе, – цинично усмехнулся Леон. – Давай, рыжая, бутылку.
Барменша ловко, как фокусник из рукава, поставила на стойку бутылку чернильного «Саперави».
– Его вчера давали в магазине по три семьдесят, – поморщился Леон. – Давай шампанское. Или я ухожу! – шагнул к двери.
– Катись, – спокойно отозвалась барменша.
Но Леон знал, каким лесным пожаром бушует сейчас в ее душе «все беру».
В эту игру он уже сегодня играл с Димой. Взялся за ручку двери.
– Только объясни, – что-то даже человеческое послышалось Леону в голосе рыжей барменши. – Что за тюбик?
Человеческий голос, каким вдруг заговорила барменша, сделал непростым предстоящее объяснение. Леон подумал, что торговля, обмен – древнейшая форма человеческих отношений. Главное тут – взаимная симпатия, благожелательность, а вовсе не подлость, надувательство и обман. Иначе человечество не поднялось бы до торговли, а погрязло в тысячелетней войне. Еще Леон подумал, что в той торговле, какая сейчас развернулась в стране, очень сильны элементы войны. Он чувствовал себя именно таким, военизированным, продавцом, сбывающим сомнительный товарец. Не утешало и что барменша была не из самых простодушных покупательниц. «Мерзость, – подумал Леон, – все мерзость, и я мерзость».
– В общем, так, старуха, – скороговоркой, чтобы быстрее с этим покончить, забормотал Леон, – даешь мужику, чтобы он натер свой. Как корку чесноком. Можно поверх презерватива, можно живьем, и балдеешь. Эротический влагалищный стимулятор, должна бы знать! – Леон не был уверен, что правильно объяснил, но всякие заминки тут были неуместны.
– Боже мой, – испуганно выставила барменша на стойку бутылку шампанского. – Сколько тебе лет? В какой ты ходишь класс?
– В какой надо! – буркнул Леон, пряча бутылку в школьную сумку. – В рабочий класс! – злобно зыркнул на барменшу.
Идучи к двери, затылком ощущал ее скорбный, жалеющий, почти что материнский взгляд. Еще и блудный сын, подумал Леон, которому некуда возвращаться, потому что неоткуда уходить.
Тяжелая дверь «Кутузова» закрылась за Леоном.
На проспекте светило солнце, радиоактивно зеленели листья на деревьях, проносились машины. Редкие посетители входили в аптеку и немедленно выходили. Видимо, презервативы и бандажные пояса закончились. Точно так же – с немедленным выходом – люди входили в винный на другой стороне.
Катя Хабло вроде бы удалялась от Леона по сухому весеннему асфальту. Но медленно. Так уходят, когда не хотят уходить. Леон неожиданно почувствовал, как красива жизнь и одновременно как она уходяща. Он не знал, куда, почему, зачем уходит жизнь. Скорее всего, жизнь уходила от себя и красивой была в сравнении с собой же, какой ей предстояло стать. Грусть Леона происходила оттого, что рыжая барменша заговорила человеческим голосом. Человеческое невидимо путалось под ногами, мешало жить. Леон догадался, что жизнь красива уходящим человеческим. И уходяща – человеческим же.
Он в два прыжка догнал Катю Хабло.
Явилась мысль позвать ее к себе, распить шампанское, а потом уложить на кровать, под которой хранится в чехле разобранное ружье, в свинцовое дуло которого Леон заглядывал, как в некий оптический прибор, показывающий конец перспективы.
Мысль решительно овладевала Леоном. После ее воплощения ничто не могло помешать Леону самому сделаться частью пейзажа конца перспективы.
Разве только родители.
В последнее время преподавание научного коммунизма в высших учебных заведениях разладилось. Родители все больше времени проводили дома. Из их разговоров Леон уяснил, что они не возражали читать курсы чистой философии. Но почему-то студенты не желали слушать чистую философию из уст преподавателей-марксистов. Пока еще родители получали зарплату.
Однако в расписании занятий на следующий год научный коммунизм уже не значился.
Прямо на ходу Леон позвонил из уличного висячего стеклянного ящика домой. Удивительно, ящик был цел, аппарат исправен, гудок явственно различим. Только вот панель с наборным диском была выкрашена из краскораспылителя в черный траурный цвет. Наверное, кто-то, получив от девицы отказ в свидании, взял да и выкрасил с горя панель. Хотя вполне мог к чертовой матери разбить или оторвать трубку. Леон подумал, что бытовая культура, пусть черепашьим шагом, но входит в сознание юношества. Об этом свидетельствовала и сохранность соседнего висячего ящика. Там панель была выкрашена в нежно-розовый (девица согласилась) цвет.
Мать мгновенно схватила трубку, произнесла «да» с такой надеждой, словно ожидала звонка, извещающего, что временная заминка с научным коммунизмом истекла, он вновь наступает по всем фронтам. Или на худой конец восстановлен в правах на следующий семестр.
– Задержусь немного после школы, – сказал Леон, хотя каждый день задерживался сколько хотел и никогда не извещал об этом родителей. – Вы там без меня не скучайте.
Дом отпадал.
«Где?» – подумал Леон.
Катя опять немного ушла вперед и опять не так, как уходит человек, который действительно хочет уйти. Они шли по проспекту в обратную от дома сторону.